Текст книги "Doloroso"
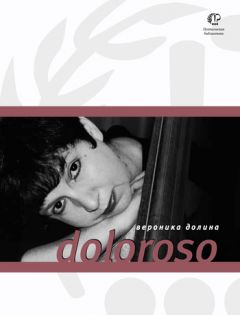
Автор книги: Вероника Долина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
* * *
Люсе
Была еще одна вдова.
О ней забыли.
Ну, может, вспомнили едва,
Как гроб забили.
Она жила невдалеке,
А шла в сторонке.
Был уголок в ее руке
От похоронки.
Она привыкла и смогла
С другим быть рядом.
Она давно уже жила
Иным укладом.
Но день июльский – стынет кровь,
Какой морозный.
Кому бессмертную любовь
В наш век бесслезный?
Его отбросило волной —
Ее прибило.
Она была его женой,
Она любила.
Не приближаясь, стороной
Идет по кромке.
По самой кромке от взрывной
Его воронки.
Была еще одна вдова
В толпе гудящей.
Любовь имеет все права
Быть настоящей.
Друзья, сватья и кумовья —
Не на черта ли?
А ей остались сыновья
С его чертами.
* * *
Отболело, отстучало – отошло.
Обмелело где журчало, где жило.
Стало будто пруд холодный,
Темный пруд.
Много врут о Вас, Володя.
Много врут.
Уложила, укачала след в пыли.
Проводила, помолчала, все ушли.
На пороге, на свободе, на ветру…
Много врут о Вас, Володя.
Я не вру.
Утолиться, утомиться – от и до.
А кладбищенская птица вьет гнездо.
Дотянуться от ограды до лица.
Не мешал бы свет лампады сну птенца.
Выбираю час свободный, день и свет.
Весь наш труд есть пруд холодный,
Тень и след.
Что возьмут с собою годы,
Что сотрут?
Мало врут о Вас, Володя.
Мало врут.
* * *
Былое нельзя воротить, а грядущее катится.
Два бога над нами, два бога: покой и комфорт.
А все-таки жаль, что нельзя Александра Аркадьича
Нечаянно встретить в метро «Аэропорт».
Поэт о своем не болеет, он все – об общественном.
Метелям – мести, а капелям – всегда моросить.
А все-таки жаль, что хотя бы о самом существенном
Его самолично нельзя наконец расспросить.
Мы выйдем на воздух, пройдемся и сядем на лавочку.
И будет бежать и спешить Ленинградский проспект.
Возьмется за сердце и скажет спокойно и ласково:
– Какой же в истории вас беспокоит аспект?
Вот майская веточка – белая, будто на выданье,
Давно позабыла уже о минувшей зиме.
– Простите мне, деточка, – скажет он, – все-то я выдумал!
Куда как прекрасно живется на нашей земле!
Мы с лавочки встанем, на этом беседа закончится.
Я тихо пойду, и покой воцарится в душе.
Мне больше спросить у него ничего не захочется,
А если захочется – я не успею уже.
Былое нельзя воротить, а грядущее катится.
Два бога над нами, два бога: покой и комфорт.
А все-таки жаль, что нельзя Александра Аркадьича
Нечаянно встретить в метро «Аэропорт».
* * *
Я сижу и мучу строчку.
Не выходит, к сожаленью.
А хозяйка мочит бочку.
Вероятно, для соленья.
Столько фруктов – неприлично.
Неприлично, не шучу.
Непривычно, непривычно.
С непривычки – не хочу.
Продается виноград —
Винограду всякий рад.
Я не рада винограду,
Там же косточки подряд.
Продается помидор,
Помидор – чистейший вздор.
Не люблю я помидоры
С малолетства до сих пор!
Продают еще арбуз —
Он один на весь Союз!
Мы с тобою – не верблюды,
Чтоб носить подобный груз.
…Я желаю быть в Москве!
Выхожу себе на дождик.
Сумка в левой, в правой – две.
Это, право же, надежней.
Постою себе часок
За хвостом неторопливым,
И любой тогда кусок
Мне покажется счастливым!
А кавказский рай фруктовый
Доведет нас до сумы!
Мы с тобою – не готовы,
Ни желудки, ни умы.
Ах, зачем, мой милый друг,
Мы поехали на юг?
* * *
Цыганка, цыганочка Аза
Жила тут и зиму и лето.
Теперь тут спортивная база,
Тяжело– и легкоатлеты.
Вон там пробегала в беседку,
Вот тут примеряла наряды.
Теперь тут площадка и сетка,
А также другие снаряды.
Шумели, шумели аллеи,
Отрада хозяйского глаза.
Шалели мужчины, шалели —
Плясала цыганочка Аза.
Москву позабудешь и Питер!
Ты все у меня позабудешь.
Я первый российский кондитер,
Ты первой цыганкою будешь!
Да что это, что это значит?
Шампанское льется и льется.
Цыганка смеется, как плачет,
И плачет, как будто смеется.
В деревне у нас – перемены.
Где старой часовенки конус —
Теперь молодые спортсмены
С утра повышают свой тонус.
Цыганка, цыганочка Аза!
Влюбленный, взбешенный кондитер.
Та самая, самая фраза:
«Поедем-ка, милая, в Питер!..»
Теперь – беговые дорожки.
Теперь – молодые аллеи.
А раньше-то, господи, дрожки!..
А раньше – коней не жалели…
* * *
Н. Матвеевой
Эта маленькая женщина поет.
Эта маленькая женщина поэт!
Ни очнуться, ни проснуться не дает
Ей кораблика далекий силуэт.
И не птичка, и не рыбка —
Под косынкою висок.
Неверна твоя улыбка,
Ненадежен голосок.
Кто велел тебе с шарманкою бродить,
А продать ее за звонкую за медь?
Кто велел тебе сто песенок родить,
А ни дочки, ни сыночка не иметь?
Ни шарманка, ни волынка,
Откровенно говоря…
Пусть тебе морская свинка
Все расскажет про моря!
Ты и с пристани ушла-то на часок,
А тебя закрыли дома на засов.
И устала ты за штопкою носок,
И ссутулилась над стопкой парусов.
Ни морячка, ни рыбачка,
А со лба стираешь соль.
Ты чудачка, ты гордячка!
Ты – премудрая Ассоль…
* * *
Без страха и без риска
Танцуйте в стиле диско!
Пусть будет ваша поступь
Изящна и легка.
Без неги и задора
Взгляните на партнера,
Взгляните на партнера
Немного свысока.
Пусть вам чуть-чуть за тридцать, но
Не чересчур ли пристально
На вас глядит чужой любовник
Или чей-то муж?..
Сочтите за обиду
И не подайте виду,
И не подайте виду,
Что туфли жмут к тому ж…
Пускай вы не в ударе,
Пускай вы не в угаре,
Но вы, танцуя в паре,
Уловите момент —
Присядьте на кушетку,
Возьмите сигаретку,
Зажгите сигаретку
Хорошей марки «Кент».
Пускай дымок колечком,
Пускай дымок колечком,
Пускай дымок колечком
Взлетает, ну и пусть!
Ни словом, ни словечком,
Ни словом, ни словечком,
Ни словом, ни словечком
Не выдавайте грусть…
* * *
Шестидесятые года
Как будто кончились до срока.
А танцевали мы тогда
Один лишь рок по воле рока.
Катятся первые валы,
Веселый Роджер нам смеется.
Но с рок-н-роллами балы —
Как сердце бьется,
О, как сердце бьется!
Шестидесятые года —
Магнитофоннейшая эра.
Шестидесятые года —
Ты превосходнейшая вера!
Покуда слушает собратьев
В воскресенье Маяковский.
Но вот уже воспел Арбат
Один поэт, поэт московский!..
Шестидесятые года —
Парад младенческих улыбок.
Шестидесятые года —
Пора студенческих ошибок.
Шестидесятые года!
Бьют бригантину струи ветра.
Шестидесятые года —
Они уже почти что ретро…
* * *
В стиле ретро, в стиле диско —
Я любой к тебе примерю…
Сядь со мною близко-близко.
Я совсем тебе не верю!
Вот косынка кружевная
С золотистою каймою…
Сядь, поговори со мною.
Сядь, поговори со мною.
В ритме вальса, в ритме танго…
В мой удел не проникая!
У тебя, мой милый, тайна —
Ты не говоришь – какая…
Видишь зеркальце резное
С тонкой ручкой костяною?
Сядь, поговори со мною!
Сядь, поговори со мною…
Будто стороны родные,
Для тебя открыты дали.
Знаю, вороны ночные
Над тобой не пролетали.
И покуда не коснулось
Нас дыханье ледяное —
Сядь, поговори со мною.
Сядь, поговори со мною!
Ставни бьет порывом ветра.
Не могу, мой друг, сердиться.
Пусть уж лучше в стиле ретро
Но не надо в стиле диско!
Не случайно мир я мерю
Грустной мерою земною.
Сядь, поговори со мною —
Может, я тебе поверю.
Фараон

Назвала я эту главу «Фараон». Как же это я так? Так, наверное, не надо было. Но дело было сделано.
И, как из-под песка, я стала медленно выбираться из своей тьмы. Полная тьма наступила в 99 году, когда не стало мамы. И папе оставалось быть со мной еще три года.
* * *
Страницы листаешь, листаешь, листаешь,
листаешь, листаешь.
Страницы листаешь – устанешь к утру.
Купи мне фисташек, фисташек, фисташек,
фисташек, фисташек!
Купи мне фисташек, не то я умру.
Любовь я видала, видала, видала, видала, видала.
Видала, видала – везде она не ко двору.
Купи мне фиалок, фиалок, фиалок, фиалок, фиалок
Купи мне фиалок, не то я умру.
Фисташки, фиалки – чудная короткая ласка.
Как это недорого, как это неглубоко…
Да это фиаско, фиаско, фиаско, фиаско, фиаско,
И жизнь улетает, и пьется легко.
И жизнь улетает, и льется легко.
* * *
Не заметив, что дети предпочли бы тату или пирсинг,
Не заметив, что люди все уехали на Кот-д’Азюр,
Самый твердый на свете пушистый задумчивый персик
Я возьму, надкушу и присяду на пыльный бордюр.
Не заметив, что жизнь оказалась чудным извращенцем,
Не умеющим помнить, не знающим сладких границ,
Я укроюсь китайским прекрасным, как сон, полотенцем,
И цветы там, и фрукты, и перья невиданных птиц.
Дайте жить, дайте петь, отнимите судьбу как проблему,
Опустите как в трюм, отпустите меня как в тюрьму.
Я хотела успеть написать не роман, так поэму…
Но для этого надо очутиться хотя бы в Крыму.
Хорошо бы, чтоб память оказалась конфетной коробкой,
Полной ласковых писем, таких, что вовек не прочтут.
Хорошо бы флакон закрывался фигурною пробкой.
Все потеряно, все. А хрустальная пробочка – тут.
* * *
Как же я забыла любовь, рот-фронт,
Вишня запечатана в шоколад?
Как же я любила тебя, рот в рот.
А теперь целуемся невпопад.
Был же лепесток, был невинный фрукт,
А теперь засахарен – стал цукат.
Вот тебе итог – беспричинный труд,
А не то чтоб мед или слет цикад…
Как же я забыла быть начеку,
И уменье ждать, и взнуздать детей.
А могла б ладонью укрыть щеку
И построить сон хоть из трех частей.
А кровать кровила, никто не спас.
Будто каравелла, пошла на дно.
Я простила сердцу не первый спазм —
Это было больно, да все равно.
Да, во рту горчило, но с той поры
Горло научилось – печет фарфор.
Падал наутилус в тартарары —
Сердце отключилось на счет «файф-фор».
Так я и забыла любовь, рот-фронт.
Вишня запечатана в шоколад.
А ведь я любила тебя рот в рот,
А теперь целуемся невпопад.
* * *
Отпусти меня, пожалуйста, на море.
Отпусти меня, хотя бы раз в году.
Я там камушков зелененьких намою
Или ракушек целехоньких найду…
Что-то камушков морских у нас негусто,
На Тверской среди зимы их не найти.
А отпустишь – я и песенок негрустных
Постараюсь со дна моря принести.
Отпусти меня, пожалуйста, на море!
В январе пообещай мне наперед.
А иначе кто же камушков намоет
Или песенок негромких подберет?
Извини мои оборванные строки,
Я поранилась сама не знаю где.
А поэты – это же единороги,
Иногда они спускаются к воде.
Трудно зверю посреди страны запретов.
Кроме Крыма, больше моря не найти.
Только море еще любит нас, поэтов.
А поэтов вообще-то нет почти.
Нет, достаточно румяных, шустрых, шумных,
Где-то там косая сажень, бровь дугой.
Но нет моих печальных полоумных,
Тех, что камушки катают за щекой.
* * *
Караоке пел тебе хоровод,
Ты один, my sweaty,
Один на свете.
Ну и как ты, как ты, мой фараон?
Как пасутся козы, как резвятся дети?
Твоя женщина, как и была, шустра,
Или боль по чуточке накопилась?
Та, что горше яда, горячей костра,
Невозможно выплеснуть на папирус…
Как живут, my sweaty, твои рабы?
Полагаю сытно и без раздумий.
Что там голос падчерицы-судьбы,
Той, одной из многих иссохших мумий?
Как горят светильники во дворце?
Вдоволь масла, жирны ли твои оливы?
И надсмотрщики с ласкою на лице,
И налогосборщики справедливы?
Караоке пел тебе караван,
Ты один, my sweaty,
Один на свете.
Ну и как ты, как ты, мой фараон?
Как резвятся козы, как пасутся дети?
Бойся новой наложницы, рот с пушком,
Тихий плач – и нежно прильнет, робея.
Бойся гулких залов, ходьбы пешком
И застежки бронзовой – скарабея.
Бойся гулких залов, ходьбы пешком
И застежки бронзовой – скарабея.
* * *
Признавайся себе, что муж – дитя,
Дети злы, родители слабы.
И сама ты стала сто лет спустя
Кем-то вроде базарной бабы.
Не хочу обидеть базарных баб.
Это все прекрасные люди…
Но куда б ни вело меня и когда б —
Всюду вижу огонь в сосуде.
Признавайся, что бредишь, бредешь во мгле.
Дети ропщут, муж дергает бровью…
И бунт назревает на корабле,
А корабль – называли любовью.
А что до веселых базарных баб —
Среди них встречаются пышки.
…Но куда б ни вело ее и когда б —
Ей мерцает огонь в кубышке.
Признавайся! Да ты и призналась – ап!
Потому что пора смириться
С тем, что даже среди голосистых баб
Ты служанка, не императрица.
По утрам ты снимаешь ключи с крючка
С ненормальной мыслью о чуде…
И мерцает огонь, вроде светлячка,
В варикозном твоем сосуде.
* * *
– Але, Оклахома?
– Да, Оклахома.
– Евтушенко дома?
– Да дома он, дома.
– Передайте ему, что поэт в России – меньше, чем поэт.
И вопрос решен, и вопросов нет.
– Але, Оклахома?
– Да, Оклахома.
– Евтушенко дома?
– Да дома он, дома…
* * *
Мой бедный летучий дружочек
Всего-то сделал кружочек,
А жизнь оказалась one way,
Мой бедный дружочек, Ван Вэй.
* * *
Приеду, пойду на Донское.
Донское – родное такое.
Там мама меня ожидает,
И бабушка с дедушкой ждут.
А песен об этом не сложишь,
Попробуешь, да и не сможешь,
И все твои детские песни
В песок и под камни уйдут.
Москва вместе с папой и мамой
Была для меня самой-самой.
А нынче она не такая,
Мне многое не по душе.
Как будто промчалась лавина,
Осталась любви половина.
Да нет, уже не половина,
А меньше и меньше уже.
Послушай, Москва, не толкайся,
Толкнешь еще раз, не раскайся.
Друзей моих всех растолкала,
Ничьи не слышны голоса.
Спровадила всех понемногу,
А я упираюсь, ей-богу,
Мол, знаю другую дорогу,
Дорога ведет в небеса.
Ты знаешь, Москва, иудейство —
Не барство и не лицедейство,
Такая чудная порода,
Бог знает откуда взялась.
Но как же все славно решилось,
Само по себе совершилось:
Золою чуть припорошилась
И вывелась, перевелась.
А приеду, пойду на Донское.
Донское – родное такое.
Там мама меня ожидает,
И бабушка с дедушкой ждут.
А песен об этом не сложишь,
Попробуешь, да и не сможешь,
И все твои детские песни
В песок и под камни уйдут.
* * *
И попросите мира назавтра
Хуже смерти его торжество,
И полюбите тираннозавра,
Поцелуете когти его.
И не то чтоб он был безобразен,
Незначителен даже, увы,
И не стоит ни песен, ни басен,
Ни задумчивой вещей молвы.
Повернет небольшую головку,
Усмехнется натянутым ртом,
И поклонится как то неловко,
И сконфузится даже при том:
Дескать, да, незавидных фамилий,
Так не пить же и воду с лица.
Вышел из безобидных рептилий,
Из большого простого яйца.
Тут он клацнет заточенным зубом
И прихлопнет соседский вигвам,
И седой прибалдевший завклубом
Только вытянет руки по швам.
И попросите мира назавтра.
Слаще меда его колдовство.
И полюбите тираннозавра,
Поцелуете когти его.
* * *
Посмотри на меня, посмотри – нет печальнее повести.
Я совсем замолчала, совсем не шучу и не ерничаю.
Я вообще отъезжаю: в уральском, донецком,
саратовском поезде,
Вот блокноты, вот книги, я ем бутерброд и чаевничаю…
Посмотри на меня, посмотри – нет отчаянней зрелища
С этим сложным и ложным, румяным и пафосным мужеством.
Огляди на Казанском иль Курском вокзале
московские пряные прелести:
Эту пьянь, этот смрад, этот стыд огляди с подобающим ужасом.
А теперь посмотри на меня: я гибка, как лазутчица.
Краснобайство мое позади, я молчу, как разведчица.
Разветвляется жизнь, ничего же уже не получится,
И никто мне на дальнем перроне не светит, не светится.
Посмотри ж на меня, посмотри: я, конечно, не сдобная!
И я не депутат, и не лыжница, что возвращается с полюса.
Я сварливая, скучная, грустная и неудобная,
Если я не горю как свеча – там, в окне уходящего поезда.
* * *
Теперь почти что невидимка —
Еще слышна, но не видна уж.
Так девушка-простолюдинка
Хотела петь, да вышла замуж.
Она без музыки томится,
Хотя не знает струн и клавиш,
Всегда одна, всегда таится,
Поет в тени старинных кладбищ.
Оно, конечно, глуповато,
Неужто жизнь не перед нею?
Да на кого же уповать то —
Кругом одни лишь Пиринеи.
О, слабый дух простонародья!
Всегда отыщется лекарство
Для погребения здоровья,
Для отправления дикарства.
Поешь, пока не обессилеешь,
Поток огня взбежит по склону.
Потом созреют апельсины,
Придет Роланд, сожжет Памплону.
Природа дышит полной грудью.
Научат в деревенской школе
И озорству, и рукоблудью,
И вороватости, тем боле.
Ты сладость, пенье, ты не слабость.
И, как обычно, через силу
Простит ей муж ее нескладность,
Пойдет и выроет могилу.
Была засада накануне,
Там мертвый рыцарь под сосною.
И никогда и никому не
Расскажу я, что со мною.
И никогда и никому не
Расскажу я, что со мною.
* * *
Безнадежное мое дело.
Так о чем же душа хлопочет?
Все глаза себе проглядела,
Раз он слушать меня не хочет.
Неподдельные мои страсти!
Суп не сварен, роман не вышел.
Он едва говорит мне «Здрасьте»,
Он и песен моих не слышал.
Безнадежное мое дело,
Он смеется, лицо мне гладя.
Все глаза себе проглядела,
Будто он незнакомый дядя.
Будто вместе не ночевали,
Тело телом не задевали.
Будто он, если я разденусь,
И узнает меня едва ли.
Безнадежное мое дело.
Мои сны – сотни утлых лодок.
Все глаза себе проглядела
В ожиданье иных находок.
Был бы он моих слов ценитель,
Был бы строф моих собиратель, —
Стал бы жизни моей хранитель,
Да и снов моих толкователь.
Стал бы снов моих толкователь,
И всей жизни моей хранитель.
* * *
Из далеких пустошей,
Затерянных графств
Прискакали гонцы накануне,
Восклицая:
«Сударыня, Вы кунст, Вы крафт,
А другие все затонули.
Кого-то поющие засосали пески,
Кто-то спит, как последний пропойца.
А Вы, королева, потрите виски
И хоть что-нибудь нам пропойте.
Да, мы знаем, Вы не любите низкорослых пород,
Машину водите как цунами.
Но мы все же надеемся,
Что этот год Вы пробудете вместе с нами.
Если наша просьба Вас удивит —
Отошлите нас просто жестом.
Но Вы дома, сударыня,
Не делайте вид,
Что в изгнаньи и под арестом.
Королева, Вы стали последним звеном
В цепи, что мы тут сплетаем.
Ради Вашей вышивки жемчужным зерном
Мы сотрудничаем с Китаем.
Мы разграбили Рим,
Разгромили Прованс,
Перламутр ввозя, терракоту.
…Заклинаем, сударыня, именно Вас:
Не бросайте ручную работу.
Не бросайте ручную работу.
* * *
Умер Женечка Клячкин.
Пять лет как пять дней,
Да не всеми еще забылся.
Как хрустальный шарик
Среди камней
Покатился, да и разбился.
А ведь это был петербуржский шик,
Не затем, что был так шикарен,
А затем, что был не чувак-мужик,
А разведчик пространств, Гагарин.
Некрасиво, Господи, мы живем
И по будням, и по воскресеньям.
Вот и вышел Женя в дверной проем,
Как во время землетрясенья.
И увидел, я думаю, свет, а не мрак,
Свет, какого меж нами нету.
И задумал, как некий де Бержерак,
Полететь на другую планету.
Вся баллада была бы чистейший вздор,
Разговор в отсутствии Бога,
Но открылся за Женечкой коридор,
В нем растаяло слишком много.
Самых хрупких втянула в себя чернота,
Проглотила с песнею зычной.
Женя Клячкин, святая ты простота,
Оставался б ты на Наличной!
Женя Клячкин, святая ты простота,
Оставался б ты на Наличной.
* * *
Ты была мегерой мегер,
Мою голову в пасти держала.
Ты любила меня, мигрень,
Не любила, а обожала.
Ты присасывалась у виска
И выкачивала до донца —
От ресничного волоска,
До последнего волоконца.
Путешествуя с багажом,
С багажом средь зимы и лета,
Помню всех, кто был поражен
Стрелами твоего арбалета.
Но среди пустынь и морей,
Исполнительна и покорна,
Похищала меня мигрень
Из-под самого носа партнера.
Саквояжик мой пуст, увы.
Замолчала моя виола.
Где таблетки от головы,
Книги, ноты, семья и школа?
Я сама себе менестрель
В центре литерного вагона.
И все так же со мной мигрень
Та химера, чума, Горгона.
* * *
На исходе двухтысячной пьесы,
Избегая чужого веселья,
Мы приплыли с тобой в замок «Если»,
Это недалеко от Марселя.
Нас доставил пригожий кораблик,
У причала их было немало.
Мы сказали себе «крибле-крабле»
И вернулись к началу романа.
То-то было на море тревожно,
То-то было на пирсе студено.
Если чуть дальнозоркости, можно
Разглядеть силуэт «Фараона».
К сожаленью, наш принц не читает,
Подрастет – доберется до текста.
Мне и четверти часа хватает —
Рассказать приключенья Дантеса.
Терпелив, но и грозен, и пылок
Был моряк, проходивший сквозь стены.
Замок «Если» глядит нам в затылок,
Как любовник, сошедший со сцены.
Заночуем сегодня в предместье?
Нас приморская ночь не простудит.
А на лучшее в мире возмездье,
Зря надеешься – денег не будет.
* * *
И особенно тех не вернешь назад,
Чей горит на груди окаянный след.
А на самом дне потаенный сад,
Потаенный сад, приглушенный свет.
Приглушенный свет, половинный звук.
И хотя никого не винишь давно,
Но в какой-то миг понимаешь вдруг,
Что в саду показывают кино.
Этот черный парк,
Этот белый куб,
Где кино идет только раз в сезон.
Ты и рад войти в этот тайный клуб,
Но ты не розенкрейцер, не франк-масон.
Ты не физик, не химик, не универсал.
Ты и рад бы в рай, но ты – раб, ты нем.
И не мы с тобой попадем в тот зал,
Он в другой, в другой стороне совсем.
Потаенный сад,
Приглушенный свет,
И хотя ты в тайнах не новичок,
Но, позволь, тебе все-таки даст совет
Старина Хичкок, старичок-сверчок:
Не мечтай,
Ничего не вернешь, нет-нет —
Ни беспечных птах, ни безмозглых чад.
Сохраняй в себе постоянный свет,
Беспричинный страх,
Потаенный сад.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































