Текст книги "Doloroso"
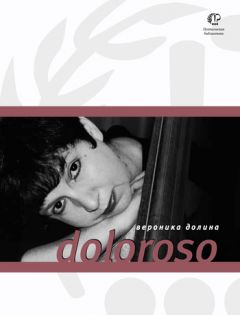
Автор книги: Вероника Долина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
* * *
Ба-ба-ба-ба-бабушка Барто
Знала и про это, и про то.
Знала, никому не говорила.
Знала то, чего не знал никто!
Бросит зайку кто-нибудь в саду —
Бабушка Барто, скользя по льду,
Прибежит, обнимет, приголубит-
Одолеет зайкину беду.
Таня громко плачет? Ничего!
Бабушка Барто сильней всего:
Все на свете мячики поймает,
Переловит все до одного.
На ходу качается бычок,
Он как первоклассник-новичок.
Бабушка сейчас его подхватит
И укатит в Вышний Волочек.
Кто такая Бабушка Барто?
Пару лет назад или все сто?
Что она тогда такое знала,
Что потом не выяснил никто?
* * *
Жил-был Чудак, один чудак.
Один – но необыкновенный.
Такой никчемный господин,
Один, один во всей Вселенной.
Ты видел сам, как одиноко и печально
Проплывал он над Москвой.
Как проплывал он и задумчиво кивал
Своей большою головой…
Припомним чудака,
Знакомого до дыр.
О, как на чужака
Сердито смотрит мир…
Гляди, чудак, не знаем, как, летает круглый год!
А это непонятно и, в общем, неприятно.
А может, и наоборот?
Летал как Бог.
Летал как мог.
Летал, смотрел вполоборота.
Там города, там господа —
И все в тени его полета.
Ты видишь сам – как одиноко и беспечно
Вновь парит он над Москвой.
Как проплывает и застенчиво кивает
Он кудлатой головой…
Припомним Чудака!
Пиджак протерт до дыр.
В карманах пиджака
Рассыпан целый мир.
Опять чудак, не знаем как
Летает круглый год.
Все снова непонятно
И, в общем, неприятно,
Но, может, и наоборот?
Вот. Вот. Вот.
* * *
От заезжего Магеллана
Еще можно родить дитя.
От заблудшего маргинала
Тоже можно – лет пять спустя.
От китайского мандарина,
Сделав парочку виражей,
Не беря в расчет маргарина,
Молока и чуток дрожжей.
Много мистики, мало текста,
И волною – кудри до плеч.
Подходило любое тесто —
Лишь бы только поставить в печь.
Пусть не будет лишнего блеска —
Нас, таких как я, не смутить.
Одного небольшого всплеска
Очень даже могло хватить.
Много публики, мало солнца,
И начнет еще моросить.
Пробегающего марафонца —
На бегу же не раскусить…
Избегала, но не избегла,
И, пожалуй что, повезло:
Я была как печка, как пекло,
Выпекала стих как стекло.
* * *
Помолюсь я своим маленьким богам:
Дайте сил моим усталеньким ногам!
Дайте сил, уж я и так едва жива.
Ненадежная кружится голова.
Дайте сил! Я еле-еле ворожу,
У блокнотика страницы ворошу,
Поворачиваю их – отсель досель,
Голова моя поет как карусель…
Я спускаюсь по крутому бережку
К небольшому ледяному озерку.
Я пришла сюда, все видели, пешком,
Хоть не очень-то умею босиком.
Музыкальная шкатулка в голове —
Там особенная втулка, или две…
Мои ножки отдохнут на берегу
И опять пойдут, и через «не могу».
Говори, моя гитарка, говори.
Сорок раз, моя товарка, повтори:
И про то, как мои ноги не милы,
И про то, как стали боги столь малы.
Малы, малы, малы —
Малы, да мои собственные!
* * *
Отчего мне дорог
Даниэль Отой?
Может быть, он добрый?
Может быть, простой?
Может, не ценитель
Злата-серебра?
Он – озеленитель
Моего двора.
Двор мой пуст и черен.
Там уже давно
Не хватает зерен,
Не идет кино,
Не кружатся птицы,
Не растут цветы,
Облако клубится
Взрослой пустоты.
…Этот непортретный
Виноватый взгляд.
Мой инопланетный
Чужедальний брат!
Зимним днем и летним
Дворик мой пустой.
И над всем над этим —
Даниэль Отой.
* * *
Когда б ты шире понимал – быстрей разулся…
Тогда б наш церемониал не затянулся.
Пока ты плакал и юлил, на всех в обиде —
Бог нашу лодочку смолил в найлучшем виде.
Бог нам подмигивал, кивал, как злой подросток.
О, если б ты не задавал своих вопросов!
Когда б ты знал и понимал слова свободы —
Итак, наш церемониал тянулся годы…
* * *
Ах, говоришь, стихи приходят редко?
Ах, говоришь, все жестко, все неблизко?
На пишмашинке двигалась каретка —
Она и увозила в Сан-Франциско.
А в Калифорнии, на дне
Скучает сундучок пиратов.
Четыре пишем – три в уме,
Когда тебе звонят из Штатов.
Каретка благородная! Куда ты
Заехала, да как-то запропала?
Какой там год теперь? Какие даты?
Помяла нас дорога, потрепала.
А в Калифорнии-стране
Не строят люди казематов.
Четыре пишем – три в уме,
Хоть кто-то, да звонит из Штатов.
Каретка… И, слезами вмиг залившись,
Я вспомню окончанье анекдота:
Начальник мой, мой академик Лифшиц
Там диктовал немыслимое что-то.
А в Калифорнии, во сне —
Там розов дом, а свет – салатов.
О ты, кто помнит обо мне —
Хоть изредка звони из Штатов!
Хоть изредка. Хоть изредка!
Хоть изредка – звони.
* * *
Дай пальчик, хотя бы мизинчик.
Есть ужин у нас, и ночлег.
Пойдем-ка, мой зайчик, в музейчик —
Не школою жив человек.
А что нам с тобой эта школа?
Чуть свет – мы уже на ногах.
Вся пыль мирового помола —
На наших худых сапогах.
Дай пальчик, сыночек мой, братик.
Все ж палец – сильнее струны.
Ты видишь – вот это Арбатик.
А Сретенке мы не нужны.
Когда бы чего не случилось,
Все может случиться еще…
Мне улица эта лучилась
Мучительно и горячо.
Все слезные вижу потопы,
В гримасе открытые рты.
И честную старость Европы,
И вялость ее красоты.
И ты закаляй арбалетик,
Прилаживай туго стрелу —
Пока еще лишний билетик
Тут спрашивают на углу.
* * *
Не говори никому обо мне.
Мертвому другу. Ушедшей жене.
Не говори, не говори —
Я тут, внутри.
Не говори обо мне никому-
Людям, животным, себе самому.
Истопнику, ростовщику,
Телохранителю-здоровяку.
Если ж сорвешься, расскажешь – смотри,
Дикого зверя отвяжешь внутри.
Слабо скулит, бродит впотьмах
Кажется, родом из росомах.
Не говори ж никому про него.
Кроме него, больше нет ничего.
Другу. Жене. В яви. Во сне.
Только бы не, не, не…
* * *
Другой, как всем уж ясно, стал пейзаж.
Иные корабли, иные лодки.
Я все еще точу свой карандаш —
Что для отвода глаз, для их подводки.
И все еще, погоде вопреки,
В карманчике, в патрончике – помада.
Не каждый день являются стихи —
А кроме них, мне ничего не надо.
Какая всюду расстелилась спесь!
Дай, наугад пройдусь рукой по списку:
Он только буквой «Д» и дышит весь,
Покорный карандашному огрызку.
Коротенький как детская рука.
Скупой – как перевернутая чашка.
Соленый – как рубашка моряка,
Которого не дождалась милашка.
Я, видимо, такой же вот моряк:
Соленый пес, московская дворняга.
По струнке, с дребезжанием бряк-бряк —
Хоть слышит ухо, да неймет бумага.
Похоже, карандашик точит нас,
Химический, из прежних, всепогодных.
Пейзаж сменился! Я не прячу глаз
Потухших, понимающих, подводных.
* * *
Мальчику с головными болями
Полагается долго ходить полями.
Полагается долго идти лесами,
Пока эти боли не кончатся сами.
Мальчику с неразбавленной кровью
Надо гостей не пускать к изголовью,
Особенно гостий! Приходят-уходят,
А эти боли никак не проходят.
Мальчику с измученными глазами
Надо учиться разговаривать с небесами.
Вот только научишься говорить с небесами —
Как эти боли уймутся сами.
* * *
Поубивалось столько народу нашего роду —
Что не могу ни читать, ни писать ни в какую погоду.
Что за погода, в которую Ирод, или как его – Херод,
Гарольд, Харальд, король окаянный,
Так и сидит, как влитой, как вылитый,
Как оловянный.
Поубивалось столько народу нашего году,
Что надо бы Ирода – да и за бороду,
Да и в кровь окунуть как в воду.
Может, он выучит «не укради»?
Вспомнит, как чудно размножаться?
Или это: припавши грудью к груди,
Животом к животу прижаться.
Поубивалось столько народу, столько народу.
За ни за что! Ни за любовь. Ни за грош.
Ни за вашу и нашу свободу.
Что говорить, если сколько бы ни убивало —
Остальным все же елось, пилось и спалось —
будто не убывало.
Поубивалось столько народу нашего роду —
Что не могу ни читать. Ни писать. Ни в какую погоду.
* * *
В Москве, говорят, снежно.
Но это, говорят, внешне.
И это неважно, неважно давно.
В Москве все теперь иное —
Пустынное, ледяное,
Невинное, неземное, немое кино.
Покуда там все спали —
В Москве объявился парень:
С разными глазами, с заячьей губой.
В Москве, говорит, пусто.
В Москве, говорит, тускло.
Да что ж у вас так грустно?
Да где же вся любовь?
В Текстильщиках тесно. На Пресне – пресно.
И как-то неинтересно, и все-то невслух.
А что человеку нужно? Хорошая служба!
Серьезная дружба, здоровый дух.
Москва не пошла стихами,
Кровавыми петухами,
Тягучими потрохами —
Никак не пошла.
Легла, будто бы уснула.
Лицо отвернула.
Не всхлипнула, не зевнула —
Да и померла.
На Трубной, говорят, слякоть.
На Сухаревской – мякоть.
И дети не могут плакать, а дико ревут.
В Москве, говорят, трудно.
В Москве, говорят, скудно. В Москве, говорят, нудно.
А люди – живут.
* * *
Посыплет снег крупой, и станет град державен
Весьма пушист и бел под божию рукой.
«Совсем я стал слепой, – сказал старик Коржавин. —
Совсем я стал слепой. Мир стал совсем другой!»
На птичьих правах. На прощальных словах.
По почте последнего дня —
Когда из Москвы уходили волхвы,
Зачем-то забыли меня.
С тех самых давних пор, что есть моя гитара,
Передо мной несут судьбы чистейший лист
Каспар и Мельхиор – два ветхих антиквара,
И с ними Балтазар – солидный букинист.
По адресам Москвы, где грубость выше спешки,
Где каждый сам с усам, себе в окошке свет…
Чеширской головы, коржавинской усмешки —
Хочу вам разослать, но не решаюсь, нет.
На птичьих правах. На прощальных словах.
По почте последнего дня —
Когда из Москвы уходили волхвы,
Зачем-то забыли меня.
* * *
Попрошу же я у Козочки
Хоть немного молока.
Козочка, она же добрая,
Она даст наверняка.
Наша беленькая Козочка,
Она вроде мне родня.
У ней тоненькая косточка —
Так же как и у меня.
У нее глаза навыкате.
В низеньких коленках дрожь.
Молоко – это на выходе.
А на входе, значит, что ж?
Вот когда попросит кто-нибудь
Хлеб и чашку молока —
Пусть оно найдется, господи,
У меня наверняка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































