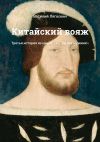Текст книги "Корсары Мейна"
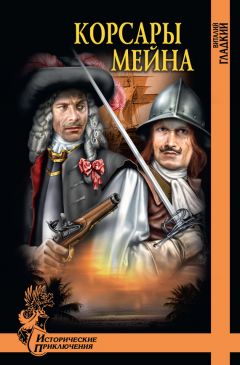
Автор книги: Виталий Гладкий
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Мишель де Граммон и его друзья затравленно огляделись по сторонам и вынуждены были признать, что все пути к бегству перекрыты.
– Ладно, ваша взяла… – мрачно сказал Мишель. – Но шпаги мы не отдадим!
– Это от вас и не требуется, – сказал Тибулен; похоже, в шайке, которая гуляла в таверне Папаши Тухлятины, он был за главного. – Только дайте слово, что не попытаетесь сбежать.
– Слово! – твердо сказал Мишель.
– Слово! – не без некоторого колебания повторили и остальные юные дворяне.
Они ни в коей мере не трусили, хотя перспектива встречи с Великим Кэзром все же вызывала трепет. Юнцы из обедневших дворянских семей, дети парижских улиц, они часто попадали в разные переделки, нередко смертельно опасные, поэтому за свою жизнь у них особого страха не было. В крайнем случае им придется умереть, но с оружием в руках, что считалось честью. Сорвиголовы безропотно последовали в окружении шайки бандитов и воров по направлению улицы Сен-Дени, откуда до Двора чудес рукой подать, а Папаша Тухлятина вызвал за свой счет гробовщика, чтобы предать тело кагу Антуана земле.
Он знал, что своим даже самым выдающимся товарищам обитатели Двора чудес пышных похорон с отпеванием не устраивают. В этом плане все они были философами и безбожниками: есть время жить, а есть – умирать. После нет ничего, пустота, поэтому стоит ли заботиться о бренных останках? Тем более что многие воры и бандиты кончали свою жизнь на виселице, после чего никаких церемоний не предполагалось. Зарыли в землю – и ладно. Похороны – это всегда нежелательные расходы, и не лучше ли оставить денежки в какой-нибудь таверне, чем тратить их на святош, бормочущих над гробом непонятную простому люду латынь.
Глава 2. Бурсак
– Сбегу! Ей-богу, сбегу! На кой ляд такая жизнь?! Чуть что – сразу на воздуси[8]8
Воздуси – наказание розгами, вымоченными в соленой воде, без скамьи, на весу, с помощью служителя.
[Закрыть]… – так говорил своим приятелям бурсак[9]9
Бурсак (от нем. Bursche) – парень, студент. Бурсой называлось общежитие при Киевском братском училище (с 1632 года – Киево-Могилянский коллегиум).
[Закрыть] по имени Тимко Гармаш, почесывая изрядно посеченный розгами афедрон[10]10
Афедрон – седалище, зад (устар.).
[Закрыть].
– Прибежишь домой, а там батька сдерет с тебя три шкуры, – посмеивались бурсаки. – И снова вернет в коллегиум. Первый раз, что ли?
– Кто сказал, что я побегу домой?
– А куда?
Тимко немного подумал, а потом выпалил:
– В Запорожскую Сечь!
Бурсаки расхохотались, а Микита Дегтярь, закадычный дружок Тимка, иронично молвил:
– Там только философов и не хватало.
– Да ну вас!
Обиженный Тимко поплелся в свой угол и упал на полати лицом вниз; теперь ему придется спать на животе по меньшей мере неделю, пока не заживет спина и то, что пониже.
– Сними рубаху, – послышался голос Микиты.
Тимко повиновался. Микита начал смазывать ему побитые места густой темно-коричневой мазью, в составе которой были барсучий жир, березовый деготь и еще много чего. Ее сделала мать Микиты, сельская знахарка, хотя Тимко подозревал, что она была ведьмой. Что бы Микита ни делал, какие штуки ни откалывал, почти всегда ему удавалось избежать наказания, в отличие от Тимка, которого пороли регулярно, за малейший пустяк, – собственно, как и других бурсаков. Похоже, мать Микиты заколдовала сына, или он был чересчур удачлив.
Тимко учился в Киево-Могилянском коллегиуме. Большая часть бурсаков имела все основания называться «злыденной братией». Исключение составляли выходцы из обеспеченных семей. Одни жили в своих собственных, специально для этого купленных домах, а другие, менее зажиточные, квартировали у киевлян на полном довольствии. С этими «панычами» учащиеся коллегиума, проживавшие в бурсе, не дружили и часто дрались.
В общежитии на Подоле всегда было холодно и сыро, особенно зимой, бурсаки часто болели и даже умирали. Иногда, чтобы согреться, они разбирали заборы мещан и городское ограждение из больших деревянных колод и несли эти дрова в бурсу. Не имели они и стипендии. А поскольку у многих просто не было денег на жизнь, киевские бурсаки изыскивали всевозможные средства, чтобы прокормиться, одеться и продолжить обучение.
Они ежегодно избирали из своей среды двух префектов, нескольких ассистентов и секретарей с приятной внешностью и бархатными голосами. Им вручалась особая книга – «Album», с которой спудеи[11]11
Спудей – студент или школяр.
[Закрыть] обходили киевских граждан и жителей окрестных сел и где регистрировались все пожертвования. Но народ не очень убеждали ангельские голосочки просящих, потому как все хорошо знали, что собой представляет лихое и бесшабашное бурсацкое племя. Иногда их не пускали даже на порог, поэтому улов префектов был очень скудным, и его едва хватало на письменные принадлежности.
Летом бурсакам приходилось наниматься прислужниками, сторожить, батрачить, пасти лошадей. Спудеи, как правило, имели хорошие голоса и иногда получали небольшие деньги за участие в митрополичьем хоре, за чтение псалмов, «утешительных речей» над покойным, стихов для знатных лиц, за составление панегириков. На праздники, особенно Рождество и Пасху, бурсаки ходили по городу с колядками, кантатами, вертепами и поздравительными песнями. А кое-кто, совсем отчаявшись, стоял на паперти и просил милостыню.
На время летних каникул некоторые спудеи получали паспорт и шли на «репетиции» по городам и весям, чтобы собрать средства на следующий учебный год. Путешествовали они два-три месяца, а то и год. Ходили небольшими группами, имели вертепы, заготовки для поздравительных речей, ноты, пели в церквях, на различных торжествах, отпевали покойников. Некоторым удавалось устроиться домашними учителями, писарями. Иногда им везло, и они возвращались в коллегиум с лошадью, которая везла заработанный странствующими дьяками, как их называли, скарб. Потом они могли какое-то время спокойно продолжать обучение.
Наиболее надежным способом добывания необходимых средств были «кондиции» – право учить детей в зажиточных киевских семьях или натаскивать богатых спудеев, которые не успевали. Но «кондиции» предоставлялись лишь лучшим студентам – богословам и философам. За это бурсаки имели «решпект» – плату едой, а иногда и квартиру от своих подопечных. Увы, в учебе Тимко не блистал, поэтому ему приходилось влачить жалкое существование вместе с основной массой бурсаков.
Бедность заставляла спудеев даже воровать. Подольская площадь всегда привлекала бурсаков. Предусмотрительные торговки семечками, арбузами, фруктами наперебой предлагали голодной братии свой товар, лишь бы они оставили их в покое. Бурсаки рыскали по улицам Киева, заставляя горожан быть осторожными. Торговки, сидевшие в палатках на базаре, закрывали руками пироги, бублики и прочую сдобу, как наседки своих цыплят, едва завидев идущего мимо бурсака. Но это мало помогало. Спудеи знали тысячу способов обвести продавцов вокруг пальца, и ничего с этим поделать было невозможно.
Раз в две недели бурсаков водили в баню. Обычно это происходило ранним утром, когда только начинал брезжить рассвет и горожане досматривали последние сны. Начальство коллегиума просто боялось показывать при свете дня своих подопечных во всей красе. Грязные, оборванные, в разнородной одежде, бурсаки шли по городу с разбойничьим свистом и хохотом. Путь процессии был отмечен вырванными тумбами, разбитыми стеклами и страшным шумом. Скулили собаки, в которых бурсаки бросали камни, на первых этажах звенели оконные стекла, в которые стучали, чтобы разбудить жителей. Старушки, ранние пташки, которые плелись куда-то по своим делам, встретив толпу спудеев, крестились, спешили перейти на другую сторону улицы и шептали:
– Матерь Божья! Спаси и сохрани! Да это, никак, бурса тронулась! Свят-свят…
А уж дрались бурсаки с городскими по всякому поводу и без, в любое время дня и ночи. Особенно когда у них появлялись деньги, чаще всего в начале осени, на праздники. Тогда киевские кабаки гудели, изрядно подпившие спудеи горланили песни до утра. Это мало кому нравилось, киевляне любили ночную тишину, поэтому стычки происходили постоянно. Иногда в запале от бурсаков перепадало и страже. Спудеи хорошо умели драться на кулаках, а некоторые – из казачьих семей, как Тимко, – и оружием владели вполне прилично.
– А что, погуляем сегодня, братцы? – спросил спудей, которого прозвали Ховрах.
Ховрах, как та степная зверушка, от которой он получил свое прозвище, был очень запаслив, и у него всегда можно было разжиться куском хлеба или перехватить несколько грошей. Он был настолько великодушен, что никогда не требовал возврата долга в срок, но все и так приносили ему денежку, потому что в следующий раз, когда голодный должник со скорбной миной протягивал грязную пятерню за очередным кредитом, Ховрах молча показывал ему кукиш и на этом прекращал с таким типом общаться.
Ховрах был щедр и часто устраивал дружеские попойки за свой счет. Откуда он брал деньги, было загадкой для всех. Ховрах происходил из семьи приходского священника с кучей детей – «семеро по лавкам». Поэтому он никогда не ездил домой на каникулы, взять там было нечего. Не исключено, что Ховрах воровал, но так удачно, что ни разу не попался.
– Гулять не на что, – ответил Микита и с сокрушенным видом вывернул карманы.
– А разве я спрашивал про деньги? – улыбнулся Ховрах.
– Нет.
– Так о чем тогда речь? Сегодня я угощаю. Поднялись и потопали.
Бурсаку собраться – только подпоясаться. Вскоре шесть сорвиголов шагали по лабиринту улочек и переулков, распугивая прохожих и собак, – меньшей компанией шататься по ночному Киеву опасно. На темном небе появился месяц, озарив все вокруг, и в его свете стал виден пивной бочонок – вывеска шинка. Бурсаки заглянули в приоткрытую дверь, повздыхали и пошли дальше. За добротными дубовыми столами сидели цеховые. А с ними бурсаки не ладили, особенно с подмастерьями, с которыми частенько дрались.
Но вот показалась башня с флюгером – спудеи добрались до Ратушной площади. Там располагался колодец с каменным ангелом и ковшом на цепи, и бурсаки попили воды; несмотря на позднее время и на то, что на дворе апрель, погода стояла теплая, и после быстрой ходьбы их одолела жажда. Вблизи колодца высился Успенский храм, и бурсаки осенили себя крестным знамением – кто истово, а кто небрежно, вроде как отмахнулся.
Рядом по Замковой горе тянулся Боричев взвоз, по которому бурсаки и поднялись к заветному шинку. Он притулился возле бернардинского кляштора – монастыря. В старинных преданиях повествовалось о том, что когда на Нижний город опускалась ночь и он погружался в полную темноту, на гору за кляштором слетались на шабаш киевские ведьмы.
Тимко невольно поежился; он побаивался разной чертовщины, хотя и считал, что добрая сабля возьмет любую нечисть. Но его карабела[12]12
Карабела – кривая сабля, имевшая широкое распространение среди польской шляхты в XVII–XVIII вв. Основным отличием карабелы является рукоять в форме орлиной головы. Похожие сабли применялись в разных странах, включая Русь. В Польшу этот тип сабель, скорее всего, попал из Турции.
[Закрыть] и пистоли хранились в доме дальнего родственника отца, дядьки Мусия, который оказывал Тимку всяческое содействие в обучении, но денег взаймы не давал, – так наказали Тимковы родители, зная забубенный характер сына, – поэтому оставалось уповать лишь на нож, спрятанный под свиткой.
Оружия бурсакам не полагалось, да больно времена настали смутные. Третий год восставшие казаки под руководством гетмана Богдана Хмеля сражаются с польской шляхтой, третий год по Украине шастают татарские чамбулы[13]13
Чамбул – отряд турецкой или татарской конницы, численно соответствующий полку.
[Закрыть], и спудеям совсем трудно, потому как теперь на «репетиции» нужно тащить с собой не вертепы и ноты, а сабли и мушкеты, иначе можно попасть в ясыры[14]14
Ясыр – пленник в виде воинской добычи; ясыры считались рабами, невольниками.
[Закрыть], и прощай тогда родная сторона. Отправят татары на невольничий рынок в Кафу, и поминай, как звали. Поэтому бурсаки, если и выходили за стены Киева, то только те, кто постарше, притом целым отрядом, и все с оружием, а дороги выбирали подальше от битого шляха.
Как назло, месяц скрылся за тучей. Темнее и таинственнее стали дремучие леса на холмах, со всех сторон стерегущих Киев; непонятные звуки доносились с болотных топей, заухали филины, проснулись совы, над головами зашелестели крыльями летучие мыши. Шинок с незатейливым названием «У кляштора», куда Ховрах вел компанию бурсаков, стоял над глубоким Гончарным яром, который окружал Замковую гору. На его склонах среди садов и огородов лепились жалкие хатки горшечников и кожевников, крытые соломой. Весна в этом году пришла ранняя, сады будто облили молоком, и приятный аромат цветущих деревьев перебивал даже зловоние ручейков, сбегавших с возвышенностей в яр.
В шинке веселье било через край. Бурсаки вели себя скромно, одеждой ничем не отличались от тех, кто отдыхал здесь от трудов праведных в столь поздний час, поэтому на них никто не обратил особого внимания. Народ собрался разный – от загулявших горожан, большей частью торговцев средней руки, которых прельщали свободные нравы шинка «У кляштора», до подозрительных личностей, коих немало слонялось по киевским базарам и злачным местам. В каком-то смысле бурсаки были им конкурентами; их «работа» требовала спокойствия и тишины, а спудеи не только гвалтом, но самим своим появлением заставляли горожан настораживаться и прятать кошельки подальше. Поэтому с мазуриками у бурсаков складывались сложные отношения.
Спудеям подали варенуху – фруктовую настойку на горилке – и добрый шмат копченого мяса. Голодные бурсаки заработали челюстями как волки, и вскоре от свиного окорока остались одни кости.
– Ин вино вэритас, – весело сказал Микита, поглаживая округлившийся живот. – Истина в вине. Древние понимали толк в жизни. Когда ты пьян и сыт, она прекрасна.
– Сильно веселиться нет причины, – угрюмо пробурчал Хома по прозвищу Довбня.
Он был самым старшим в компании – недавно ему исполнилось двадцать два года. Несмотря на это, Хома все никак не мог закончить подготовительный класс, так называемую фару. В бурсе было три отделения – низшее, среднее и высшее. Фара относилась к низшему; там преподавали грамматику, словесность и риторику. В среднем отделении изучали философию и иноземные языки – именно там обретался Тимко, – а до высшего, готовившего богословов, на котором учились два года, добирались редкие спудеи, особо одаренные или очень упрямые.
Хома был беден как церковная мышь. Но его пудовых кулаков боялись все бурсаки. Из девяти лет, которые он провел в стенах бурсы, восемь Хома путешествовал, зарабатывая на хлеб насущный и учебу.
– Вот те нате… – Микита дурашливо поклонился. – День добрый, пан! Проснулся наш великий мыслитель. Хома, у тебя что, варенуха мимо рта текла? Ты сейчас напоминаешь нашего аудитора, который объелся тыквенной каши: в животе урчит, пучит, но нужно держаться изо всех сил, чтобы не пустить злой дух.
– А чему радоваться? В декабре прошлого года польский сейм объявил посполитое рушение. Теперь жди поляков под Киевом.
– Батька Хмель не допустит этого! – горячо сказал бурсак по прозвищу Чабря, однолеток Тимка. – Наши им как дадут!
– Ага, дадут… свои чубы намять, – с иронией ответил Хома. – У польного гетмана[15]15
Польный гетман – заместитель великого гетмана, руководителя вооруженных сил Литовского княжества. В мирное время великий гетман обычно пребывал при дворе, занимаясь административными и стратегическими вопросами, а польный гетман находился «в поле», руководил войсками и охраной границ.
[Закрыть] Януша Радзивилла в два раза больше войск, чем у Богдана Хмеля. Не говоря уже про армию польского короля Яна-Казимира.
– А еще есть войско Яремы Вишневецкого, знатного вешателя и палача… будь он трижды проклят! – мрачно молвил еще один вечный, как и Хома Довбня, бурсак по прозвищу Хорт.
Он и впрямь был похож на борзую – длинный, худой, быстрый и непредсказуемый. Мог сорваться посреди учебного года и куда-то исчезнуть на пару недель. А по возвращении сорил деньгами направо и налево и напивался до белой горячки, во время которой его посещали кровавые видения.
Поговаривали, будто Хорт стакнулся с разбойниками, но никаких доказательств этому не было, разве что несвойственная ему набожность, которую он всегда проявлял после возвращения из своих внезапных «репетиций». Хорт часами стоял на коленях в церкви и что-то шептал сухими губами, вперив горящий взор в образа. Из-за этой набожности начальство коллегиума закрывало глаза на его частые отлучки и пьянство, тем более что Хорт учился прилежно и быстро наверстывал упущенное.
– Отряд у него небольшой, говорили, тысяч десять наберется, – продолжал Хорт, – зато почти все крылатые гусары на добрых конях. Это еще те псы, хорошо обученные, в панцирях. В прошлом году Ярема гулял с ними по Левобережью. Мое родное село поляки сожгли дотла, тех, кто не успел сбежать, сажали на кол, рубили руки, ноги, головы, выкалывали глаза…
Он вдруг застонал, заскрипел зубами, схватил кружку с варенухой и осушил ее одним глотком.
– Мои родители остались целы, слава богу, – глядя пустыми глазами куда-то в пространство, молвил Хорт немного погодя. – А вот семьи двух братьев шляхта вырезала под корень…
За столом воцарилась тишина; все с сочувствием глядели на вмиг почерневшего Хорта. Наконец молчание нарушил Панько Стовбуренко. Он был на два года старше Тимка и считался записным драчуном. Без его участия не происходила ни одна драка с мещанами. Казалось, Панько был магнитом – притягивал неприятности. Где бы он ни появлялся, вскоре там шли в ход кулаки. Панько был не менее сильным, чем Довбня, но очень юрким и заводным, в отличие от флегматичного Хомы.
Стовбуренко принадлежал к тем редким спудеям, у коих не было прозвища. Любая попытка как-нибудь обозвать его тут же оборачивалась доброй трепкой для шутника. Таким же характером отличался и Тимко Гармаш; несмотря на молодость, он был очень силен и не давал спуску никому.
– Война, конечно, напасть, но как бы нам от бескормицы не пропасть, – озабоченно сказал Панько. – Какой смысл идти на летние репетиции, если в селах и городах люди мрут от голода, как мухи? Кому теперь нужны наши песнопения и вертепы? Да и на похоронах много не заработаешь. Это в Киеве еще кое-как жить можно, хлебные запасы остались, а отойди вглубь на сотню верст, и такое увидишь… Неделю назад родители вернули беглого бурсака из карасей-первогодков, он много чего порассказал. Оголодалый люд падает прямо на улицах, и некому их даже похоронить. А еще болезнь какая-то косит всех подряд. Только горилка с перцем и табаком помогает, да где ж ее взять?
– А без репетиций мы точно пропадем, – мрачно молвил Хома. – Лучше пойти в казаки, там хоть кашей накормят.
– Или свинцовым горохом, – язвительно заметил Микита.
– Так это кому как повезет.
– И то верно. Но мне бы не хотелось испытывать судьбу. Хотя… если придется, то куда денешься.
– А что, панове-товарищи, коль зашла речь о припасах, не хотите ли потрясти одного запасливого хомяка? – возбужденно спросил Ховрах. – Все ж нам до каникул как-то надо продержаться.
– Это ты о ком? – заинтересовался Хома.
Его крупный организм плохо переносил голод, поэтому он всегда был в поиске, чем бы поживиться.
– О шляхтиче Тыш-Быковском.
– У-у… – многозначительно загудели бурсаки.
С конца прошлого века польская шляхта начала скупать дома и дворовые места у замковых мещан и киевского магистрата. Постепенно вокруг Рынка и Замковой горы появился аристократический район Подола. Были и такие, кому земля досталась даром. На Подоле насчитывалось около трехсот усадеб польских панов. Правда, многие шляхетские дворы, за исключением тех, чьи хозяева успели перейти на сторону гетмана Богдана Хмельницкого, были разграблены и присвоены магистратскими чиновниками и казацкой старшиной. Но семьи Тыш-Быковских репрессии не коснулись. Он одним из первых понял, откуда дует ветер, и быстренько примкнул к восставшим запорожцам. У хитрого шляхтича на обширном подворье помещались каменный дом с просторной светлицей, тремя спальнями, сенями и кладовой, деревянный садовый домик, предназначенный для гостей, конюшня на пять лошадей, амбар, несколько мелких хозяйственных построек и фруктовый сад. По оценке знающих людей, усадьба Тыш-Быковского стоила не менее двух тысяч злотых. Это большие деньги даже для зажиточных киевлян.
Фруктовый сад Тыш-Быковских был весьма привлекательным объектом для вечно голодных бурсаков. Из года в год они обносили его с таким же прилежанием, как саранча – хлебные поля. Наконец шляхтич завел вооруженную охрану, потому что семье Тыш-Быковского от богатого урожая оставалась лишь падалица да огрызки. С той поры в саду началась настоящая война. Редко какая ночь обходилась без ружейной пальбы, и мало кто из будущих философов и богословов не сидел часами в каком-нибудь озерце, стеная от жжения в филейной части и вымывая оттуда соль, которой угостили его сторожа Тыш-Быковского.
– Ну и что там можно взять? – со скепсисом спросил Микита. – До того, как созреют яблоки, далековато, как от Полтавы до Киева на карачках.
– А кто говорит про яблоки? – На смуглом лице Ховраха появилась дьявольская ухмылка – хищная, коварная. – Может, кто не знает, в прошлом году шляхтич построил в саду коптильню. И над ней курится дымок уже четвертые сутки. Так что окорока как раз поспели. Скоро Пасха, и нам будет чем ее отпраздновать.
– Здорово! – возбужденно вскричал Хома. – Ну, брат Ховрах, если это так, с меня штоф оковитой!
– И я в доле! – горячо поддержал Тимко.
– Ну так пошли, чего сидим? – сказал Ховрах.
Опрокидывая лавки, сорвиголовы бросились к выходу – словно на пожар. Мазурики было вскипятились от такой наглости, но, распознав, кто устроил переполох, так и остались сидеть на своих местах; свяжись с бурсаками – греха не оберешься, они за словом в карман не лезут, а если и лезут, так за ножами, с которыми управляются очень ловко.
Сад Тыш-Быковских подозрительно молчал. Обычно там всегда, шумно переговариваясь, прогуливались сторожа, которые сами побаивались бурсаков. Так они отпугивали хотя бы мальцов из фары; что касается риторов и философов, то им сторожа не мешали, скорее, наоборот, – добавляли в кровь жару. Это ли не подвиг: украсть из-под носа охраны торбу груш или яблок, да так, чтобы даже собаки не залаяли? А они были в саду Тыш-Быковских – здоровенные меделянские псы, один вид которых приводил в трепет. Эти злобные зверюги и стоили соответственно; за пса меделянской породы давали породистого скакуна.
Подворье окружал забор высотой чуть меньше двух саженей. Видимо, Ховрах давно надумал оценить качество копченых окороков богатого шляхтича, потому что уверенно проскользнул вдоль ограды в дальний конец, ступая мягко и тихо, словно большой кот, а за ним потянулись и остальные, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
– Где сторожа? – тихо спросил Микита.
– Там же, где и псы, – самодовольно ухмыльнулся Ховрах. – У сторожей нынче поздний ужин, и они сидят в кухонной пристройке, мослы с панского стола догладывают. А что недогрызут, то отдают псам. Так что сад на часок свободен.
– Ух ты! – обрадованно воскликнул Чабря. – Здорово!
– Ц-с-с! – зашипел на него Ховрах. – Молчи! Погубишь все дело!
Перелезть через любой забор для тощего, жилистого бурсака раз плюнуть; опыт по этой части у всех был солидный. Ховрах точным броском закрепил веревку с небольшим крюком – выбираясь в город, он всегда носил ее вместо пояса, – ловко вскарабкался наверх, и спустя минуту-две вся гоп-компания шла к коптильне. Небольшое сооружение пряталось за беседкой, увитой хмелем. Над ним и впрямь поднимался дымок; в ночи он не был виден, но запах копченого мяса шибанул в ноздри почище доброй понюшки табака.
Крепкая дубовая дверь в коптильню была заперта. Наверное, пан Тыш-Быковский не очень доверял своей дворне. Да и времена наступили смутные, голодные, того и гляди, в сад нагрянут не безобидные бурсаки, которые много не брали, а вооруженные мазурики, супротив коих никакие сторожа не устоят. Поэтому требовалось время для того, чтобы позвать городскую стражу, а пудовый замок должен был хоть немного задержать грабителей.
Ховрах лишь хитро ухмыльнулся. Он полез в свои бездонные карманы и достал связку отмычек, завернутых в тряпку, чтобы не звенели на ходу. Похоже, Ховрах не просто так пригласил всех своих товарищей в шинок «У кляштора». Ему нужна была компания для опасного дела.
«Ох, хитер! – не без восхищения подумал Тимко. – Все предусмотрел! Рыжий лис!» Ховрах и впрямь был огненно-рыжим.
Немного поковырявшись в замке, Ховрах эффектным движением снял его и отворил дверь.
– Налетай, голота! – сказал он голосом победителя.
Повторять приглашение не пришлось. В коптильне стояла кромешная темень, но для бурсаков это не помеха – помещение было забито окороками, которые висели на крюках. Схватив по два – больше никак утащить, больно тяжелы, – бурсаки бросились к забору. Вскоре все, кроме Тимка, оказались за пределами сада. Он немного замешкался – за что-то зацепился и упал. Пока поднялся, пока нашел в темноте оброненную добычу, время было упущено – воришек услышали собаки.
Грозный лай меделянов, больше похожий на львиный рык, раздался совсем близко; Тимко кинулся к забору, но понял, что добежать не успеет, – путь преградил пес, наверное, самый шустрый. Тогда Тимко, потеряв голову, швырнул в него окорок – второй он так и не нашел – и побежал к садовому домику, который вплотную примыкал к ограде. По опыту налетов на сад Тыш-Быковского он знал, что там всегда стояла садовая лестница-книжка, забравшись на которую можно спастись от псов и перелезть через забор.
Увы, его ждало горькое разочарование – лестницы на месте не оказалось! Хорошо хоть пес растерялся, не ринулся за ним сразу вдогонку. Перед меделяном встал сложный выбор: или исполнять свой собачий долг, догонять нарушителя охраняемых им границ, или заняться окороком, который так вкусно пах. И все-таки служебное рвение пересилило голод; мудро рассудив, что окорок никуда не денется, пес понесся за Тимком со всей прытью. Впрочем, меделянские псы не отличались беговыми качествами; для этого они были чересчур тяжелы и неповоротливы.
Тимко в отчаянии оглянулся и схватил валявшуюся под ногами палку. Теперь ему придется отмахиваться от псов, пока не подоспеют сторожа. А уж что будет потом, об этом юный спудей старался не думать… И тут его внимание привлекло открытое окно садового домика. Оно светилось, но не очень ярко. Наверное, в комнате горела всего одна свеча. Увидев, что к первому псу присоединились еще двое, – они не лаяли, а лишь угрожающе рычали, неторопливо приближаясь к будущей жертве (а куда она денется?) – Тимко подскочил, уцепился за подоконник и одним махом очутился в небольшой светелке. Он плотно закрыл окно и только после этого огляделся.
В комнате горела свеча-ночник в высоком бронзовом шандале, который стоял на туалетном столике. Светелка была богато убрана: два кресла с цветной обивкой, французские шпалеры на стенах, большое венецианское зеркало в деревянной резной раме, покрытой позолотой, на полу дорогой турецкий ковер, в углу, возле двери, высокая подставка с кувшином для умывания и медным тазиком…
Но главное сокровище комнаты обнаружилось возле окна, под стенкой. Там, на широкой кровати с балдахином, под розовым атласным одеялом сладким сном почивала прелестная панна. Она не проснулась даже тогда, когда Тимко от неожиданности шарахнулся в сторону и зацепил туалетный столик, на котором вокруг шандала теснился полный набор дамских туалетных принадлежностей: мази и пудра в миниатюрных шкатулках, флаконы с благовониями, щипчики и кисточки в стаканчике из резной слоновой кости и еще много чего, о чем бурсак не имел ни малейшего представления.
Он спрятался за шторой, чутко прислушиваясь, что творится за стенами, и со страхом ожидая, что панна в любой момент может проснуться и поднять крик. К псам, караулившим Тимка возле окна, присоединились и сторожа; они посовещались, недоумевая, с какой это стати меделяны привели их к садовому домику, а потом, видимо, решив, что с псами творится что-то неладное, прикрикнули на них и гурьбой отправились осматривать территорию сада.
Вскоре раздались тревожные крики, а спустя какое-то время сад осветился факелами, и послышался гневный голос Тыш-Быковского. Видимо, дворовые шляхтича обнаружили, что в коптильне побывали незваные гости, и доложили хозяину. Тыш-Быковский долго орал на них, грозясь разными карами, а потом все стихло, и сад погрузился в ночную дрёму.
Тимко тихо покинул свое ненадежное убежище и подошел к спальному ложу панны. В мерцающем свете свечи ее свежее румяное личико показалось ему ликом ангела. Юный бурсак затрепетал; в нем вдруг проснулось желание, которое стало посещать его в последнее время, особенно в ночные часы, и о котором он боялся признаться даже самому себе. Не в силах противиться неожиданной страсти, он опустился возле кровати на колени и поцеловал панну в щечку.
Она сонно зашевелилась… и открыла глаза. Тимко будто прирос к полу; он был не в состоянии не то что бежать, но даже сдвинуться с места.
Какое-то время панна смотрела на него без особых эмоций; наверное, ей казалось, что она видит сон. Но вот в ее взгляде появилось что-то новое; но это был не страх, а скорее интерес.
– Ты кто? – спросила она нежным голоском.
– Т-т… Тимко… – еле выговорил бедный спудей.
– А как здесь оказался?
– Влез через окно…
– Зачем?
– Не знаю…
– Как романтично! – воскликнула панна. – Я нравлюсь тебе?
– Очень!
– Ах, все так куртуазно! Точно как в том рыцарском романе, который недавно мне читала моя бонна! Ты будешь моим рыцарем! Согласен?
– Да!
Тимко постепенно начал приходить в себя. Очарование милой панны конечно же никуда не делось, но внутренний голос уже не шептал, а кричал: «Беги отсюда, дурачина! Если тебя поймают в спальне панны, то живым точно не выпустят!»
– Ясная панна, – сказал Тимко. – Мне пора.
– Ты поцеловал меня, – вдруг сказала она непререкаемым тоном.
– Прости… не сдержался. Ты такая красивая…
– Правда?
– Как Бог свят!
Тимко встал с колен, подошел к окну и осторожно выглянул в сад. На чистое небо выкатился золотой месяц, и в саду стало светло. Бурсак облегченно вздохнул – вроде все тихо, кругом никого. Он обернулся к девушке и сказал:
– Прощай, ясная панна. Я ухожу.
– Постой! Подойди ко мне.
Тимко послушно подошел к кровати.
– Поцелуй меня… еще раз, – тихо молвила панна. – Пожалуйста…
Спудей нагнулся и снова хотел коснуться губами ее румяной щечки, но панна вдруг обхватила его руками, и страстный поцелуй в губы ошеломил Тимка. Ему показалось, что он длится целую вечность. Но вот панна оттолкнула его и неожиданно сердитым голосом сказала:
– Уходи! Прочь!
Недоумевающий Тимко (что это с ней случилось? – думал он; чем я обидел ее?) распахнул окно, сел на подоконник и приготовился спрыгнуть в сад, и тут раздался нежный голосок панны:
– Меня зовут Ядвига… Ядзя…
Тимко промолчал; а что тут скажешь? Оказавшись на земле, он воровато оглянулся по сторонам и пошел прямиком к старой яблоне, толстая ветка которой тянулась до самого забора. Она и послужила ему мостиком. Благополучно выбравшись из сада, Тимко со всей юной прытью помчался по узкой улочке, благо месяц высвечивал все неровности и колдобины. Он бежал, не чуя под собой ног. Ему казалось, что еще немного, и он взлетит в небеса. Какое-то новое, неведомое доселе чувство переполняло его душу, и Тимко не понимал, что с ним творится.
«Ядвига… Ядзя…» – повторял он имя панны, и от этого у него словно вырастали крылья.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.