Текст книги "Русские Сказки"
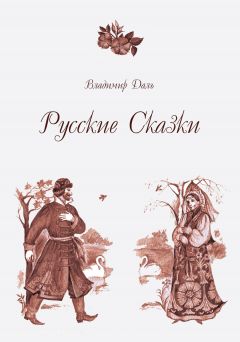
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
– Сказаться? – спросил мудрец царя. – Коли это можно, сказаться и быть, государь, то кому же ближе спасать кровное детище свое, как не тебе? Скажись и будь счастливым; одного счастливца, ты знаешь, довольно.
– Как мне быть счастливым, когда дочь моя, без которой во мне нет и не будет искры жизни, лежит на одре смертном? – так взывает царь неутешный. – Мне быть счастливым? – Так вот же тебе, государь, – отвечал мудрец, – вот тебе живое поличие всех подданных твоих: каждого порознь и всех вместе; и каждый бы рад быть счастливым, да одного заботит одно, другого печалит другое; каждому думается: вот бы только это, либо то, так и был бы я счастлив, а без того не могу.
Но вот гонцы неутомимые все царство искрестили и – «Нашли! – кричит запыхавшийся вершник, наскакав в широкий двор царский. – Нашли блаженного счастливца!» Дворец царский словно ожил, весь – и стены, и простенки, и золоченая кровля, от бута и до конька, все вздрогнуло и всюду раздалось: «Нашли!» – Кто от таков? Где он? Подайте его сюда!

Да где отыскали его; благо нашли, схватили и привели. Он здесь: не в карете, не в колымаге, ни даже на дрожках, и не верхом, под чеканною сбруею в дорогих каменьях; гонец поймал его за ворот и притащил, как счастливец стоял да ходил, пешего, на двух ногах…
– Я твой раб векожизненный, со всем царством моим, – возопил царь в умилительной радости, преклоняя голову свою перед счастливцем, – и этою ценою, человек, покупаю я только сорочку твою: подай ее сюда; тебя меж тем облекут в златые ткани…
– Сорочки у меня нет, – отвечал смиренно блаженный счастливец.
– Как нет? Рубахи нет, нет сорочки? Отдай одну, последнюю, сыми с себя!
– Да то-то нет ее ни на мне, ни за мною; была когда-то давно, да износил всю и кинул.»
– И прекрасная царевна, – закричал барич наш, слушая Игнашку, любимого стремянного своего, – и царевна умерла?
– Да, знать, умерла, сударь; по крайности, счастливого, с рубахой на плечах, в обширном царстве не сыскалось, хоть царства в сказках живут и не нынешним чета: царство это было в сорок-сороков обхватов земли, а народу в нем, что былинок в поле. Вот вам, барин, и счастье; теперь раскидывайте-ка бобами сами; в потехах – не оно, в избытке – не оно; а где да в чем оно? Этого голыш блаженный не сказал; рубахой, говорит, обзаводиться не стоит: что с нею, что без нее, мне все одно; судьбой я доволен, сыт бывают почитай что каждый день; хотеть я ничего не хочу, ничего мне боле не надо, царства вашего не возьму и даром – не держите же меня здесь, по пустому, а отпустите, без греха, домой; вот я чего хочу.
– А и то еще говорят, барин, – сказал Игнашка, – где правда, там и счастье.
«Правда? А что такое правда? Это что за зверь, птица или рыба! Что такое на свете правда? Правда – вещь совсем иная; это не нужда и не счастье и не им чета, ниже ровня. Правда мирская – это вещь потешная. Правда светлее солнца; что правда, то не грех; да зачем же правда глаза колет? Правдою жить – с людьми не знаться; неправдою жить – Бога погневить; как же тут быть? Стой за правду горой, и Бог с тобой; знай Бога да сказывай правду; кто правдою живет, тому Бог дает; это бы и ладно, да говорят: правда по миру ходит; молвить правду, не знать дружбы; а по миру ходить, да без друга жить, сам себе опостынешь; а это уже и не ладно. Говорят: хлеб ешь, а правду режь – а говорят и так: хлеб режь, а правду ешь: то есть сам глотай, да про себя и знай. Да опять и то сказать: ино правду говорить большому человеку – не легче лжи; и правдою ину пору подавишься. Говорят, что все на свете сгинет, одна правда останется; да куда же она после всего этого годится? Сами же говорите вы: правда к добру не доведет – правдою не обуешься, сыт не будешь! Вы мне на это молвите: да в ком честь, в том и правда; ладно, да не вы ли сказывали намедни: глупый да малый говорят правду: какая ж честь, скажите, в глупом да в малом? Грек, жид да армянин молвят правду по одному разу в год; – это что? Да разве они живут хуже нашего? Или они верят тому, что сильна правда, да деньга сильней? Так за что же, коли так, говорится: засыпь правду золотом, она всплывет; правда и в золоте не тонет; дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет, а на что опять вы же говорите: хороша правда, годится и неправда? Это что? Или вот это: одно слово правды весь свет перетянет; да коли она по золоту плавает, как вы сейчас же говорили, так стало быть золото будет потяжелее правды вашей? Куда ни сунься, кого ни послушай – все его правда, словно ее на откупу держат; а где двое сойдутся, там и две правды, да каждый хвалит свою; что же она за оборотень такой, что за двойник, и за что же она дорога, коли у всякого есть своя, и всякий с нею носится и нянчится? Живи правдой в людях, живи правдой дома; а между тем, не всякую правду жене сказывай; не солгать, так и правды не молвить; не будь лжи, не стало бы и правды; хорошая ложь дороже плохой правды; стало быть, сами учите лгать; а соври кто, хоть один раз на веку своем, так вы же, махнув рукой, скажете: кто один раз соврет, тот веку без другой неправды не доживет. Неправда отшельником не живет: где одна, там и другая, а где две, там плодятся они и множатся, как змеи около Знаменья. От лжи не мрут, да вперед веры неймут; да коли стародавние пророки померли, а новые правды не сказывают, так тогда как быть? Где добудешь ее, коли без нее, как говорится, веку не изживешь? Где она, правда эта, и где ее взять? И какая ж это правда, которая на свете надобна, без которой веку изжить нельзя, которою свет пройдешь, да только назад не воротишься? Это правда, сказывают, вещь потешная.
«Жил-был, во земле далекой, иноязычной, иноверческой, пастырь духовный, по-турецки мулла, по-нашему поп, по-немецки пастор, по-польски ксёндз. Он славился на весь мир правдою и благочестием, и сам хвалился повседневно, что терпит напраслину за одну только правду; а он был убог и скуден до крайности.
Однажды взяло его горе тугое и раздумье бедовое: «Плачусь я, – говорит, – Богу, Бог не слышит; плачусь людям – люди веры неймут; а голод не угар, от него не переможешься, не переспишь. Что я буду делать и как мне быть? По миру ходить с котомкой – грешно, да и не велят, не приказывают – попадешься, так не разведаешься; идти молотить за хлеб насущный, так сил нету, дело непривычное; духом я бодр, а телом слаб, потому что морил плоть свою, как велит закон. Взаймы никто не дает; сидел бы дома да ждал, покуда Господь что пошлет, так скоро пропаду я и сам, замерзнут да вымрут голодом и холодом ребятишки мои; – не сидится, нет больше сил!»
Так рассуждал, окропив черствую краюшку хлеба горючими слезами, заморской земли пастырь, когда вдруг вошел к нему зажиточный мужичок, помолился, поклонился, подошел под благословение и звал дать имя новорожденному; другой вошел, хочет дочь под венец вести; третий пришел с заплаканными очами, зовет хоронить отца. Пастырь вымолвил теплое моление к небесам: послал-де Господь, за правду мою, хлеба насущного, и, как дело было почитай натощак, то пастырь наш и стал рассчитывать, сколько мерочек муки, да сколько яиц, пирогов, уток, кур возьмет он на крестинах, сколько на свадьбе, сколько на похоронах. Рассчитав все это, стал уже думать, как поправится он помаленьку из нищеты своей и заживет домком, с чадами и домочадцами своими. Но думай да гадай, а конца поджидай: у новорожденного поднес ему кум лыковых лаптей пару; за то, что повенчал, насыпали ему в берестовый кошель смородины да лесной малины; на похоронах – напоили, накормили, да с тем и домой отпустили.
«Не хочу жить! – сказал отец. – Пойду утоплюсь. Мне ли домой показаться опять ни с чем, и плач и жалобу слушать спокон веку одну и ту же, жалобу горькую: тятя, дай хлебца? Мне ли пропадать и высыхать по капле, что дупловому пню, без радости, без утех, без хлеба, с одной правдой? А уж я ль не молился тепло и правдиво; я ль не терпел, в чаянии лучшего, смиренно, безропотно? Нет сил больше, ни за себя, ни за своих! Дары мирян вложу я у подножия символа веры своей, как последнюю дань отходящего, а сам я… пойте после по мне, коли кто на селе без меня споет, вечную память!»
Пошел, дождался ночи, сложил дары мирян, ещежды помолился и с твердой решимостью вышел на росточ побережную, на кругояр; и видит, идет к нему, в теми ночной, белобородый старец. «Что делаешь, отец?»
Отец поведал старцу все, от аза до ижицы. Вы уже знаете, что иноверческий пастырь наш любил правду; он не утаил ничего, во всем признался, что на исповеди, держал ответ, как перед Богом.
– Не топись, – сказал ему старик, – смерть от тебя не уйдет, ниже ты от нее; и я такой же, как и ты, бобыль; станем горе мыкать пополам; у меня за пазухой ржаная лепешка есть; уломил ее на полы, что тебе, то и мне, поровну, да и пойдем, куда Господь поведет: утро вечера мудренее!
Шли они, шли вместе, не день и не два; старик, что заря, что сумерки, из-за пазухи лепешку тащит и делит пополам. Наконец – не житницы ж египетские у старика за пазухой – ложатся они в чистом поле спать, а старик и достал было лепешку, да и положил опять назад. «Последняя, – говорит, – только одна и осталась; уж лучше мы ее на утро оставим да и поделимся». Утро красное взошло – старик проснулся, Богу помолился. «Ну, – говорит, – односум, давай, поделим теперь последнюю лепешку нашу; а там – что Бог даст». Хвать – ан ее уж и нет.
– Товарищ, – сказал старик, – ты съел лепешку?
Наш пастырь крестился и божился, на чем свет стоит, – не я. «Ну, ладно, – говорит старик, – не ты, так не ты, пойдем дальше. Правда – слово великое, я ему верю и без божбы». Шли, шли они опять, с утра до поздней ночи; отец духовный голодом изныл. «Нет сил, – говорит, – издохну здесь, на месте!»
Старик полез за пазуху – нашел еще лепешку; а попутчик его рукой за нею тянется да уж и слова не вымолвит, уморился на смерть! «Ты, что ли, съел лепешку, так сказывай лучше; я не взыщу: не бось, только признайся!»
– Чтоб мне на месте, тут же, растянуться, – отвечал тот, – коли я без ведома твоего хоть одну кроху насущную подобрал!
– Ну, не ты, так не ты; я только спросил. Вот тебе половина лепешки моей.
И шли они опять, подновив силы свои, поколе не дошли до реки. Старик, подобрав ризы свои до колен, пошел вброд; духовный пастырь за ним, да вдруг и начал тонуть. Захлебываясь и задыхаясь, боролся он с мокрой смертью и молил старика о помощи. «Ты, что ли, съел лепешку?» – спросил опять старик; и снова спутник его стал заклинаться всеми святыми и отрекаться от лепешки, и еще похвалился, что всегда говорил правду. «Не ты, так не ты, – сказал старик, – на что божишься?» Сам подал ему руку, вытащил его и вывел, вслед за собой, на сухой берег.
К ночи залегли они в солому, к мужику на ток, среди чистого поля, да развели огонек и стали сушиться. Не успели они заснуть, как пламень обнял их со всех сторон: кругом них стлался клубом огонь и дым, и смрад, и жупел и, с треском приближаясь, смыкал пламенной ужицей своей роковой круг теснее и теснее. Старик толкнул и разбудил товарища; он вскочил и, заломав пальцы, прощался с жизнью: лютое пламя пожирало уже ризы его. «Не ты ли, отец, съел намедни лепешку нашу?» – «Не я, – отвечал тот, – отходя от мира сего в царство вечности, завещаю тебе, благодетелю моему, слово правды: не я». – «Коли так, – сказал старик, – Господь с тобою», – накрыл его полой ризы своей и вывел из огня невредима.
И шли они, доколе не пришли в заморское царство, где объезжали глашатаи царские по городам, пригородам, селам, выселкам, слободам и разглашали:
«Известно и ведомо да будет всякому и каждому, что буде кто на свете живой человек найдется сведущ и могущ в тайне бытия и смерти, и изыскав ключ жизни живой, ключ мертвой и живой воды, воззовет из мертвых двух царевен царских, вдохнув в бренные останки их жизнь и дыхание, тот наградится, за каждую, таким количеством злата чеканного, каковое силою мышц своих поднять и вынести из казнохранилища царского возможет; буде же кто ложными снадобьями и не животворящими обманами единую токмо безуспешную проволочку времени учинит, то таковой неминуемо имеет сложить с плеч главу свою, на плаху. Дан, во граде нашем престольном таком-то и прочая».
«Пойдем, – сказал старик товарищу своему, – попытаемся!» – Товарищ золоту и рад бы, да смерти боится; сам идет, сам хоронится за старика. Этот взял одну обмершую, не то покойницу, не знаешь, как и честить, – положил ее в чан, обварил кипятком, разнял на части, очистил косточки, продул их, налил снова мозжечком, составил, одел живым, кровяным телом, жилками да прожилками, одел и тонкой белой пеленою с алым отливом, кожицею; дунул – и девица, пригоже зари утренней, встала и пошла, только застыдилась да зарумянилась. Старику отсыпали мешок червонцев: столько золота, сколько он на себе унес!
«Что же, – сказал он товарищу, – берись ты теперь за другую царевну; что я взял, то пополам; а возьмешь один, так все твое; ведь видал, чай, как дело делается!»
Тот подумал – и рукой махнул. Золото ослепило его, оглушило, смутило, отуманило. Он взял другую обмершую царевну, распластал ее на части, разнял по суставчикам, облупил и выскреб косточки, продул и налил и сложил, – а дух и жизнь – Бог даст; надселся товарищ; все дул да подувал – нет! Не берет; не оживает царевна!..
И пришла отцу беда неминучая: уж его и взяли, и засадили, и присудили, уж и вывели на лобное место, уж и за плахой пошли, а кто сказывает, что уж и петлю на шею накинули…
«Ты, что ли, – шепнул ему старик, – съел лепешку-то? Так скажи; ты знаешь, что я тебя не обманывал; признайся, коли ты, никто за это пальцем тебя не тронет!» – «Не я, – отвечал тот, – умираю за грехи свои, а в этом не грешен, я бы тебе покаялся».
И старик опять спасает товарища своего от беды неминучей, от позорной смерти. Царевна повеленьем старика ожила, встала и пошла, будто ни в чем не бывало, и странникам нашим опять отмерили мешок чеканного монетного золота. Забрав казну свою, вышли они оба вместе из города того и снова пустились в путь.
«Ну, – сказал старик, – теперь нам с тобой пришлось расставаться; мне путь предстоит одинокий, а ты больше плакаться на меня не будешь, домой пойдешь не без копейки; пора тебе припомнить и своих. Давай делить казну». – От этого попутчик наш не прочь: «Давай».

Старик начал раскладывать золото на три кучки. – «Да для чего же на три, а не на две? – кричит запальчивый товарищ его. – Нас только двое, а ты же сам сказывал: все пополам!» – «Постой, – отвечает этот, – дай срок, дай мне управиться, твое не пропадет. Ну, гляди, вот эта кучка – моя; вот эта твоя; а эта пусть достанется тому, кто съел лепешку!»
«Я!» – вскрикнул спутник его громким и твердым голосом, и накрыл золото обеими руками…
Итак, вы видели, сударь, нужду, спознались, на загадочках, со счастьем; – а вот вам и мирская правда. Такова-то она живет в людях, такова и в поговорках их, такова жила она и спокон веку».
Вот вам та самая правда, без которой никто на свете веку не доживает, про которую придумали люди столько поговорок, о которых говорят, что она и на золоте всплывет… да оно так и есть: и в нашей сказке всплыла она на золото, а без него как-то не подавалась! Падок человек на ложь, а на золото и того пуще; оно сильнее лжи, сильнее правды.

Сказка одиннадцатая
О Карае-царевиче и Булате-молодце (Богатырская сказка)

Славное славному, могучее могучему, удалое удалому.
Под некоим царством, бок о бок с Макарийским государством, жил-был царь Ходор, по прозванию Оловянное Ухо. У царя Ходора был один только сын, Карай-царевич, а у Карая-царевича одно только помышление, одна думка: ехать за леса-моря далекие, за горы высокие, на людей посмотреть и себя показать и воротиться восвояси со княжною прекрасною, потягавшись да померившись с чудовищем-великанищем силами молодыми, копьями удалыми. И когда Карай-царевич стал на возрасте да побывал во науке богатырской, спознался, у старого да у бывалого, со щитом да с мечом, тогда стал он проситься у царя-батюшки за море, повитяжествовать, глянуть за ворота царства своего и закалить булатную, разъяренную грудь в холодке чужом, под синим шатром.
«Поди, – сказал царь Ходор Оловянное Ухо, не послышав, куда Карай-царевич просится, – поди погуляй, да скорее опять приходи. Да без дядьки не ходить!»
Тогда Карай-царевич пошел на конюшни царские и стал выбирать себе жеребца по руке, по могуте своей; прошел уже по всем стойлам, не выбрал ни одного: что руку ни наложит ему на холку либо на крестец, то жеребец пал как пал на колени – сам заржет ярым голосом, да уже для Карая-царевича не годится. Пусть бы ржал, когда ляжками его пожал, – а от руки пал, так не рука царевичу такой жеребец.
Тогда Карай-царевич взял тугой лук кабульский с золоченой прописью, взял калены стрелы тростниковые, пернатые, что перены были летками орлиными, да пошел во чистое поле, не то клич кликать, не то горе мыкать.
И вышед во чистое поле, на вольную волю, видит он – летит лебедь бел, что не пил, не ел, из-за тридевять земель летел. Карай-царевич вынул любимую стрелу свою, со булатным клювом, вытянул ее по самое копейцо и пустил ее под лебедя того, приговаривая: «А и вышиби, стрела, орлиным пером перена, лебедю белому, ширококрылому, долгоперому, вышиби ему третие маховое правильное перо из левого крыла, да накажи ему, лебедю, чтобы горе-тоску разогнал, коня по помышлению моему указал, не то пошлю я другую стрелу по душу ему, лебедю белому!»
И лебедь белый, путник смелый, человечьим гласом возговорил: «Спасибо, Карай-царевич, что ты меня не погубил, а помиловал; иди туда, где стрела твоя упала, там найдешь, чего ищешь».
Пошел Карай-царевич за стрелой своей за пернатою, зашел истинно в тридевятое царство, где всякие и премудрые доморощенные чудеса, словно у нас в парниках огурцы, растут и, примером сказать, скатный жемчуг и цветной янтарь уполовниками с моря тихого собираются, а бирюза и яхонт и каменья самоцветные лопатами нагребаются, – а все еще стрелы своей не нашел. И проходя в раздумье и в тоске, помимо каменной горы, что жилы золотые самородковые, словно пальцы из-под слоев породистых выказывались, – слышит он, стонет человек в горе, а его не видать. Обозвался Карай-царевич с невидимкою, допросил его – и узнал, что сидит в горе живой человек; а стрела Карая-царевича, со булатным клювом, пробила ту гору каменную, кремневую, да поранила невольника подземного. Карай-царевич отворил плиту невеличку, и всего-то с простенок продольный грановитой палаты – и увидал, коли кто видал, как вырезан на меди да напечатан в известном жизнеописании своем французский Ванька-Каин, Картуш, с треугольной шляпою на голове, за железною решеткою, – увидел, говорю, Карай-царевич такого же человека за железною решеткой, за малым оконцем. Тогда Карай выломал решетку и вытащил оттоле пленника; а тот ему теперь ответ держал, речь говорил, сам поклоны в пояс клал.
«Я, – говорил он, – славный разбойник Булат-Молодец и засажен сюда в склеп подземный твоим отцом-батюшкой, который на меня прогневался за то, что учинил я самовольное пошибаньице, да перебил у него с охапку мещан, с три короба купцов да честных горожан. А за услугу твою, Карай-царевич, вот тебе твоя любимая каленая стрела, и ступай, куда скажу, найдешь ты себе коня по мысли, коня, на котором я разбойничал двенадцать лет.
– Да нешто страны эти при царстве и под державою моего батюшки? – спросил царевич и дивился, что царь Ходор Оловянное Ухо, родной отец его, знать не знает, ведать не ведает о таких богатствах.
«Поди ты во чистое поле, – продолжал Булат, – там по моей воле найдешь три дуба зеленые, стоят они середи травы, по той траве ведут три тропы; под дубами есть чугунная дверь, во дверях медное кольцо; под чугунною дверью сидит конь мой в конюшне каменной, за двенадцатью дверьми стоячими, за двенадцатью замками висячими; отбей замки – и конь молодецкий твой».
Учинил Карай-царевич по сказанному, что по писанному, вывел из-под двенадцати дверей стоячих, из-под двенадцати замков висячих, из-под трех дубов зеленых, и повел травой, торной тропой, жеребца удалого, который не приседал, не гнулся под тяжелой рукой царевича, а, послышав седока по себе, взыграл радостно, и царевич прозвал его Граем[10]10
По-цыгански конь называется грай.
[Закрыть]. Как сел царевич на коня своего Грая, конь Грай рассержается, от сырой земли отделяется, выше лесу стоячего, ниже облака ходячего подымается, долы и горы меж ног пропускает, мелкие реки хвостом устилает, а по глубоким челном живым проплывает, через болота широкие перепрыгивает и ногами не подрыгивает. «Стой! – закричал Булат-молодец царевичу Караю. – Послужил ли я тебе?» Царевич осадил коня, услышав голос приятельский, и увидел перед собою Булата. «Хорошо отслужил, – отвечал царевич, – я и вперед твой слуга». – «Нет, – молвил Булат-молодец, – кабы ты меня не выпустил, там бы меня и черви поточили; и то уже, вишь, моль волосы поела, крысы каблуки обглодали; я твой слуга, царевич, а не ты мой: за мною три службы; слушай: в те поры, когда я тебе нужен буду, когда тебя самого себя на какое дело не станет, то молви только: где-то мой Булат-молодец? И я перед тобою». – Сам же Булат крикнул, свистнул: «Сивка-бурка, веший коурка, стань передо мной, как я перед тобой!» Сивка-бурка тут, словно с лука спрянул. Булат ему в одно ухо влез, в другое вылез, наелся, напился, молодцом перекинулся – с царевичем простился, сам своим путем в дорогу пустился.
Царевич теперь только спохватился дядьки да припомнил наказ государя своего батюшки, царя Ходора Оловянного Уха, без дядьки в путь не пускаться. Итак, прискакавши в три годины со причасками на царский двор, вызвал царевич дядьку своего и с ним вместе пустился уже по своим стезям, по бывалым путям, да заехал снова в даль далекую, в темь глубокую, во леса кедровые, под шишки сосновые, под орехи-кокосы, где люди наги и босы, где есть гады в обхват толщины, да змии по сту сажен длины; где человеки в плече по глазу имеют, чревом снедь едят, а для ради единого перевесу на ходу главу по-сверх шеи на плечах богатырских носят. Там-то знойные жары путника сокрушают, там-то и царевич наш с дядькою теперь пропадают.
Промеж лесу высокого, под гнилыми колодами, нашли они наконец, измаявшись так, что хоть бы Господь по душу послал, так отдать бы ее в ту ж пору – нашли яму глубокую, копань темную.
– Надо быть, это колодец, – сказал царевич, – полезай туда, дядька, я спущу тебя на аркане, не наберешь ли воды!
– Нет, Карай-царевич, – сказал дядька его, – я тебя потяжелее, и тебе меня, чай, не сдержать; давай, я тебя отпущу, так это дело, ты же меня и моложе.
Царевич послушался, полез, привязав себе аркан за пояс, напился воды и зачерпнул в шелом битый на долю дядьки своего, а тот речь иную ведет.
– Послушай, – молвил он царевичу, – ты жил на свете царевичем, а я простым человеком, ясельничим, приворотником, придверником, комнатным, постельничим – а уж там попал в тебе в дядьки; дай, поменяемся саном и званием, побудь-ка ты дядькой моим, а я царевичем твоим; коли миришься на этом, то ладно; а нет, так я тебя утоплю!
– Не топи, – сказал царевич, – что тебе пути будет в том, коли изведешь меня? Сам же сказывал и учил меня, как на том свете Бог наказывает грешников: убийцам – помнится, сказывал ты – кисти рубят да деревянной пилой семь веков шею пилят; так сказывал ты, кажись, бывает во тьме кромешной?
– Пили же ты меня на том, а я тебя на этом свете. – сказал дядька и стал топить царевича.
– Постой, – закричал ему этот, – постой, дядя, побойся Бога; я твой слуга, ты мой господин; быть делу так, аминь.
– Не верю, – сказал дядька, – поклянись, что дашь мне своей руки письмо, чтобы быть тому делу так.
– Дядя, – начал опять царевич, – да не ты ли меня учил, что клятва под истязаниями не клятва, а что слово – дело великое, а слово царское, что стена стоит? Коли веришь слову, так верь; а нет, так не пеняй, что я с тобою делать стану; заставляй писать и прописывать, что хочешь.
Дядька подал царевичу в колодец бересты и стал говорить ему: «Пиши: «Клянусь и обещаюсь, царскою кровию своею, быть рабом вечным дядки Митрюка, а его признавать царевичем своим». Так проговорил дядька; а царевич писал по бересте, подал дядьке своему, приложил царскую тамгу свою, по нашему, печать либо подпись; дядька вытащил его и стал разувать и раздевать донага и меняться одеждою, ратным оружием и сбруей.
Жаль расстаться было царевичу с доспехами заветными – да делать нечего. Отдал он дядьке шелом свой с прилбицей златой да со гремучим змеем, который на серебряных ногах из витой пружины хитро когтями за гребень шеломный держался и на ходу и на конце знай себе покачивался; отдал и бархатец кольчатый, с сеткою из граненого белого железа; и чекан с насечкою, и копье мурзамецкое, и тугой лук с налучником в мережах, и калены стрелы тростниковые, орлиными перьями переные, и с колчаном, кованным серебром и златом; а сам надел хороший кафтан дядькин и поехал за ним следом, что стремянный за охотником.

Таким-то побытком ехали они, ехали – кто говорит близко, кто далеко, кто низко, кто высоко, – доехали до Пантуева государства, до первопрестольного града его, до стены высокия, до реки глубокия, до мостов подъемных, до ворот суконных. Тут дядька Митрюк закричал зычным голосом своим: «Гой ты, царь Пантуй, ты колдуй не колдуй, отворяй ворота суконные, берись за ремни ременные, подымай мосты подъемные; ты думай да гадай, про гостей обед доспевай, за белы руки их принимай; сажай на кресла резные, кленовые, за столы дубовые, за постланцы камчатные, ставь на стол вина печатные, да пирог подавай гора-горой, скоморохов сзывай да пир затевай!»
Царь Пантуй, услышав о приезде великого и славного царевича Карая, сына и наследника соседа и приятеля его, царя Ходора Оловянного Уха, накинул багряницу свою через плечо, ухватил шапку горностая белого и побежал встречать Карая-царевича. Отворял он, царь Пантуй, ворота суконные, брался за ремни ременные, опускал мосты подъемные, гостя дорогого встречал, за белы руки брал, по стогнам градским провожал, вводил во палаты свои изразцовые, на лестницы белодубовые, сажал на седалища кленовые, за столы крытые, готовые, за яства, питья медовые, за постланцы камчатные, за вина фряжские, печатные, а скоморохов заставил петь да плясать, дорогих гостей забавлять, потешать.
«Я приехал, – таково слово начал Карай-царевич, – а не забудьте, что Карай-царевич этот не Карай-царевич, а просто дядька его Митрюк, – я приехал, – молвил лже-царевич, – к твоей царской милости, сильный и могучий Пантуй, сватать за себя…» – а сам, глянув на царевича, который стоял в дверях косящатых, словно комнатный, оторвал речь свою, да перегнувшись, избоченившись, молвил царю Пантую: «Прикажи, царь Пантуй, отдать слугу моего, Митрюка, на кухню, в черновую работу, за то, что он дорогою мне крепко досаждал!» – Царевича отдали на руки судомойкам да полотерам, а самозванец продолжал: «Я приехал к твоей милости, сильный, могучий Пантуй, сватать за себя дочь твою, царевну Церию, про которую много наслышан я, хоть и не был еще осчастливлен лицезрением ее – не видал то есть ее, а знаю, говорю по наслышке, все девичьи доблести ее; слухом земля полнится, а про царевну Церию и в наших краях, слышал я, поют:
Очи сокольи, брови собольи,
Грудь лебедина, походка павлина…»
– «С моим удовольствием и радостию, – держал ответ царь Пантуй, – с моим удовольствием я отдаю за Карая-царевича, любезного соседа и приятеля моего, дочь мою единородную, Церию царевну. Но только, любезный нареченный зять мой, под царство мое, под град первопрестольный, подступает войско нечестивое, подступает царь Калин; он меня осилит, град мой выжжет, верноподданных моих вырежет всех до единого – это бы еще все ничего, да он и меня самого полонит, кровью моею царскою землю обагрит; а что будет тогда с нареченною невестою твоею, а моею любезною дщерию, с царевной Церией, сам ты, как храбрый витязь, которому воевать, чай, не раз и не два со славою случалось, знаешь, и учить тебя нечего. Итак, побей царя Калина, тогда Церия будет твоею». – А тут – глядь, гонцы уже и наскакали с повесткою, что идет-де царь Калин, ко граду престольному Пантуйского царства подступает, войско, словно шайтан его с клубка мотает, видимо-невидимо, раскаты облегает.
«Хорошо, – молвил на это лже-царевич, – хорошо, царь Пантуй, это все сделать можно, дай срок; утро вечера мудренее, а хмель воды попьянее. Мне нет счастья воевать днем, а ночью я все это сделаю». Сам же, только что смерилось, вызвал из черной избы царевича и стал просить, ему кланяться: «Не помни ты, царевич, неучтивства моего, недогадливости; беда, видишь сам, приходит общественная; поди-ка да разгони нечестивых, я отдам тебе тогда и расписку твою!»
Царевич взял тугой лук, писанный китайским золотом; взял стрелы легкие, переные перьями орлиными, выехал за ворота суконные, за мосты подъемные, за стены высокие, за канавы, за рвы глубокие; тут стал он и крикнул: «Гой, Булат-молодец, где-то ты теперь?» – «Здесь я! – отозвался Булат. – Что нужды, что службы, сказывай скорей!» – Карай-царевич указал ему на рать хорасанскую, на царя Калина. Булат-молодец свистнул богатырским посвитом, крикнул молодецким покриком: «Сивка-бурка, веший коурка, стань передо мной, как я перед тобой!» И конь бежит, земля дрожит, дым столбом из ушей валит, из ноздрей полымя пышет, следом только головешки летят, паром, что тучею, небо устилает, копытами одни маковки цветочные задевает; и сели на добрых коней молодцы, и говорит Булат: «Руби ты, Карай-царевич, мечом кладенцом рать вражескую с правого крыла, а я рубить стану с левого». И пошли тесать богатыри наши один с правого, другой с левого крыла, и съехались на самой середке, где была ставка Калина царя, и поздоровались. «Много ли ты побил?» – спросил Булат-молодец царевича. – «Да как заехал я, – отвечал тот, – с правого крыла, так от самых сумерек до темной ночи бил я их все по головам, все по темени да по маковке; там, от темной ночи до полуночи, когда крик подняли, да стали на меня оглядываться, перелобанивал я их прямо в лоб; а потом, как уже заря на побег пошли, бил я их от самой полуночи по затылкам да по широким плечам; а теперь, сам ты видишь, возница почитай на закате, скоро свет будет. А ты, Булат, много ли побил?» – «Да я, – ответил этот, – ни много, ни мало, а всех выбил, с левого крыла начавши, до самой ставки царя Калина, и, видишь, на самой середке с тобою съехался!»
Тем часом, царевна Церия, сидя со страхом и боязнию на вышке терема своего, растворив многоцветные окна, видела и слышала все, что ни деялось, ни творилось; видела и то, как Булат-молодец, отслужив царевичу нашему третью службу свою, простился с ним, сгинул и пропал, пыхнув из ноздрей коня своего полымем, да разостлавшись утренним туманом, сизым, дымчатым; как царевич воротился на широкий двор да царя Калина на своре привел, что выжлока татарского, и отдал дядьке своему, сам доспехи скинул с себя ратные, надел кафтан сермяжного сукна и пошел в избу к судомойкам; а лже-царевич облекся в доспехи царевича, велел страже приворотной трубить победу великую и повел ко царю-батюшке, к дорогому нареченному тестюшке, Калина царя, что на своре выжлока татарского.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































