Читать книгу "Русские Сказки"
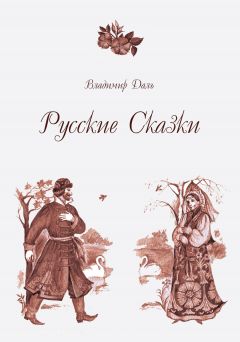
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Похождение четырнадцатое
Угождая то тут, то там, прилаживая и подлаживая, Ицька разжился опять немного факторством своим и начинал, продолжая, впрочем, и факторить, заниматься в свободные часы торговлей. Помощником его был теперь подросточек, сын его Манчестер. Надобно объяснить, отколе взялось это странное имя. Незадолго до родин наследника сего, отправляясь в дорогу по тогдашним делам своим, наказал Хайке настрого, чтобы новорожденному, буде это сын, наречено было имя Казимир. Прошла неделя, другая, третья. Хайка благополучно разрешилась сыном и тогда только вспомнила, что супруг ее завещал наследнику имя, но никак не могла вспомнить – какое? Наконец, в тусклой памяти ее блеснул, как молния, отрадный луч воспоминаний. Заветное имя, – припомнила она, – служило названием какой-то модной, для панталон, материи. Посоветовавшись с портным, с Лейбой Гринберхом, решили они вдвоем, что это должен быть Манчестер; итак, новорожденное дитя восприяло, вместо Казимира, имя Манчестер.
Однажды на улице родины нашего героя произошла необыкновенная суматоха; это было рано утром. Ицька выскочил, на гвалт земляка своего, в одной ермолке, без кафтана, в одной фуфайке и с заповедными циплями[5]5
Ципли висят у каждой жидовской фуфайки под кафтаном – они, кажется, напоминают им время плена и служат вместо четок при молитве.
[Закрыть]шнурочками и тесемочками. Земляк этот был разбитый на задние ноги Герша, у которого колена со дня на день стали более подламываться, а память теряться: он кричал, что его обокрали. Каким образом? А вот каким. Он положил, собрав последние поскребышки имущества своего, небольшой капиталец в кованый ларец и доставал оттоле ежегодно законные проценты; несмотря на то, оказался недочет в капитале, а следовательно, была учинена покража!
«Шварц дурак! – сказал Ицька, когда вся толпа захохотала. – Дурак! А я выскочил неодетый, необутый и не напившись чаю! Поди, Иван, чего стоишь? Поди и посмотри, чтобы самовар наш не ушел!» Батрак Иван сходил, воротился и доложил, что самовар ушел. «Так накрой крышкой»! – закричал Ицька. – «Ис крышкой ушел!» – продолжал Иван. Самовара действительно уже не было на крыльце: служивый мимоходом его сгреб и уволок. Солдат, что багор: зацепил, так и потащил. Ицька в свою очередь закричал: «Гвалт!» – с чадами и домочадцами, но тщетно: самовар ушел невозвратно.
Около этого же времени, когда герой наш стал разживаться, понемногу мотать, пить чай и подгуливать, сбылось с ним и с сыном его Манчестером еще следующее приключение. В Шклов прибыли русские актеры известной по всей Украйне труппы Штейна. Ицька пошел посмотреть на казака стихотворца и на Наталку Полтавку, и взял с собой сына Манчестера. Он купил билеты в партер; но, к несчастью, это было время ярмарки и осенних кучек, жидовских праздников. Толпа и толкотня у входа были неимоверны. Ицька попал на беду в проток, имевший направление свое, вопреки законов природы, в гору, вверх, по лестнице, и прямо в рай. Сколько он ни кричал, сколько ни упирался, ни толкался, его подхватило толпой, разлучило с детищем, вознесло под потолок, и Ицька, с рублевым билетом в руке, принужден был стоять в полтинном месте, это все бы еще ничего; но его в неимоверной тесноте оттерли от галереи, в которую он цеплялся и когтями, и зубами, затолкали в самый задний угол райка, обернули, протираясь около него, спиной к зрелищу, и заклинили в этом положении туго-натуго, так что он ни мог пошевелиться. Ицька бесился, кричал, рвался, – все втуне: чтобы увидеть хоть малую долю всех чудес, надобно было ему оглядываться назад. В это время две необычайные проказы до того потрясли все здание хохотом, что штукатурка начала валиться с потолка, и первый пласт упал, разумеется, на Ицькину голову. Проказы эти были следующие: проезжий виртуоз воспользовался нынешним спектаклем, чтобы предстать впервые высокопочтенной публике: он явился на сцене перед начатием зрелища, чтобы разыграть концерт на серпане. Я никому не советую давать концерты на этом неблагодарном инструменте; если не верите, то послушайте: оркестр ударил в смычки, тутти летит к концу, виртуоз чопорно выступает, раскланивается на три стороны, прикрывает пальцами отдушины неблагодарного инструмента, оборачивает широкий раструб его к зрителям, подносит косточку к губам: оркестр умолкает; соло на серпане должно поразить готовых к изумлению слушателей… виртуоз силится и жилится, багровеет в лице – нагибается вперед всем телом… о, но все тихо – и только шепчет тишина… Серпан молчит! Художник напрягает последние силы свои, либо пан, либо пропал… ужасный треск ударом поражает слух зрителей, и что бы вы думали? грязная, мохнатая жидовская шапка вылетает из обращенного к зрителям жерла серпана, описует, по общим законам метания тел, параболическую дугу над головами их, поражает оскользнем носы двух любопытных членов благочиния, которые стояли на даровых местах, поражает оборотившегося лицом ко входу Баруха фир-Мадеру в спину и упадает с покорностью к его стопам. Зависть, черная зависть изобрела эту неслыханную кознь: хотели уронить виртуоза и заткнули ему серпан жидовской шапкой! Этого бы довольно; но это еще не все. Когда первое изумление, причиненное неожиданной бомбардировкой, миновалось, когда всеобщий громкий хохот раздался в приветствие нового художника, когда и в райке все народонаселение дружно и в голос заржало, тогда один из зрителей, смиренный поденщик Костромской губернии, затесавшийся в переднюю шеренгу рая, в исступительном восторге своем уронил в преисподнюю поярковую шляпу с брусникой и, махнув за нею вслед рукой, закричал во всеуслышание: «Бруснику-то ешьте, да шляпу подайте!»
Теперь настало описанное мгновение: хохот зрителей потряс здание до основания. Ицька, пораженный сверх того обвалившейся штукатурной, не мог более преодолеть себя: он раскачал, сверхъестественными силами, окружавшую его толпу, взволновал ее, отдуваясь боками, вывернулся, оборотился, уцепился в обе лапы за плечи стоявшего перед ним дворецкого, приподнялся на воздух и дотоле мотал и лягал ногами, желая найти для них опору, покуда не попал наконец каждой ногой в задний карман долго-полого сюртука или кафтана… Взмостившись таким образом, начал было он обозревать жадным оком всю преисподнюю, как возобновившееся волнение толпы заставило долговязого пономаря, в карман которого стал Ицька наш одной ногой, податься вперед, а часового мастера Зенвеля Шварца, другую опорную точку Ицьки Гобеля, откачнуться назад; таким образом, бедный Ицька совершенно утратил равновесие, свернулся, грянулся затылком и едва не был разорван на-полы неугомонной толпой, увлекшей пономаря и механика в противные стороны. Его спасла полиция; но он, высвободив измятые, полусвихнутые ноги свои их карманов двух поименованных особ, утратил невозвратно башмаки свои и пошел домой, выпровоженный из театра взашей, босиком. С жалобой и плачем поведал он домашним своим претерпенное им бедствие, поведал, как он, с рублевым билетом, стоял на полтинном месте, и сверх того еще затылком к зрелищу и считал пауков на потолке райка – и наконец спросил сына своего Манчестера, каково ему удалось полюбоваться представлением? Бедный Манчестер отвечал, что, кроме шабашкового света[6]6
Жиды в шабаше зажигают множество сальный свечей на высоких щегольских медных подсвечниках.
[Закрыть] и базарной толпы, не видал он ничего. Он даже вовсе не попал во вход театра, а простоял на улице и только прислушивался по временам к необыкновенному хохоту.
Похождение пятнадцатое
Сказка наша началась ярмаркой и кончается ею же; это и пестро, и благовидно, и правдоподобно; особенно коли, как у нас, лица – жиды и цыгане, а место действия Подол или Украйна.
На ярмарку в Шклов съехалось полтьмы с потемками жидовских брык, и навезли со всех концов столько писем и цыдул к землякам и родным своим, что на них, сложив бумажный костер, можно бы сечь любую киевскую ведьму. Да, доставка писем через жидов составляет значительный подрыв почтовым учреждениям. Между прочим пришло письмо к нашему приятелю, Ицьке, которое извещало его о смерти какого-то деда и призывало в Сквиру для получения наследства. Ицька едва не рехнулся от этого известия, а голова у него таки повихнулась. «Хайке, Ципе, Эстер! Ким гир! Маме, ким, Хайке, Ципе, Манчестерле, кимт, кимт! Чуешь, Ивашко, ходзь ту, до мне! Ходзьце ту, вшисцы моя любы». Так собирал и скликал он домочадцев, чтобы поведать им великую весть. Он решился, собравшись в путь, купить лошаденку и отправиться немедленно к покойному деду своему, в Сквиру. Он вышел на ярмарку. Народ столпился кружком около каких-то скоморохов. – Неистовые песни цыган раздавались под гудок, скрыпицу и цымбалы; бешеная пляска их приковала глаза зрителей. Кто не слышал цыганского напева и припева, кто не видал цыган в пляске, тот не знает ни песен русских, ни пляски. Растолкуйте мне, книжники и толковники всего поднебесного, отчего это заносное, блуждающее племя, со своими яркими, разительными, своенравными свойствами души и тела, отчего, говорю, цыгане столь самобытны и постоянны и то же время до такой степени приурочились и обрусели, что собственно в народном быту, в сказках, плясках, песнях и поговорках превзошли народностью истинно-русской коренных русаков?
Цыгане подъезжают, Бог весть откуда, и присутствуют на каждой ярмарке, так же неизбежно, как нагорная снежная вода при вешнем половодье. Трудно определить, что они делают, чем существуют – но они всегда убираются с ярмарки сытыми и одетыми.
Ицька протолкался сквозь толпу зрителей и увидал ловкого молодого парня в красной рубахе, с торбаном в руках, беснующегося в присядку. Он пел и присвистывал, и играл и щелкал, и плясал и приговаривал. Другие подыгрывали на скрипице, на цымбалах; бабы и девки вторили странно и дико, припевали и заливались резкими, звонкими голосами, но безошибочно держались созвучия и никогда не сбивались с ладу. – Между тем двое или трое других цыган и цыганок толкались промеж народа и не давали маху, коли где что плохо лежало; тот, который плясал, пел и приговаривал в лад и в меру изречения, подобные какой-нибудь обыкновенной, разгульной песне, но в сущности содержащие на тот раз приспособленные, для товарищей и сотрудников своих, наставления; так, например, сделал он первый дельный переход вот какой:
Ой жги, да не зевай, говори – поглядывай;
А вот шапочка лежит, вон и аленькая…
А вон пояс-кушачок – вон и шелковый…
Потом, намекая на воз, на котором хозяин в серой свитке, с длинным батогом, вывез на базар всяких съестных припасов, а сам стоял, разинув рот, цыган бородатый, – а это действительно был он, – пел:
Ой круп навезли, да и гречневых; —
Ты греби их, загребай, хозяина поминай,
Да и того-то не забудь, чего в кашу-ту кладут.
Заметив же, что товарищ его подбирался к коням жидовским, кричал он, выплясывая ногами дребедень:
Ой мерина бери, сивогривого бери;
А гнедого не бери, он негоден никуды.
А наконец, когда цыгане нагрузили уже два мешка верхом, так что некуда было класть товар, а ротозеи наши все еще не оглядывались, а до того брыле распустили, что не видели и не слышали ничего, кроме песни да пляски цыганской, то подал он товарищам-сборщикам благой совет в этой крайности:
Ой бабьи рубашки – да и те же мешки:
Рукава-те завяжи – да что хочешь положи!
Пляска кончилась, цыгане разбрелись, народ хохотал долго за ними вслед, а когда обратились к возам и припасам своим да спохватились того и другого – то уже не было ни суда, ни расправы.
Ицька Гобель до того восхитился пляской и песнями, что, забыв козни приятеля своего, цыгана бородатого, и думая только о наследстве своем, запил с ним мировую, ударил по рукам и купил у него иноходца – а жиды охотники до иноходцев – ехать за наследством в Сквиру. Иноходец этот, впрочем, никогда не бывал иноходцем, но цыган бородатый, который, кажется, смел бы и деревянного или пряничного конька обратить, на час продажи, в арабского жеребца, – наездил проданную жиду клячу, стреножив ее, то есть спутав ей три ноги, и таким образом вынудил из нее какую-то искусственную, шаткую и валкую рысь, названную им иноходью. Еврей наш скоро будет разочарован: иноходь эта, что ведреная погода под Питером, более дня не стоит.
«Янка! Яне! Иван! Вставай, мое сердце, я купил коня; закладывай да поедем в Сквиру». – «Разумна голова, як дижа, – отвечал батрак, почесываясь, – купил на ярмарке, у цыгана, того гляди, что опять краденая». – «Того-то и боюсь, – отвечал Ицька, – оттого и тороплюсь и погоняю: запрягай да поедем, покуда не доискались». Сели да поехали.
Похождение шестнадцатое
Ночь до рассвета проехали они благополучно. Заря заиграла, и холодный утренник, морозец, пронял нашего Ицьку досиня. Батрак спал рядом с ним, лежа как тюлень. Насилу хозяин его добудился и сказал: «Иван, пора спочинуть, то есть отдохнуть, скажи-ка нашему коню тпру!» – «А ты сам что?» – спросил Иван. – «Губы намерзли», – отвечал Ицька, у которого зуб на зуб не попадал. Иван трпрукнул, кони стали у корчмы, и их покормили; насилу опять впрягли упрямую клячу в тележенку и ехали, поматывая кнутиком, до обеда, а потом и до вечера, и остановились ночевать в корчме, под огромным навесом. Хозяин лег на тележку, батрак под тележку, и захрапели. С рассветом Ицька проснулся, перевернулся на брюхо, высунул голову через край плетеной заспинки и начал окликать батрака: «Иван! А Иван! Яне, Янка! Иван! Сердце!.. Ивашка, чуешь! Иван! А Иван! Ванька! Иван, а Янка!..» Надобно было удивляться хладнокровию, тупому равнодушию и какой-то лени в холе, которая начитывала три четверти часа сряду: «Иван и Яне», изменяя имя это по всем степеням сравнения и причудам употребления. Но, когда наконец нельзя было докликаться Ивана, жидок наш перевернулся на бок и уснул. Полчаса спустя началась та же комедия. Заезжий хохол спросил наконец, вышед из терпения: «Кого вин у биса кличе? Бо там, пид возом, не мае никого!» Ицька вдруг поспешно соскочил и увидел, что Ивана не было. Он бежал ночью, унес тулуп жидовский и вытянул у сонного жида из кармана кожаную кису с деньжонками… виноват, с черепками.
Может быть, в другое время это привело бы Ицьку в отчаяние; но теперь, когда он ехал за богатым наследством, оказалось на деле все мужество великой души его: он начал, прикусив язык собираться в путь и не уронил ни словечка. По временам только хватался он за карман и покачивал головой. Строптивый иноходец долго противился воле нового хозяина своего; привыкнув к седлу, неохотно подставлял он голову под хомут. Но Ицька вразумил его: он ухватил плетку и начал стегать иноходца, приговаривая: «Вертись, шкура, голова до хомута! Вертись, повертывай голову до хомута!»
Ицьке оставалось немного езды, но чем ближе он подъезжал, тем более разгоралось ретивое, тем более он гнал. Стало смеркаться, и иноходец пристал, пристал за полверсты до местопребывания покойного деда Ицьки Гобеля. Ицька бил иноходца своего, стегал его, кричал, понукал, манил его сенцом и травкой, – все тщетно: стал как вкопанный. Тогда Ицька вышел из терпения, отложил его, привязал, в наказание, за повод позади бриченки, сам ухватил оглобли, потянул телегу в упор по дороге, и только иногда, оглядываясь назад, на коня, ворчал про себя: «Не хотела, бисова дзецко, ехать в телеге – так ступай пешком!»
Огоньки родной Сквиры светились уже невдалеке, Ицька спускался под гору к местечку; сердце у него прядало и стучало вслух. Кому случалось проезжать Сквиру, тот, может быть, припомнит, что у въезда есть пустопорожняя застава, будка и шлагбаум, при котором на все время, когда город не занят постоем, не бывает ни души. Ицька подъехал почти вплоть к заставе, когда его окликнули: «Стой! Отколе едешь?» По жидовской привычке Ицька на это отвечал вопросом же: «А? Что?» – «Отколе едешь?» – повторил тот же голос. – «Отколь я еду?» – «Да, да, отколе едешь?» – «Кто, я?» – «Да, ты?» – «Я еду из Шклова». – «Так поди сюда, записаться», – сказал часовой. Ицька стал подходить– никого не видать; обошел будку, все темно и пусто; шлагбаум опущен и придавлен вплоть к земле парой тяжелых каменьев. Сообразив все это, Ицька весьма справедливо заключил, что кто-нибудь над ним вздумал подшутить и вероятно скрылся. Он подошел к шлагбауму, чтобы поднять его и очистить себе дорогу, сел верхом на брус и начал сворачивать тяжелые каменья. Лишь только еврею, в котором было весу не более, чем в кошке его, удалось это исполнить, как короткое плечо рычага взяло перевес, облегченный же длинный конец шлагбаума быстро взмахнул к верху и нашего жидка приподняло, как дрозда на лучке: Ицька Гобель, наследник покойного деда своего, восседал верхом, выше лесу стоячего, пониже облака ходячего, среди неба и земли, и завывал в темную холодную ночь жалобным, протяжным напевом, оглашая пустынное поле воплем, издалека подобным ночному оклику неискусного часового.
Цыган бородатый выскочил из-за будки, отвязал своего иноходца, сел на него, свистнул, поплелся и закричал Ицьке: «Прощай, брат Ицька, жди пожди Мессию! Это тебе и твоим за плутни ваши, за разбой чужих карманов, за подмен грошей копейками да шелегами!»
Сказывают ли еще, как жители Сквиры подоспели, однако же не прежде рассвета, на плач Ицькин, как спускали его, по дрючкам, веревкам и лестницам, с шлагбаума, и при этом и сами попадали, и ему ногу выломили? Как строгий дед его, который, на зло бедному наследнику, жив еще и по днесь, первый поднял камышовую трость на блудного, шального внука, и прочее, и прочее, и прочее? Кажется, будет, и довольно; что слушать, то и сказывать, всякому любо и вольно, да пора и честь знать, пора дать роздых и вам, детки, да и Ицьке; он измучился, а вы устали – а мы сказку свою досказали.

Сказка седьмая
О некоем православном покойном мужичке и о сыне его, Емеле дурачке

Везет счастье бестолковое, везет хитрость пронырливая, людская, и всякая кривая неправда, везет часом и просто дурь нагольная, глупость простоволосая! И на что же, скажите, придумали люди ум да разум, и придираются, доискиваются совести, как бывало Соломонида, кума моя, поскребышком из квашни порожней, и докучают и себе, и людям? По нашему: день прошел, так и спать пошел; день рассвел – встал да поел; а кто поспорит со мной, станет поперечить, тому скажу я сказку про некоего православного покойного мужичка и про сына его, про Емелю дурачка, а кума придакнет, скажет: и вестимо, родимый, от ума лишнего и чернокнижество родилось; а совестливый, – примолвит сват Демьян, – и из-за сытного стола голодный встанет!
Стояла на реке судоходной слобода; в слободе той жил старик и при нем три сына: двое умных, а третий дурак.
Умных не станем мы называть по имени; умников на белом свете много, всех не докличешься, не дозовешься; а дурака звали Емелей, Емелей дураком. Старик умных двух сыновей своих оженил, а Емеле наказал оставаться холостым, покуда разве не проглянет душой, не поумнеет. «Пусть будет беда, – говаривал старик, – не было бы греха, чтобы не было, чего доброго, его масти приплоду!» А когда наконец старик этот задумал умирать, то разделил все пожитки свои и скотину на две равные части, умным сыновьям своим, и оставил кроме того, всем трем, и Емеле тоже, по сту рублев; а сам, преставившись, вознесся душой в вечность. Сыновья умные поплакали, дурак голову почесал, а потом похоронили они отца своего, сообща честно и порядочно, со всеми должными обрядами.
Братья-умники, потолковав между собой вдвоем, сказали дураку: «Послушай, отдай ты нам деньги твои, сто Рублев, мы пойдем с братом в город торговать; а когда, по благословению в Бозе почившего отца и родителя нашего, приторгуем великие барыши, то купим тебе красный кафтан, красную шапку и красные сапоги! А ты, тем часом, сиди дома, оставайся хозяином да слушайся невесток своих и делай все, что они тебе ни велят!»
Емеля, которому страх хотелось пройтись по слободе в красном кафтане, красной шапке и красных сапогах, деньги отдал братьям и охотно на все согласился. Итак, братья поехали, а он остался с невестками. Емеля весь Божий день лежал на полатях либо на печи, и только посулив ему луку да толокна с квасом, – до чего он был страстный охотник и едок за семерых, – могли допроситься невестки, чтобы он пособил им по хозяйству.
«Поди, Емеля дурачок, – сказали они ему однажды, – принеси-ка воды!» А дело было зимой, и стужа православная. – «Авы что?» – отвечал Емеля. – «Как, что, – сказали невестки, – наше дело бабье; ты знаешь, что кошка с бабой всегда в избе, а мужик да собака завсегда во дворе; тебе не след в избе на печи валяться! Видишь, какой мороз на дворе; тут не только бабе, и мужику впору выйти; а мы тебе луку да толокна с квасом припасем; а если не пойдешь, так скажем мужьям нашим; они тебе тогда не справят ни красной шапки, ни красного кафтана, ни красных сапогов!» Услышав такие лестные и будительные речи, слез Емеля с печи, оделся, обулся, взял ведра, топор и пошел по воду. Пришед на реку, прорубил он прорубь сажени в две и примерял топорищем по коромыслу, не тесно ли будет в оба ведра воды зачерпнуть. Наконец, сладил, воды набрал, ведра поставил на лед и глядел, почесывая голову, в полынью свою. Вдруг в ней всплыла большая щука. Щука в полынье умному в руки не дастся; а Емеля, сдуру, засучил рукав, присел, запустил руку в полынью и – вытащил щуку! «На что ты меня поймал?» – спросила щука, когда Емеля стал сажать ее за пазуху. – «Как на что? – отвечал Емеля. – Отдам тебя невесткам, так они сварят тебя, а я тихонько унесу да съем, да закушу толокном с квасом, с луком! Ты, чай, не знаешь, что у меня будет нынче лук и толокно?» – «Знаю, – отвечала щука, – а на что же тебе меня, когда у тебя будет и лук, и толокно?» – «Толокно толокном, – отвечал дурак, – и лук луком, и квас квасом, а ты таки поди в корчагу!» – «Пусти меня, – просилась щука, – я за это исполню всякое и любое твое желание!» – «Это не худо, – подумал дурак. – Да дело в том: жил был мужик в беде крутой и посулил всем угодникам, по обету, поставить по гривенной свече, а когда выпутался обещанник наш, так говорит: «Не дам, подите, ищите на мне!» Так и я отпущу тебя тогда, когда ты мне сперва службу отслужишь, не прежде; когда рожь, тогда и мера!» – «Положи же меня опять, – отозвалась щука, – на самый край полыньи, чтобы я, по крайней мере, могла доставать носом воду и в жабры выпускать ее, а сам поди на берег, оглянись на все четыре стороны и, если увидишь галку белохвостую, то подойти потихоньку и поймай ее так же искусно, как ты поймал меня; посади ее за пазуху и скажи: по щучьему веленью, по моему прошенью, перекинься, галка двуногая, белохвостая, в чертенка двурогого, чернохвостого; а что дальше будет, сам увидишь; но меня в прорубь посадить не позабудь; если же я усну на льду, так тебе худо будет!»
Емеля вышел на берег, оглянулся и увидел на земле чернильницу, в которой стояло белое перо и от ветра повертывалось. Земский исправник, приехавший в слободу на следствие, по доносу, который был им отыскан и узнан в печатном предсказании Мартына Задеки, где сказано, что в России скрываются еще великие сокровища, – земский исправник этот привез, для следственного дела, из уездного города чернильницу, дал ее подержать писарю волостному, а тот, ознобив с ней руки, поставил ее на снег, а сам дул в кулаки и проминался. Емеля счел чернильницу с белым пером белохвостой галкой, он снял с головы шапку, подкрался к птахе ползком и благополучно ее накрыл. Не успел он вынуть чернильницу из-под шапки, ровно соловья из-под лучка, и вымолвить заклинание: по щучьему веленью, по моему прошенью, перекинься, галка двуногая, белохвостая, в чертенка двурогого, чернохвостого, – как в руках у него зашевелилось и выполз из чернильницы смуглый, рогатый, чернохвостый чертенок! Емеля дурачок поймал его, как зайчонка, за задние лапки, и хохотал, бока надсадил, кишки порвал, когда тот начал хрюкать и визжать поросенком, рваться и проситься на волю, к земскому. «Пусти меня, – говорил чертенок, – я тебе за это, чего ни пожелаешь, все сделаю!» – «Врешь, – отвечал Емеля, – обманешь, в лес уйдешь; судил пан шубу, да не дал; а слово его и тепло, да не греет! Пойдем-ка вместе на полынью, потолкуй там с кумой, со щукой; либо я тебя утоплю, а ее на берег закину, либо дадите наперед, что посулили!»
«А что бы ты пожелал себе? – спросил черт, – Проси с меня службу троякую; пожелай в три раза, чего хочешь?»
«Наперед, – сказал Емеля, – чтобы у меня всегда было в волю лука, квасу и толокна; потом, чтобы всякая работа, к какой меня невестки или другой кто ни приставят, сама собой делалась; а еще в-третьих… а в-третьих, еще луку, квасу и толокна!»
«Все это перед тобой, – захрюкал чертенок, – помни только заговор, который тебе скажу: по щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, будь то и то, и будет». – «Попытаемся, – сказал Емеля. – По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, луку, квасу и толокна!» – Все явилось. – «Ладно, – сказал он, – сыт; не хочу больше! всегда ли так будет?» – «Всегда», – отвечал чертенок. Емеля теперь отпустил чертенка на волю, посадил щуку в прорубь, стал перед своими ведрами, которые тем часом примерзли ко льду, так что он не мог их оторвать: «по щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, подите, ведра, не расплескивая воды, на гору, да станьте в избу, на лавку!» Ведра пошли сами на гору, с боку на бок, как фря какая, с башмачка на башмачок переваливаясь, коромысло долговязое плакалось на скороходов и через силу их догоняло. Соседи, глядя на это, крайне удивлялись такому чуду: ведра сами идут, а Емеля наш вслед за ними, луком заедает, их, как уток, перед собой погоняет. Полные ведра стали в избе, на лавку, а Емеля наш влез опять на печь.
Но невестки не давали ему покоя и говорили: «Ты бы, дурак, пошел да дров нарубил». – «А вы что?» – спросил Емеля. «Как, что? – отвечали те. – Женское ли это дело, дрова рубить? Теперь время холодное; не пойдешь, так ты озябнешь, на холодной печи лежа, а красного кафтана, красной шапки и красных сапогов и во сне не увидишь!» Тогда Емеля, лежа на печи, тихо промолвил: «По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, поди, топор, наруби дров; а вы, дрова, сами в избу ступайте, в печь полезайте!» И отколе ни взялся топор, выскочил на двор, нарубил дров охапку большую, а сам пришел, да и лег под лавку. Дрова в избу ввалились и стали, полено чрез полено, с полу да в печь кидаться, а Емеля лежал себе на печи, ел лук, да толокном с квасом прихлебывал!
«Емеля, – сказали ему невестки, – дрова у нас вышли все; поезжай-ка ты в лес да привези, а не то так и не будет тебе красного кафтана!» Емеля не стал на этот раз и отнекиваться, а, вздумав еще кстати подшутить над целой слободой, слез с печи, оделся, обулся, вышел на двор, вытащил из-под сарая дровни, навалил в них луку и толокна, сел и велел невесткам растворить ворота пошире. Сани, по щучьему веленью, по земскому решенью, понеслись слободой – да прямо в лес, только под полозьями снег скрипит!

Но в лес должно было ехать через город: народ там сбежался, на улицах давка, затор, всем хотелось поглядеть на такое чудо, что едут сани без лошадей, а оглобли завожжены! Но дурак Емеля, не разумев, что должно кричать: «Пади!» – а съезжаясь с другими санями: «Держи правей ты!» – передавил в том городе множество людей, конных и пеших и санных. Доехав же до лесу, сказал он: «По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, поди, топор, наруби дров – да шевелись у меня! А вы, дрова, в вязанки вяжитесь да на дровни ложитесь!» Топор пошел долбить, с березы на березу, как дятел; нарубил дров, навязал беремей с десяток, навалил в сани, – дурак сел, луком закусил, и сани пошли чесать по мороженному, как по писанному!
Но в городе, где он передавил народ, его уже стерегли, и кинулись и ухватились за него, стали тащить с саней и бить. Тогда Емеля проговорил тихо, про себя: «по щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, рассыпься одно беремя, которое побольше, на поленья, а вы, поленья, постарайтесь, около этого затора, пересчитайте-ка всем им ребра, поломайте им головы!» Не успел вымолвить Емеля заклинания, как поленья выскочили из саней и пошли крестить по народу, по чем попало; трескотня по лбам, по затылкам пошла такая, что небу жарко стало. А Емеля покинул оглобли: «Эй вы, миленькие, аль вы забыли, как прежде любили!» Сам тряхнул вожжами – оглобли помчали его, он приехал в слободу свою, во двор, в избу, и полез на печь.
Вскоре весь тот край говорил о Емеле дурачке и о проказах его; народ сходился и сбегался со всех концов на родину его, чтобы поглядеть на этого чудодея; а он и усом не ведет лежа на печи, ест калачи, толокно с квасом да лук, и знать никого не хочет.
Наконец, весть об этом дошла и до короля той страны; король захотел непременно увидеть Емелю, послал одного чиновника своего и приказала привезти его немедленно. Чиновник тот вскоре напал на след, отыскал слободу, в которой проживал Емеля дурачок, позвал старосту и велел привести дурака к себе. Староста пошел, но воротился с ответом, что Емеля нейдет: ему дома, на печи, и сытно, и тепло! Тогда чиновник тот созвал всех приспешников своих, приказал подать себе все уборные припасы и снаряды и лучшие цветные наряды, и пошел сам за Емелею. «Слезай с печи, дурак, – сказал он Емеле, – да одевайся». – «А зачем?» – спросил тот. – «Как, зачем, – отвечал чиновник, – ты слышишь, дурак, что тебя требует король: я тебя повезу к королю!» – «А чего я там не видал? – опять спросил Емеля. – У меня луку да квасу с толокном и здесь вволю!»
За такую дерзость чиновник ударил его по щеке; а Емеля не марая рукавиц, сдал его на руки помелу, и велел, по щучьему веленью, по своему прошенью, почистить ему галуны, нафабрить усы и вытолкать по загривку. Сказано – сделано. Чиновник сел и поехал восвояси, и путем-дорогой был, сказывают, после Емелиной чистки, тише воды, ниже травы. Король ответу его весьма изумился и послал немедленно другого, поменьше чином да поумней аршином, и велел как-нибудь обмануть дурака и привезти его непременно. Тот, приехав в слободу, позвал старосту и велел привести к себе людей, с которыми Емеля дурак живет. Староста побежал, накинув зипун, и позвал невесток дурачка Емели. «Что ваш дурак любит?» – спросил чиновник у них. – И чем бы его с печи сманить и в столицу заманить?» – «Милостивый государь, – отвечали невестки, – дурак наш любил когда-то толокно с квасом да лук; бывало, посулишь, так и в огонь и в воду готов, а ныне он разжился сам на свою руку этим добром, сыт по горло и по уши! Но дурак наш не терпит угроз, а любит, чтобы его просили до трех раз и посулили наконец красный кафтан, красную шапку и красные сапоги; тогда уже верно он сделает то, о чем его просят».









































