Читать книгу "Русские Сказки"
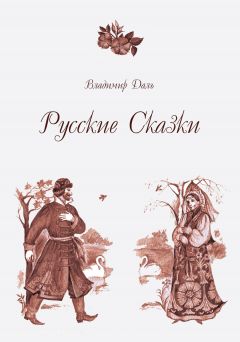
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сказка пятнадцатая
О Строевой дочери и о коровушке Буренушке

Все мы под Богом ходим; кто карает, тот и милует; из тучи дождь, а за тучей изготовленье, припасено и насторожено красное солнышко; туча дождем рассыпалась, солнце проглянуло и обсушило.
Жил был, во стране привольной, во земле крещеной, бобыль, прозывавшийся, по промыслу своему, Строем, и был он велик человек на малые дела и зодчий именитый на клети, на хлевы, а подчас умел срубить и мужицкие хоромы, которых сам избою никогда не называл. Жена его Аграфена была хозяйка добрая, баба рабочая, и старик Строй любил ее и берег, как глаз свой, покуда она была жива, а как только умерла, так он схоронил ее на погосте мирском, потужил, помянул ее в третины, в девятины, в полусорочины, в сорочины, т. е. на третий день, в девятый, в двадцать первый и в сороковой, да, не дождавшись ни полугодовщины, ни годовщины, оженился снова, взял за себя вдову Горбылевну.
От первой жены была у него дочь, ныне шестнадцати годов, которая была названа во св. крещении Пелагиею, по имени Св. Пелагии, которую празднуют весною, мая 4-го, то есть через седмицу со дня рождения дочери Строя; а вторая жена его, Горбылевна, привела ему с собою трех дочерей: Шалаву об одном глазе, Гуляву о двух и Потачку о трех глазах. Сводные сестры с первого дня не могли поладить: втроем стали нападать на одну, на бедную сиротку Палашу, а сама мачеха, как только ногу через порог в избу нового сожителя своего перенесла, стала обижать падчерицу свою – и бедной девчонке житья в доме не было. Камень перед жаром треснет, а воск растопится; пасынок не перенес бы того, что бедная падчерица переносила: он бы и сам козырнул подчас, отцу поклон, мачехе другой, да и пошел бы промышлять: белый свет для доброго молодца не клином сошелся, а девичье дело парню рознь; будет жить да тужить, покуда разве не изойдет слезою!..
Пелагея сперва исправляла в доме всякую черновую работу; но когда мачеха увидела, что, несмотря ни на какое унижение, все ее предпочитали трем дочерям ее, тогда задумала удалить ее из дому, чтобы добрым людям да молодым женихам никогда на глаза не попадалась. Она заставляла ее каждое утро выгонять в поле небольшое отцовское стадо коров, которым обзавелась, став промышлять сыром да маслом. Палаша, несытая, неодетая, необутая, пасла стадо и выгоняла в том числе и свою любимую коровушку Буренушку, которая осталась после смерти матери ее, еще телкой, и была вскормлена из рук Палаши. Мачеха задавала ей сверх этого еще на день выпрядать тяжелые уроки, кормить – ничем не кормила, кроме плесневатых корок да побоев, без которых не проходило ни одного вечера; обносила и оговаривала ее перед всеми, не исключая и родного отца, и бедной сиротке ласкового слова не удавалось слышать, кроме разве коли кто ненароком его выронит! Строева дочь питалась только молочком от родимой коровки своей.
Шалава одноглазая была худа и костлява, как тарань-рыба; Гулява двуглазая пойдет – словно корова в юбке, сядет – словно морж матерый; а Потачка трехглазая удалась в мать свою, Горбылевну: по горбу на лопатке, а ноги короче утиных. Итак, не мудрено, что у них женихов не было; все парни не переставали хвалить сиротки нашей, поговаривая о трех дочерях Горбылевны, которыми тешилась одна только мать: «Хороша дочь Аннушка, коли хвалят ее мать да бабушка!» А Палаше бедной пуще за это и доставалось, и житья в отцовском доме не было.
В один день сиротка наша сидела на муравке и горько плакала, никак не могучи выпрясть урока, как вдруг Буренушка подошла к ней тихонько, полизала у нее руку, тихо промычала и спросила человечьим голосом: «О чем, милая моя, плачешь?» – «А как мне не плакать, – отвечала Палаша, лаская свою коровушку, – когда я лишилась родимой матушки, а мачеха меня гонит с бела света, кормит корками гнилыми под плесенью, задает уроки непосильные, и бьет немилосердно, если их не выпряду?» – «Не плачь, – сказала коровушка, – и не грусти, отеческая дочь, я тебя буду поить и кормить, я на тебя буду службу служить». С тех пор, бывало, как только сиротка Палаша коров в поле выгонит, коровушка Буренушка ей левое ухо подставит, а та в одно ушко к ней влезет, в другое вылезет, напьется и наестся, умоется и приоденется, а потом приляжет к ней головкою, досыта отдохнет и выспится; а Буренушка, тем часом, оком материнским на нее поглядывает, сама мычки мычет да прядет, и выпрядала день-деньской уроки Палашины.
Такое досужество коровушки Буренушки избавляло сиротку от побоев; все у Палаши делалось и скоро, и споро, и придираться даже Горбылевне и дочерям ее, Шалаве, Гуляве и Потачке, было не к чему. Это стало им крайне досадно; а кто захочет собаку ударить, тот найдет и палку. Горбылевна стала доискиваться, кто на падчерицу ее пряжу прядет и уроки за семерых вырабатывает? И догадываясь, наконец, что кто-нибудь приходит к ней в поле, разгласила о дурном поведении и тайных свиданиях падчерицы своей с нечистым духом, который будто бы навещает ее в поле под ельничком, во образе огненного змия, и стала посылать дочерей своих поочередно с нею в поле, чтобы они за нею присматривали, а сама продолжала задавать уроки больше прежнего.
Первая пошла с нею Шалава. «Сядем, сестрица, – сказала ей Палаша, – здесь, видишь, пырей, здесь буркунец, его коровушки мои любят и будут гулять, не бось, не разбредутся; а я тебе скажу на досуге сказочку да спою песенку». Они сели, а Палаша стала ей сказывать сказочку затейливую: как мурза из-под Ногая набегал на станицы казацкие, полонил казака молодого, казака роду горского, осетинского; станом и складом он был трехгодовалая тополь, а лицо и стати у него атаманские; как плакали по нем две девицы: одна, сестра родная, по нем плакала, сама собиралась к родимой матери; другая, сиротка бесприютная, плакала, рукавом белым слезы отирала, за милым дружком своим в неволю, на выкуп, идти собиралась, а сама плачучи приговаривала:
Горе-горькая моя руса коса!
А вечор тебя матушка расчесывала,
Расчесывала матушка, заплетала ее —
Я сама девица знаю, ведаю,
Расплетать будет мою русу косу
Трем татарам, ногайским наездникам…
Шалава сказочки заслушалась, прилегла головою на колени Палашины, а за песенкою прищурила один глаз свой и задремала. Палаша, дочь отцовская, позвала коровушку, в одно ушко влезла, в другое вылезла, наелась, напилась, а там, стоя, головкой к ней присклонилась, отдохнула; а Буренушка мычки перемыкала, пряжу выпряла, сама глазом материнским на нее поглядывала. Когда они со стадом в сумерки возвратились домой, тогда Горбылевна, приняв готовую пряжу от Палаши, ни о чем не могла от Шалавы доведаться; она уверяла, что Палаша пряла сама.
На другой день пошла с Палашей Гулява, о двух глазах: и с нею было то же. Палаша рассказала ей сказочку про Игошу, безрукого, безногого, который родился у мужика уродом, умер некрещеный, да и ходит ныне проказить по соседству; ему за обедом ложка залишняя кладется, ему хлеба коврига на особицу, ему пирога ломоть; а исправляет он за это должность зауряд-домового: он лошадей бережет и катается на них по ночам; иной раз упарит так, что в мыле хоть выжми; он и колтун им заплетает; он избу от худобы, от изъяну оберегает. Гулява заслушалась, голову на колени Палаше положила, заснула, а та подозвала коровушку, напилась, наелась, отдохнула и пряжу перепряла. Девки домой приходят, пастух по дороге стадо деревенское гонит, на рожке песни ясным голосом играет-выговаривает, и девушки стадо перенять из села навстречу выходят, мальчишки на сопелках ивовых играют, бичами похлопывают. – Горбылевна Гуляву в допросу: Гулява ни о чем не знает, не ведает; божится, клянется, что Палаша сама мычки перемыкала, сама перепряла.
Горбылевна на третий день послала с Палашею Потачку трехглазую. Палаша ее посадила, сказочку сказала и песенку спела; Потачка заснула, два глаза защурила, а третьим все видела; видела, как Палаша с коровушкой Буренушкой ведалась, как ей в ушко влезла, в другое вылезла, напилась, наелась, отдыхать к ней прислонилась, а коровушка мычки перемыкала и пряжу перепряла, и все это, воротившись, матери своей, Строихе, пересказала. Строиха Горбылевна крайне разгневалась на падчерицу свою: прибила, ее, заперла в заклети, а сама пошла к мужу своему, к отцу Палаши, и уломала старика Строя зарезать коровушку Буренушку.
Жена у русского мужика – правая рука: возьмет не мытьем, так катаньем, не шильцем, так мыльцем; ты говори свое, она, знай, свое; ты кончил, думаешь – справился, а она затягивает ту же песню, которой починала; глядишь – мужик махнул рукой, плюнул и сделал по ней! – Палаша, узнав об этом, горько плакала, с коровушкою своею прощалась, когда вдруг подошла к заклети сама коровушка Буренушка и сказала: «Не плачь, Палаша, дочь отеческая, не кручинься; когда меня убьют, то выпроси для себя копытца мои, рожки и требушинку, и предай все это земле, на улице, в палисадничке, противу окошечка своего». В этом последнем утешении отец Строй не отказал дочери своей; отдал ей на долю рожки, ножки и требушинку; она же, поплакав еще разок, зарыла все это на улице противу окна и прикрыла зеленым дерном.
На заре следующего дня, когда пастух, проходя по селу, затянул на рожке песенку плясовую: во зеленыих лузях, а дочери Строихи Горбылевны вышли с подойниками подоить коров своих, они с большим удивлением увидели на том месте, где Палаша накануне схоронила в землю остатки коровушки своей, яблоньку с листьями серебряными и яблоками золотыми. Они явлению этому весьма удивились, пошли и сказали о том матери своей, Строихе, которая, поглядев на яблоньку, не менее чуду тому удивилась и пошла рассказать мужу своему, Строю; и Строй, вышедши в палисадник, яблоньке золотой удивлялся, а как к нему подошли жена и падчерицы, то они начали дивиться чуду тому все вместе. Между тем как они стояли в палисаднике, и Строиха Горбылевна с мужем своим уговаривалась, как защитить и сохранить от воровства такую драгоценность и послать королю земли той в подарок несколько золотых яблочек, а остальными наделить, вместо приданого, Шалаву, Гуляву и Потачку, – вдруг на улице показалась толпа, шапки полетели под самые кровли, и молодой король, отправлявшийся на какое-то потешное зрелище, явился среди народа. Он увидел очарованную яблоньку, остановился – вспыхнул лицом и грудью и узнал в ней вещим сном ему обетованное знамение. «Здесь, под этою стрехою, обитает друг мой, – молвил он, – ему принадлежит серебряная яблонька с золотыми плодами; если это мужчина, то он наперсник мой, он товарищ правления и первый в земле моей вельможа; если женщина – то это подруга моя и народу моему законная повелительница. Пускай же истинный хозяин или хозяйка сокровища сего поднесет мне из рук своих золотых плодов!»
Горбылевна торопилась нарядить и убрать старшую дочь свою, одноглазую Шалаву, дала ей блюдо и приказала нарвать и поднести королю яблок. Но лишь только та подошла к дереву, как оно начало хлестать ее прутьями по ушам, и она, зарыдав, отскочила и сбросила с себя все богатые наряды. Гулява двуглазая испытала ту же участь; а Потачка лишилась даже третьего глаза своего, который выстегнула ей яблонька, сказав: «Худое дерево и с корнем вон; он у тебя лишний, когда в соглядаи пошел; по русскому обычаю, доносчику первый кнут». Тогда, наконец, уже отец Строй, видя нетерпение короля, послал дочь свою Палашу, которая, в худеньком кумачном сарафане, босиком, без сережек, без бисеру и без ленточек, но опрятно причесанная, с косою по икры, поклонилась королю, подошла к яблоньке, сорвала три золотых яблока, подошла к королю, снова поклонилась и подала их ему приветливо, прямо из рук своих, примолвив: «Жить и княжить тебе, великому королю, королевне, супруге твоей, и наследнику твоему, трижды три-девять трехлетий; нам тебя любить и слушать, как я отца своего люблю и слушаю; тебе нас миловать и жаловать, как меня Буренушка моя миловала и жаловала!»
Король спросил Палашу, дочь отеческую, кто таков отец ее, и кто коровушка Буренушка, и, выслушав благосклонно и внимательно все, что она ему рассказывала, надел ей на руку колечко драгоценное, поцеловал в чело высокое и назвал царскою невестою. Отправясь немедленно во дворец, прислал он Строевой дочери богатый сарафан: взглянешь правым глазом – яхонты по полю бирюзовому радугами переливчатыми, словно перья павлиные, играют; – взглянешь левым глазом – словно багряница утренняя сквозь лазурь небесную сквозит, звездочки мерцащие проглядывают. Сарафан этот приняла Строиха Горбылевна, надела на среднюю дочь свою, Гуляву, и послала за порог, встречать короля, ехавшего с придворным причтом своим в дом старика Строя, на помолвку с дочерью его. Король, коего зрение было отуманено наваждением, принял было Гуляву за Палашу, дочь отеческую: но вдруг любимец Палашин, петушок, золотой гребешок, масляна головка, разбежавшись, закричал: «Куд-куд-куд-куда?» Взлетел на кровлю избы Строя, захлопав крыльями, и пропел: «Тута нету!» Король с изумлением остановился; петушок, золотой гребешок, полетел на заклеть и закричал, как будто скликая куриц: «Тут, тут, тут, тут». – Король вошел в заклеть, велел поднять опрокинутый большой обрез, и нашел под ним бедненькую Палашу, дочь отеческую. Он взял ее за руки, посадил на колесницу свою, сел сам и поскакал – а когда, отъезжая, оглянулся, то увидел, что из целого семейства бобыля Строя вышли оборотни: сам старик оборотился в смиренного вола, Строиха Горбылевна прыснула серой кошкой по кровлям и по заборам; три дочери ее, Шалава, Гулява и Потачка, стояли, три индейки, в воротах дома своего, глядели вслед за колесницею, за Палашею, и, протянув шеи, кричали без толку во все индюшечье горло.
Яблонька пошла следом за Палашею, стояла во время венчания ее с королем на паперти церковной; а когда ее окропили священной водой, то она пошла опять следом за новою королевою и долго украшала сады королевские: водились на ней птицы райские, пели песни царские, короля с королевою утешали, нас с тобою забавляли.

Сказка шестнадцатая о воре и бурой корове

Гни сказку готовую, что дугу черемховую! Пей-ка, копейка; пятак, постой-ка, будет и на твою долю попойка! Гужи сыромятные, тяжи моржовые, шлея наборная, кобыла задорная – пойдет рысить через пни, через кочки, только держись, супонь да мочки! Эх вы, любки-голубки, хвосты-песты, головы-ступки, что ноги ходки, хвосты долги, уши коротки, аль вы забыли, как прежде любили? Эх, с горки на горку, даст барин на водку – даст ли, не даст ли, а дома будем, дома будем, гостей не забудем! Эх, маленькие, разудаленькие, ударю! Гни сказку готовую, что дугу черемховую!
Погоди, Демьян, либо ты с похмелья, либо я пьян; а этак гнать, добру не бывать: держи ты тройку на вожжах, правь толком да сказку сказывай тихомолком, а то с тобой чтоб беды не нажить, чтобы сказкой твоей кого не зацепить; ты сказкой о воре и бурой корове кому-нибудь напорешь и глаз, не только бровь! А ты кричи: поди, поди, берегися! Едет сказка тройкой, сторонися! Сказка моя в доброго парня не метит, а ледащего не жаль, хоть и зацепит.
Жил-был под Нижним, под городом, мужик, а с ним и баба, а с нею и дети – семеро никак – шестеро постарше, а один помоложе всех. Поколе мужик тот был в поре, так за всякую работу брался; «Я, – говаривал он, – слава Богу, человек крещеный, так у меня руки от работы не отвалятся!» А как состарился, так уже и не под силу стало; коли лапотки сплетет, лучины под светец надерет, так и на том спасибо. Было время, что он детей кормил, а ныне – дети его и кормят, и поят: круговая порука! Старик детей своих шестерых наставил и научил добру, и вышли они парни работящие – а на седьмом, на Ваньке, оборвалось: не впрок пошло отцовское ученье; отбился, отшатнулся и пошел своим проселком – не доймешь его ни калиной, ни хворостиной! У него, чуть где плохо лежит, то и брюхо болит; что ни взглянет, то и стянет! А сам увалень, лежебок такой, что, опричь разве за поживой, не шелохнется ни рукой, ни ногой. Как, бывало, в воскресный денек, утром раным-ранешенько, поколе народ у заутрени, с легкой руки протянет пятерню да сволочит у соседа кушак, либо нож, либо, буде рука не дрогнет, колесо с телеги, – так и пошел на всю неделю, отколе что берется! Ванька с малых лет приучал себя к этому ремеслу – без выучки нет мастера, а без уменья и пальца не согнешь. Он хлеба еще не умел спросить у матери, а сам уже тихомолком руками за ломоть хватался. Бывало, мать поставит удой молока на семерых, да ребятишек обсажает на полу вокруг, а он один в две руки да в две ложки уписывает – ни одной ложки мимо рыла не пронесет; бывало, отец привезет из Нижнего на всех ребятишек по маковнику, а он сестрам и братьям песком глаза запорошит, да и поест все один. Бывало, положит сам свои рукавицы на полати, заползет с печи, да и приноравливается, как бы поладнее их стащить, чтобы и самому не увидать; бывало, сам у себя портишки унесет да и схоронит, и ходит как мать на свет родила. А когда только стал он своим языком лепетать, слова выговаривать, так первое слово сказал, для почину, поговорку: лупи яичко – не сказывай, а облупишь – не показывай; первую песню запел про русского про Картуша, Ваньку Каина; первую сказку сказал про Стеньку Разина. – Эх, быть бычку на веревочке! – говаривали ему добрые люди. – Наш Ванька не слушает и ухом не ведет. Стал ему старший брат говорить: «Ванька, коли ты у меня еще что украдешь, так ткну я тебя в рыло ногой, будешь ты семь недель без одной лететь торчмя головой!» Ванька себе на уме. Поется старая песня: «Не бывать плешивому кудрявым, не отвадить вора от куска краденого», – и Ванька все проказит по-прежнему. Тогда уже сказал ему отец: «Послушай, Ванька, ты теперь не мал и не глуп; скажу я тебе притчу. У моего сударя у батюшки, а у твоего у дедушки, была собачища старая, насилу она по подстилке таскалася, – и костью краденою та собака подавилася; взял дед твой ее за хвост, да и под гору махнул – и была она такова: будет то же и тебе от меня. Ступай ты лучше, до греха, с моего с честного двора; вот тебе образ, а вот тебе двери, дай Бог свидеться нам на том свете, а на этом не хочу я тебя и знать, не хочу я хлеба-соли с тобой водить, не хочу с тобой в баню ходить; где со мной столкнешься, ты мне не кланяйся, шапки передо мной не ломай: я тебя не знаю, и ты меня не знай, я тебя не замаю, ты меня не замай!»
Гни сказку готовую, что дугу черемховую! Эх, по всем, по трем, коренной не тронь, а кроме коренной и нет ни одной! Кто везет, того и погоняют, у меня коренная за всех отвечает; мой рысак под дугою рысит, не частит, пристяжные выносят, жару просят… Ой, жару, жару, нагоню я на свою пару – ударю, ударю!.. Гни сказку готовую, что дугу черемховую!
Эй, Демьян, не нажить бы беды, ты, знай, гонишь, что в маслену по блину – ныне русской езды барич не любит, а всяк дома втихомолку трубит; по своей езде ты ищи простора, чтобы не зацепить, невзначай, кроме Ваньки и другого вора!
Ванька ухватил шапку, рукавицы, зацепил мимоходом залишний утиральник узорчатый, что висел на стене, подле осколыша зеркала, сманил с двора отцовскую собаку, да и пошел. В эту пору шла на их село конница на пегих конях; трубачи, обступивши лоток, торговали у бабы сайки; один, видно, не сошелся в цене, так, заговоривши тетку, нагнулся с коня, протянул пять рублев костяных, да и стянул валенец. У всякого свой обычай: казак на всем скаку с земли хватает, а драгун с лотка. «Прямой музыкант, – подумал Ванька про себя, поглядев на трубача, – что только завидит глазами, то и берет пальцами да руками! Чуть ли этот не придется мне сродни: и я на костяной раздвижной трубке мастер играть!»
«Что ты, продувной парнишка, рот разинул, глядишь? Нечто не видал еще, как пять свах натощак засылают по невесту голодному жениху! Ты, видно, не женат еще?» – «Холост», – отвечал Ванька. – «Так ты по нашему, – продолжал трубач, чтобы заговорить опасного свидетеля и выиграть время, – люди женятся, а у нас с тобой глаза во лбу светятся! Что же ты не ищешь себе невесты? Девок у вас много да и все славные, и сам ты молодец!» – «Хотел было бачка оженить, чтоб жена берегла да приглядывала, да я не хочу», – сказал Ванька. – «А для чего же ты не хочешь? Ведь и бачка твой был женат чай, аль нет?» – спросил трубач. – «да ведь бачка-то женился на мачке, – отвечал Ванька, – а за меня отдают чужую!» Трубач рассмеялся на дурака, на Ваньку, да и хотел было ехать, но тот не промах. «Погоди, – говорит, – режь да ешь, ломай да и нам давай! Отдай-ка мне полваленца, а не то скажу». – «Не сказывай, – отвечал трубач, – я за это научу тебя своему ремеслу, пойдем вместе. Первая вещь, берегись пуще всего, чтоб не проходило красного утра без почину, а то весь день пропадет даром. За большим не гоняйся, Ванька: хозяйскую печь под полою не унесешь, а ты достань из нее лепешку, так и того с тебя будет; ныне рыба дорога – хлебай уху, а малая рыбка и подавно лучше большого таракана. Вот ведь и мы тоже все с крохи на кроху мелкотою перебиваемся, да, благодаря Бога, сыты; если ж станешь за крупным добром гоняться, так заплечного мастера не минуешь». – После таких добрых наставлений и поучений, развязался трубач с Ванькою и пристал снова к товарищам. – «Насилу сбыл шелудивого, – подумал он про себя, – поделюсь я с ним сайкою, держи карман! Молод больно; Господь мне послал, так я и съем, а ты губы свои оближешь, коли не прогневаешься!» – Сам – хвать за пазуху, ан валенца и нет! Ай да Ванька. Вот ухорез! У вора коренного из-за пазухи сайку унес, с ним же рядом идучи, ее не жевавши съел, да и пошел запить к кваснику, что вышел конницу на пегих конях встречать. – «Ну, счастье твое, дуйте горой, – сказал трубач, – что я тебя не поймал, я бы сделал из тебя мутовку, не то заставил бы носом хрен копать!» – «Что за счастье, – проворчал Ванька, – счастьем на скрипке не заиграешь, всякое дело мастера боится, а иной мастер дела боится».
«На копейку что ли?» – спросил квасник, выхватив стакан из-за пазухи. – «Пить, так пить, – отвечал Ванька, подумав немного, – наливай на две!» – Квасник налил, Ванька выпил, стянул у него же пятак, отдал за квас, да еще три копейки сдачи взял!
Гни сказку готовую, что дугу черемховую! «Смотри, Демьян, не нажить бы беды, тройка наша храпит, того гляди– понесет!»– «Понесет? – спросил Демьян. – А плеть на что?» – «Да разве ты плетью держать станешь?» – «Острастку задам плетью, так и вожжей слушать станут». – «Эй, Демьян, кобыла под гору побьет». – «Нет, разве я ее побью, так это скорей станется», – отвечал опять сват; а сам стегнет вправо, стегнет влево – рысак пошел через пни, через кочки, только держись, супонь да мочки! Пристяжные в кольцо свиваются, из постромок порываются, глаза, словно у зверя, наливаются. Уснули, вздремнули, губы надули, я разбужу, подниму на ходули! Валяй, не страшно, будет на брашно – ой, ударю! Гни сказку готовую, что дугу черемховую!
Такими и иными, той же масти, проказами ремесла или художества своего прославился Ванька наш до того, что деды наши сложили про него сказку: «О воре и бурой корове». Сказка эта вырезана в лицах, на лубке, не то на дереве, расписана широкою кистью медянкой, вохрой и киноварью либо суриком; она продается в матушке Москве белокаменной, на Никольской улице, в книжной лавке Василья Васильевича Логинова, и начинается стихами: «Злоумышленный вор некий был, во многие грады для кражи ходил, и уже шельмован был неоднократно, и то ему было невнятно!» В этой-то сказке в лицах, о воре и бурой корове, наш Ванька играет лицо не бурой коровы, а вора. «Многие, – так продолжает сказочник, – ремесло его знали и ничего у него не покупали. Ванька об этом не плакал, не тужил, а чистые денежки удил да ловил. Но он таки не спускал, где трафилось, и товаром, у него дня не проходило даром. Случилось ему однажды через деревню идти и к крестьянину по пути ночевать зайти. У мужика была бурая корова, не дойная, так тельная, статна и здорова. «Корова моя, – подумал Ванька, – все дело в том, чтобы ее увести да себе хлопот не навести». Утро вечера мудренее, а у Ваньки на почине и пальцы подлиннее. Лег он, задремал, на заре встал, корову со двора согнал и под дорогой в орешнике привязал; а сам на рассвете воротился и лег, где лежал, словно ни в чем не бывал. Поутру хозяин его разбудил, да тюри ему накрошил; Ванька за хлеб, за соль его благодарил, а хозяин, собираясь в город, его спросил: «А куда тебе, сват, идти? Пойдем вместе, коли по пути!» Ванька сказал, что идет в ближайший град, а крестьянин тому и рад; надломили хлеба, Богу помолились и вместе в путь-дорогу пустились. А Ваньке не хочется покинуть коровы, ну как пойти и придти без обновы? У него, про случай, давным-давно с три короба затей припасено. Говорит мужику: «Ты, сват, меня здесь маленько обожди, не то я и нагоню, пожалуй себе, иди, а я по дороге у человека побываю, не засижусь, он мне продолжился; хоть и скоро отдать раз десять побожился, хоть уж и не деньгами с него взять, а чем-нибудь, только бы захотел отдать. Правду же, сват, люди говорят: «Не дать в долг остуда на время, – дать – ссора на век!» А мужик придакнул, говорит: «Иди, да скорей назад приходи; а я сниму лапоть с ноги, да погляжу, не то соломкой переложу – не помять бы ноги, беда бедой, как придешь в уездный город хромой!»
Ванька пошел, корову отвязал, и ведет, как свое добро, будто за долг ее взял. Мужичок наш на нее глядел, глядел, и таки, наконец, не утерпел, говорит: «Ну, воля твоя, а это, волос в волос, буренушка моя!» А Ванька плут ему отвечает: «Неужто похожа? Бывает, сват, бывает; чай, твоя – кости, мясо да кожа, да и моя то же; напрасно сходство тебя в сомнение вводит; ты знаешь, и человек в человека приходит; корову эту я у мужика за долг взял – и то насилу застал: ходишь, ходишь, постолы обобьешь, да с тем же опять и отойдешь! Ой, сват, послушай ты моего слова простого, а стоит оно, ей-ей, дорогого: не дашь в долг – остуда на время, дашь в долг – ссора на век!» – «Что клеишь – говоришь и красно ты баешь, да коровы твоей от моей не распознаешь! А станешь ее дома держать, аль, может, поведешь куда продавать?» – Ванька, увидев, что мужик крепко чего-то добивался, да и струсив, чтоб в городе кто не придрался. И вспомнив, что его там всякий уже знал и потому ничего у него не покупал, сказал: «Хотел бы продать, теперь денег мне нужно, время тяжелое, да только крепко недосужно; кабы ты, землячок, ее по рынку поводил, я бы тебя после благодарил, поставил бы тебе вина полкварты, назвал бы братом да обыграл бы в карты!» – Мужик говорит: «Пожалуй, я продам, а выручку, не бось, сполна отдам». Ванька отделаться по добру рад, думает: «Господь с тобой, возьми корову свою назад; а я встану, благословясь, пораньше, да шагну куда-нибудь подальше, так тут ли, там ли, на поживу набреду, где-нибудь не только корову, и бычка уведу!» – глядит, а крестьянин уж воротился, за свое добро да ему же поклонился; продал сам свою бурую корову, а денежки принес Ваньке на обнову. Ванька ему полкварты поставил, а себе сапоги да три рубахи справил. Мужичок наш пьет, попивает, а что коровушка его иокнула[20]20
Иок по-татарски: нет.
[Закрыть], того и не знает! Наконец, он домой на село приходит, на двор поспешает, а хозяйка с детками его встречает, говорит: «Ох, у нас дома крепко нездорово, пропала со двора наша бурая корова!» а детки ревут в два кулака, кричат: «Тятя, хотим хлебать молока!» Тогда мужик наш заикнулся, запнулся, слова вымолвить не очнулся; сам шапку с головы снимает, из головы хмель вытряхивает, умом раскидывает, гадает:
«Ох, детки, детки, и я с вами пропал! Я своей буренушки сам не узнал! Была в руках, да меж пальцев проскочила – беда-бедовая по ком не ходила! Ах, куда мне, детушки, вас девать, у кого теперь станем молоко хлебать!» А жена ему стала говорить: «Как ни плакать, ни тужить, а гореваньем другой коровы не нажить, а тебя, старого дурня, вместо коровы не подоить!»
Стой же, сват, стой, заморим мы свою тройку, едем мы с тобою не сблизка, а сдалеку, сказка кончена, вино кизильное подле боку, – станем да переведем дух, выпьем с тобой, рука на руку, сам-друг.










































