Читать книгу "Русские Сказки"
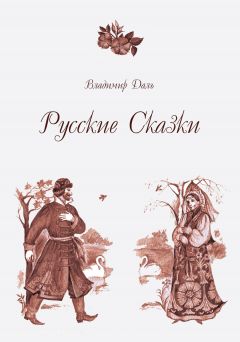
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом

Иван наш уже на пути. Терпит он холод и голод и много бедствий различных переносит; Бог вымочит, Бог и высушит; потерял он счет дням и ночам – светишь, да не греешь, подумал он, поглядев на казацкое солнышко, на луну, только напрасно у Бога хлеб ешь! И видит он вдруг, что зашел в бор дремучий и непроходимый, такой, что света Божьего не взвидел; пень на пне, то лбом, то затылком притыкается – устал хоть на убой! Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных глубоких вязнут – поднял он лычко подвязать голенище – горе лыком подпоясано! – вынул платочек даровой заветный супруги-сожительницы – вдруг его как на ходули подняло! Отозвалося лычко ремешком! На нем сапоги-самоходы, да и такие они скороходы, что и на одном месте стоят, так конному не нагнать; не успел шагнуть, полюбоваться рысью своею, и уже все вокруг него зазеленелось; зашел он из белой матушки зимы в цветущую, благоуханную весну – и полетел наш Иван, оглянуться не успел, выходит из лесу соснового дремучего на лужайку вечнозеленую, травка-муравка вечно свежа-зелена, как бархатец опушкой шелковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудесное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла; столбы беломраморные кровлю черепичную-серебряную подпирают, на ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные и лепные под карнизами резными разгуливают, окна цветные хрустальные, как щиты огненные, злато отливают – ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора; без забора, без запора, говорится, не уйдешь от вора, а тут все цело, исправно, видно, некому воровать! Обошел капрал наш здание это раз-другой кругом, оглядел со всех сторон – всюду то же и входа нет! Смелость города берет, а за смелого Бог; без отваги нет и браги, не быв звонарем, не быть и пономарем! Стук, бряк в окно хрустальное, зазвенело-полетело, только осколки брызнули! Забрался наш Иван безродный, удалой в терем золоченый, да и ахнул! Хороша куропатка перьями, а лучше мясом; здание внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ниже в сказке сказать! А палаты огромные пусты; никто на зов Ивана, молодого сержанта, не откликается; нет ответа, нет привета. Ходил, ходил Иван наш, выходил по всем покоям, и видит вдруг, встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик луженый. Выпил он на усталость крючок, за здравие благоверной сожительницы своей, другой, за упокой клеветников и доносчиков своих, третий – разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золоченым один как перст, похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую: «растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая», во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает: – «Ох ты гой еси добрый молодец, мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал, по своему ли желанью или по чьему приказанью?»

– Я Иван, молодой сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я Иван безродный удалая голова, витязь бездомный и безконный, служил я верно Богу и некрещеному царю своему в земле, что за триста конних миль; сбили меня царедворцы завистливые с чести, с хорошего места, лишили милостей царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили-обещали; сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кривую; – не дали, чего посулили, на произвол судьбы за третьей службой отпустили: иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за той горою лес, а за тем лесом опять гора, придешь в тридесятое государство, что за тридевять земель, в рощу заповедную, стоит там терем золотой, в тереме том живет Котыш-Нахал, невидимка искони века – у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют – их-то принеси царю, царевичам, царедворцам и наперсникам их потешаться, музыкою заморскою забавляться!
Отозвался невидимка снова: – Кого ищешь, Иван, молодой сержант, того нашел. Зовут меня Котышем-Нахалом, вековечный я невидимка; живу в заповедной роще, в тереме золоченом. Знаю я художества разные и многие; умею я строить-набирать гусли-самогуды, да с уговором: грех пополам; я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу; просветишь – гусли-самогуды возьмешь; а заснешь, не то вздремнешь, так голову, как с воробья, сорву! До слова крепись, а за слово держись; попятишься, раком назовут!
– Полез по горло, – подумал Иван, – лезть и по уши; уже теперь не воротиться же стать. Надрал он лучин хвойных, зажег, светит день, светит ночь, светит и еще день, сон клонит неодолимый; кивнул Иван головой, задремал. А Котыш-Нахал толк его под бок: «Ты спишь, Иван». – «Ох, спать я не сплю, и дремать не дремлю, а думаю я думу». – «А какую же ты думаешь думу?» – «А думаю я, глядя в окно, множество несметное растет по свету белом лесу разнокалиберного – а какого более растет, кривого или прямого? Чай, кривого больше». – Котыш-Нахал призадумался. «Погоди, – говорит, – постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю». Пошел; а капрал наш тем часом залег, да давай на скорую руку спать. Долго ли, нет ли ходил Котыш – не долог час на аршин, да долог улучкою, – а Иван поспал изрядно; он солдат, спит скоро; бывало, под туркою, походя наестся, стоя выспится. «Вставай, Иван, – закричал Котыш, – твоя правда, кривого лесу больше; и больше так, что, на числа положить, так русским счетом и не выговоришь. Зажигай-ка лучину да садись за работу, свети трое суток сряду!» Светит капрал наш день, светит и ночь, добился и до другой – опять песня та же; крепился, крепился, задремал! А Котыш его толк в ребро, спишь, говорит? – «Ох, спать я не сплю, и дремать не дремлю, а думаю я думу!» – «А какую же ты думаешь думу?» – «А думаю я: несметное множество людей на свете у Бога да у земных царей, а мало ли было да перемерло? Каких же больше людей на свете, живых или мертвых? Чай, мертвых больше!» Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошел считать. Ходил он сутки с неделей без семи дней, по ихнему без году со днем, выходил всю поднебесную; а Иван на брюхо лег, спиной укрылся, зевнуть не успел, заснул. – «Вставай, капрал, пора за работу; а правда твоя: мертвых людей больше, живых без четверти с седьмухой три осьмины, а остальные все мертвые».
Светит Иван опять ночь со днем; перемогся и другую, а до третьей стало доходить, вздремнул, да так, что всхрапнул да присвистнул! Толкнул его Котыш в ребро: «Спишь, Иван?» А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: виноват! К виду едется, а к слову молвится: авось, небось, да как-нибудь, а если на беду концы с концами не сойдутся: виноват! Вот что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего брата и бьют, да, видно, все еще мало, неймется! – «Из твоей вины, – молвил Котыш-Нахал, – не рукавицы шить, не сапоги тачать, а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на мою заповедную мелкотравчатую, погляди еще раз на белый свет, простися, покайся, умирать собирайся, а я голову с тебя, как с воробья, сорву! Охота хуже неволи; ты же сам обрекся не животу, а смерти; слово сказано языком да губами, а держись за него зубами!»
Вышел Иван, молодой сержант, на лужайку заповедную, вечнозеленую, вспомнил родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Что рыбе погибать на суше и безводьи, то добру молодцу умирать в чуже на безродьи! Вынул Иван платочек заветный италианский утереть в последний раз слезу молодецкую – а уж Котыш-Нахал зовет к себе на расправу, под окном косящатым сидя, в растворчатое глядя. – Пришел к нему капрал наш, заживо мертвым себя почитает, молитвами грешными сам себя поминает. «Отколе ты взял платок этот?» – спросил у него Котыш-Нахал, невидимка искони века. Иван рассказал, от кого и каким случаем платок ему достался. «Ладно, кума, лишь бы правда была, – отозвался Котыш, – правду ли ты говоришь?» – «Божиться у нас не велят, да и лгать заказывают, – отвечал служивый; – что сказано, то и свято; на солдатском слове хоть твердыни клади». – «Не долго думано, да хорошо сказано, – молвил Котыш; – если так, то ты бы мне давно это сказал – стало быть, ты женат на дочери моей прекрасной, девице Катерине, и ты, по завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пробудешь жив, здоров, и невредим и свободен от всякой пени, но и должен получить в приданое собственные мои гусли-самогуды, искони готовые, заветные, на которые и было положено завету заслужить любовь и руку дочери, моей прекрасной девицы Катерины. Для милого дружка и сережку из ушка!» Снарядил его, в поход отпустил, гусли-самогуды в мошне кожаной на плечи повесил, – заиграли, заплясали, песни чудные запели – а Иван лыжи настроил да направил восвояси; шагает, как жар-птица летает, домой тропится-поспе-шает. Шел он оттуда високосный год без недели со днем, не то поменьше, не то побольше, не поспеть ему и назад в сутки! Стоит над путем-дорогой избушка домоседка, распустила крылья как курочка-наседка, а в ней стукотня; лукошко, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы, сестры, одна буланая, одна соловая, вокруг избы дозором объезжают, никого к ней не подпускают. Повесил Иван гусли-самогуды на дерево, заслушались ведьмы игрой чудесной, а он тем часом обошел кругом да и в избу. Старик седой молотом полновесным перед жерлом огненным на наковальне булатной кует булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на полати за печь кидает. Это был вещун-чародей, служивший на Ивана, по повелению сожительницы его Катерины, службы царские, но они друг друга не знавали в глаза. Старик принял радушно пришельца усталого; «ляг, говорит, да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец – за вкус не берусь, а горячо да мокренько будет!» Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал, на беду, игру чудесную гуслей-самогудов, и стал он их у Ивана выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов поисков, трудов и похождений неимоверных – а тот не взял добром, так взял семером; помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим. «Хочешь ли бороться с каждым и со всеми? – спросил вещун-чародей, – или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои?» Иван подумал, да и отдал гусли; коротки ноги у миноги на небо лезть! Выбрал булаву поувесистее и пошел, проклиная белый свет! Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А был уже так близок великий цели своей! В раздумье играя булавой, стал он набалдашник золотой отвертывать. Отвернул – из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего, вылетает, в строй парадный перед ним на луку собирается, генералы с адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомного и безконного, наскакивают, отдают честь должную полководцу, музыка полный поход играет, подвиги Ивана, молодого сержанта, выхваляет, армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правою ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна-чародея, обмундированные, вооруженные. Надел Иван набалдашник золотой – исчезло все, как не бывало, снял – опять здесь, и бой, и музыка, и армия, и генералы с рапортами; а гусли-самогуды в котомке за плечами! Смекнул делом капрал наш; набалдашник надел, палицу в руки, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и марш на один шабаш в родимую свою сторонушку. Поспел до рассвета; стал на луга заповедные царские, которые не только человек один ни смел святотатными стопами своими попирать, но на кои и птица мимолетная не садилась – снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли-самогуды заставил играть: «За горами за долами!»

Царь, проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца необычайно, струсил без меры, и послал губернатора, графа Чихира, пятнашную голову, осведомиться немедленно: что, и как, и кто, и почему? Идет Чихирь, узнал Ивана, молодого сержанта, издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивые-ругательные произносит: «Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился, и врасплох нас не застанешь! На тебя виселица готова давным-давно!» Притравил словом одним Иван своих на старого недруга закоснелого – схватили – не довольно по клочку, по волоску на каждого не досталось! Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим – «нет, говорит, видно, этот мужик заслушался; поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин!» – «Не ломайся овсяник, не быть калачом», – сказал ему Иван, и этому участь не завиднее первого, и третьему, генералу Дюжину, также. Но теперь вызвался и пошел сослуживец и поборник Ивана, молодого сержанта, поступивший ныне на место убывшего, сосланного за тридевять земель по гусли-самогуды. Зная службы и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом, шел не спотыкался, стал не шатался, заговорил не заикался, и осведомился от имени царского о происходящем. Иван, молодой сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказался именем своим, приказал царю бить челом и доложить, что Иван воротился из походу своего, сослужил службу царскую, принес гусли-самогуды из рощи заповедной вечнозеленой от Котыша-Нахала, вековечного невидимки, царю, царевичам и наперсникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов, и в послушании остался ждать решения царского. Царь Дадон золотой кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвел в военноначальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры – но и только что Иван дался в обман и пошел без подозрения на зов царский, как два наемные резника с кистенями, с ножами, бросились с остервенением ему навстречу; они имели повеление обезоружить его, отняв палицу, и бросить его в темницу. Велика Федора да дура, а Иван мал да удал: им было бы выждать, покуда он взойдет в тесные ворота дворцовые, и захватить его сзади, а они, не поглядев в святцы да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано, да сделали мало. Теперь Иван в последний раз испытал коварство царя Дадона золотого кошеля и советников его правдолюбивых; он выпустил войско свое, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумении, ибо некуда было и капле дождя кануть – и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона золотого кошеля и все сыщиков, блюдолизов и потакал его. Человеку нельзя же быть ангелом, говорили они в оправдание свое, но не должно ему быть и дьяволом, отвечал он им – и Соломон, и Давид согрешали – Давидовски согрешаете, да не Давидовски каетесь! Нет вам пардону! И по делом; они все, по владыке своему, на один лад, на тот же покрой – все наголо бездельники; каков поп, таков и приход; куда дворяне, туда и миряне; куда иголка, туда и нитка.

Иван был провозглашен от народа царем земли той, а супруга его, благоверная Катерина, царевною; он был еще в цветущей молодости своей, да и она в отсутствие его не состарилась, ибо все неимоверные похождения его с Котышем-Наха-лом и гуслями-самогудами действительно произошли в продолжение одних только суток. Царь Иван много лет здравствовал и царствовал кротко и смиренно, милостиво и справедливо; пользовался мудрыми советами супруги своей, благоверной Катерины, ратию своею несметною держал во страхе и повиновении врагов своих, и был благословляем народом. Празднуя же восшествие свое и супруги своей на престол, заставил на пиршестве обильно ликовать народ три дня и три ночи без отдыха; вина заморские лились через край; яств, каких только прихотливая душа твоя пожелает, вдоволь; скоморохи, выписные и доморощенные, игрища многоразличные, горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народ, со всех концов царства обширного собравшийся.
И я, и сват Демьян там были, куму Соломониду дома забыли, мед и пиво пили, по усам текло, в рот не попадало – кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь; кто нет – тому ни капли!

Сказка вторая
О Шемякином суде и о воеводстве и о прочем; была когда-то быль, а ныне сказка буднишняя
Карлу Христофоровичу Кнорре

Пробежал заяц косой, проказник замысловатый, по свежей пороше, напрыгался, налягался, крюк выкинул сажени в три, под кочкою улегся, снежком загребся, притаился, казалось бы его уж и на свете нет – а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смеются, на след глядя, проказам его; экий увертливой, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-дорогой, по людски, виляет стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками по снежку выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет – экий куцый проказник! Ну, а как бы ему еще да лисий хвост? – И долго смеялись зайцу, а заяц уж Бог весть где! Слухом земля полнится, а причудами свет; это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди. Шемяка, судия и воевода, напроказил, нашалил и скрылся, как заяц наш, да след покинул рыси своей лебединой-лапчатой; а русский народ, как известно всему свету, необразованный, непросвещенный, так и рад случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти, зубы поскалить, и подымает на смех бедного Шемяку судию и поныне. Кто празднику рад, тот до свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида, бывало как вспомянет, что у свекрови на крестинах пономарь оскоромился, так и в слезы; а в Суздаде, сват Демьян, и на тризне, да хохочет! Уговор лучше денег, кто в куму Соломониду удался, ни сказки, ни присказки моей слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, приключениях жалостных Стоухана Рогоуховича и Бабарыки Подстегайловны лежит у меня под спудом; а присказка о косом и куцем зайце и сказка о суде Шемякиной написана, к быту приноровлена и поговорками с ярмарки Макарьевской разукрашена, для свата Демьяна с честными сотоварищи: всякому зерну свою борозда; на всех не угодить; шапка с заломом, будь и бархатная, не на дворянскую голову шьется – а по мне да по свату куцее платье, французская булка на свет не родись! Нам подай зимою щи с пирогом, кашу; летом ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да ржаного хлеба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть – а затем просим свата Демьяна не прогневаться, небылицами коренными русскими потешиться, позабавиться; у нас с ним, как у людей, выше лба уши не растут!
Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Не родись умен, не родись богат, а родись счастлив. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного не много, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздников, по приметам, отличать от буден, ходил в тонком кафтане – а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирный: когда спит, так без палки проходи смело; и честный, заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке; а что скажет, то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосий, покойник, царство ему небесное, вечная память, смышлен и хитер на выдумки, на догадки, тороватей немца иного – ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу не подточит; да любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по голове молотом, не отзовется ль золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него и праведные деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол на голове теши, да добр и богобоязлив; так мужики и надеялись нажить от него добра, да и оскоромились. Не то беда, что растет лебеда, а то беды, как нет и лебеды!
Приходит к старосте Шемяке баба просить на парня, что горшки побил. Парню, лежа на полатях, соскучилось; поймал он клячу, а как он был не из самых ловких и проворных, так не умел и сесть, покуда кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла, а на беду тут у соседки на частоколе горшки сушатся – понесла, да мимо горшков; он, как пошел их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!
Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила парню протори, убытки и горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила. – Где суд, там и расправа; мы проволочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!
Чтобы тебе быть дровосеком, да топорища в глаза не видать, за такой суд, подумал сват Демьян; убил бобра! Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет!

Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород, и во двор, и в сени повадился ходить соседский петух; а поваженый, что наряженный, отбою нет; и такой он забияка, что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц; а соседка приберечь и устеречь его не хочет. Тогда судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу своему очинить ему нос гораздо потонее и поострее, наподобие писчего пера, дабы он мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах и умер голодною смертию. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха; конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!
Теперь еще пришла баба просить на мужика. «Как квочки раскудахтались, – сказал Шемяка, – визжать дело бабье!» Ехали они вместе, баба с мужиком, на рынок; мужик стал про себя рассуждать: «Продам я курицу, продам яйца, да куплю горшок молока». – «А я, – примолвила баба сдуру, – я хлеба накрошу». Тогда мужик, не медля ни мало, ударил ее в щеку и вышиб у нее два зуба; а когда она спросила, зарыдав: «За что?» Так он отвечал ей: «Не квась молока». – Мужик с бабой пришли к Шемяке и просили друг на друга; мужик, не запираясь ни в чем, принес два зуба, которые у нее вышиб, в руках.
– Квасить молоко чужое не годится, – сказал Шемяка просительнице, – на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай! Но и ты не прав, земляк: вина одна; с чужим добром не носись, на утварь ближнего не посягай. Отдай бабе сей же час оба зуба, сполна, да и ступайте, Господь с вами! Тут и без вас тесно, и на брюхе пресно; сегодня еще ни крохи, ни капли в глотку не попадало, а хлопот полон рот – в голове как толчея ходит; бьешься, бьешься, как слепой козел об ясли! Либо одуреешь с этим народом, прости Господи, либо с ума сойдешь, либо, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!
За такие и иные подобные, хитрые увертки и проделки нашего судии правдивого, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отныне честить-величать по батюшке, Шемякою Антоновичем. Полюбится сатана лучше ясного сокола; вечор Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал! Коси малину, руби смородину! Жил прежде, так стал поживать ныне; готовый стол, готовый дом, а челобитчиков, просителей, на крыльце широком, что локтем не протолкаешься! Шемяка возмечтал о себе и стал, как овсяная каша, сам себя хвалить и воспевать: «Я-де старого лесу кочерга, меня не проведешь, и на кривых оглоблях не объедешь; у меня чем аукнешь, тем и откликнется; судить да рядить я и сам собаку съел; я и малого греха, и малой неправды не потерплю ни в ком; от малой искры да Москва загорелась; вола и резник обухом бьет, убей муху! А у меня, кто виноват, так виноват, хоть себе невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!»
А как бы сват мой Демьян его подслушал, так и подумал бы про себя: «Ври на обед, да оставляй и на ужин! Ох ты гой еси добрый молодец, судия правдивый, Шемяка Антонович, сын отца своего родного-кровного Антона Поликарповича. Ни ухо ты ни рыло, ни с рожи, ни с кожи, а судишь так, что ни мыто, ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя ум за разум заходит, знать, чересчур перевалил; а где тонко, там, того и гляди, порвется! И сатана в славе, да не за добрые дела; а иная слава хуже поношения. Ты богослов, да не однослов; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а сделаешь поперек; запряжешь и прямо, да поедешь криво!»
Все это подумал бы он про себя, а сказать, не скажет ни слова. Кто Шемяку посадил в воеводы, тот и отвечает. Солдат солдата под бок толкает: «Земляк! Куда ты идешь, гляди-ка, тут головы не вынесешь без свища!» – «Про то знает тот, кто посылает, – проворчал старый служивый, – не ты за свою голову отвечаешь; а ты знай иди, да с ноги не сбивайся!» Так и я; не наше дело, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба с краю, я ничего не знаю.
Пришел мещанин к воеводе Шемяке Антоновичу просить на соседа. Сосед у него был убогий, по имени Харитон, отставной целовальник. Он бы поехал и на топорище по дрова, да чай не довезет и до угла – так он и пришел просить у зажиточного хозяина кобылу. «У меня, – говорит, – и дровни стоят наготове, и кнутишко припасен, и топор за поясом, так за малым дело стало: лошаденки нет! Не откажи, батюшка!»
Так и кума моя, Соломонида, что на Волге жила, не тем будь помянута, бывало о масленой пошлет внучку к золовке: приказала-де бабушка кланяться, собирается блины печь, так уж наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородник, а велела просить: сковороды нет ли, мучицы гречневой, молока да маслица!
Ссудил сосед Харитона, отставного целовальника, кобылой, пришел тот к нему и за хомутом; а как хомута лишнего у этого не случилось, так он ему и не дал. Тогда убогий Харитон наш не призадумался: он привязал кобылу просто к дрогам за хвост и поехал по дрова; когда же, навалив воз большой, возвращался из лесу домой, так был под хмельком; он ворота отпер, подворотню выставить позабыл, а сам кобылу стегнул плетью. Она бросилась через подворотню и выдрала себе хвост весь, а дровни остались за воротами. Харитон приводит кобылу без хвоста, а хозяин, не приняв ее, пошел на него просить.
Воевода Шемяка повелел кобылу ту привести и освидетельствовать, действительно ли она без хвоста! А когда сие оказалось справедливым, и присяжные ярыги и думные грамотеи в очках хвоста искали, искали, и не нашли, тогда воевода Шемяка суд учинил и расправу и решение такое: «Как оный убогий мужик, Харитон, отставной целовальник, взял кобылу с хвостом, то и повинен возвратить таковую же; почему и взять ему оную к себе и держать, доколе у нее не вырастет хвост».
– Ну, вот и с плеч долой, – сказал Шемяка про себя, – сделаешь дело и душе-то легче! Премудрость быть воеводой! Ведь не боги же и горшки обжигают!
«Удалось смелому присесть нагишом, да ежа раздавит, – подумал сват Демьян, – первый блин да комом! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонил, да и с колокольни! Чуть ли наш воевода не с Литвы; а туда, говорят, на всю шляхту один комар мозгу принес, да и тот, никак девки порасхватали, а на нашего брата не досталось, что шилом патоки захватить! Нашему воеводе хоть зубы дергай; человек другому услужил, а сам виноват остался; бьют и Фому за Еремину вину! Ни думано, ни гадано, накликал на свою шею беду – не стучи, громом убьет. Кабы знал, да ведал, где упасть, там бы соломы подостлал – не давать бы кобылы, не ходить бы просить. Мое дело сторона; а я бы воеводе Шемяке сказал сказку, как слон-воевода разрешил волкам взять с овец по шкуре с сестры, а больше не велел их трогать ни волоском! Такой колокол по мне хоть разбей об угол! Поглядим, что дальше будет».
Приходит еще проситель, по делу уголовному. Сын вез отца, больного и слепого, на салазках, в баню, и спустился с ним, подле мосту, на лед. Тогда тот же Харитон, отставной целовальник, у которого и было ремесло, да хмелем поросло, шел пьяный через мост, упал с мосту и убил до смерти больного старца, которого сын вез на салазках в баню. Харитон, подпав суду по делу уголовному, немного струсил; а когда его позвал Шемяка судия, то он, став позади просителя, показывал судии тяжелую, туго набитую кожаную кису, будто бы сулил ему великое множество денег. Шемяка Антонович, судия и воевода, приказал и суд учинить изволил такой: чтобы Харитону целовальнику стать под мостом, а вышереченному сыну убиенного прыгать на него с мосту и убить его до смерти. Долг платежом красен. Покойнику же отдать последнюю честь и пристроить его к месту, т. е. отвести ему земли косую сажень, выкопать землянку, снять с него мерку, да сшить на него деревянный тулуп и дать знак отличия, крест во весь рост. – Сват мой Демьян, услышав все это, замолчал, как воды в рот набрал, и рукой махнул. «Теперь, – говорит, – дело в шапке, и концы в воду; хоть святых вон понеси! До поры, до времени был Шемяка и прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества: по бороде да по словам Авраам, а по делам – Хам; из речей своих, как закройщик модный, шьет, кроит, да выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу – что дальше, то лучше; счастливый путь!»
Наконец приходит еще челобитчик. Тот же пьяный дурак Харитон выпросился к мужику в избу погреться. Мужик его пустил, накормил и на полати спать положил. Харитон оборвался с полатей, упал в люльку и убит ребенка до смерти. Отец привел Харитона к судье и, будучи крайне огорчен потерею дитяти своего, просил учинить суд и правду. Береза не угроза, где стоит, там и шумит! Харитон целовальник знал уже дорогу к правосудию: сухая ложка рот дерет, а за свой грош везде хорош. Он опять показал Шемяке, из-за челобитчика, туго набитую кожаную мошну, и дело пошло на лад.
Ах ты, окаянный Шемяка Антонович! Судья, и воевода, и блюститель правды русской, типун тебе на язык! Лукавый сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее твоего; – а кто хочет знать да ведать последний приговор судии Шемяки, конец и делу венец, тот купи, за три гривны, повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то суздальского, не то владимирского художника, начинающееся словами: «В некоторых Палестинах два мужа живаше» – и читай – у меня и язык не повторится пересказывать; а я, по просьбе свата, замечу только мимоходом, что изображение суда Шемякина, церемониала шествия мышей, погребающих кота, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: «Это, говорит Демьян, – показывает невежество и унизительно для суздальцев; изображения сии искусно вырезываются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке». Но сват меня заговорил, и я отбрел от кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду вози; не дочитав сказки, не кидай указки!









































