Читать книгу "Русские Сказки"
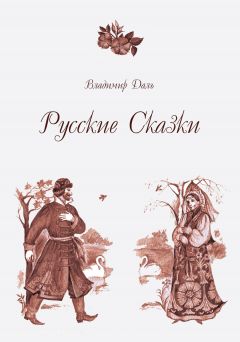
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
В одну ночь видел он беспокойный сон: ему пригрезилось, будто бы епанча нечаянно спала с плеч его; а через таковой сон пришел он в себя, начал размышлять о положении своем и спросил с беспокойством принцессу: сколь долго он уже у нее проживает? – Ему казалось, что он с нею блаженствовал уже трои сутки. Но как бедный Адольф Лападийский изумился, когда услышал, что со дня приезда его миновал уже целый век! Сорвав с себя епанчу, вспомнил он подданных своих, землю и обязанность венценосца, и требовал без отлагательства наипоспешнейшего увольнения своего и отъезда. Упрекнув его в непостоянстве, в измене – старинные годы, знать, не нашим чета: сто лет верной любви, да и то еще пеняют за непостоянство! – упрекнув его, говорю, в измене, подарила ему принцесса на дорогу крылатого коня, исправляющего в тех странах должность Пегаса, и сказала: «Покуда, любезный мой Адольф, будете сидеть на даровом, заветном коне моем, пребудете здравы и невредимы, и доставит он вас в землю и княжество ваше; если же, покинув седло, с него слезете, то ни за что более не отвечаю». Принц Адольф Лападийский со скорбию и слезами простился с милою принцессою своею, с которою неприметным образом провел, в разных приятных забавах, столь долгое время, и поскакал на коне Пегасе с такою поспешностию, что забыл даже взять про запас епанчу свою. Конь мчал его по долам и по горам, переплывая с ним моря и реки, и принц превозмогал всякое искушение и не сходил с седла. Наконец наехал он, по непроходимой и узкой дороге, на опрокинутую беду[19]19
Известно, что одноколку иначе называют и бедою.
[Закрыть]на двуколую колесницу, которая была, по-видимому, нагружена легким товаром – крыльями, но под которой лежал полураздавленный старик и молил о помощи. Принц не дал коню своему перескочить через него, но остановился, слез и подал мнимобедствующему руку помощи. Но старик седобрадый, ухватив принца с такой силой за руку, что не мог уже более высвободить руки своей, сказал твердым голосом: «Я Сатурн, а зовут меня Временем, я искал тебя сто лет по всей вселенной и обносил по тебе все свои крылья, почему и лег здесь отдыхать, зная, что тебе меня не миновать. Срок жизни твоей кончен, ты отжил, теперь поди умирать». В это время пролетел Зефир над умирающим принцем: он прослезился над бездушным телом искреннего друга своего, поднял его и унес на острове Вечного Веселия, где, сложив его в небольшую сокрытую пещеру, сделал на оной поучительную надпись: «Время есть время, то есть, как значится на одном арабском языке, есть всему господин; не бывает суток трехдневных, ниже недели длиннее седмицы; – жизнь человеческая уподобляется пущенной с лука стреле, которая летит воздымаясь – медлит – опускается, описывая тот же путь в обратном смысле, и упадает на землю, из которой изъята была; если же встречает на пути своем неодолимую преграду, то останавливает течение свое, не окончив обычного пути. Но срок полета ее исчислен, и ничто продлить его не в состоянии!»
– Спасибо, – рек Светозар-государь тому сказочнику своему заезжему, – исполать словеснику цареградскому за поучительные сказания давно минувших дел! Да только жаль, что Зефир твой сделал надпись поучительную на острове Вечного Веселия, где люди век блаженствуют и в нравоучениях не нуждаются! Ну, выходи, кому другой черед.
И заезжий из стран восточных, гость из земли Захвалынской, далекой, по обычным земли своей приветствиям, не стал пить чару зелена вина, а выпил чару меду рьяного, утирался ширинкою узорчатой, подгибал колена молодецкие, садился на ковры земли своей, ковры сорочинские, и начал так:
«Сказка моя гласит: о калифе Багдадском, о семи славных мудрецах его и о прокаженной.
Сын наследовал достояние отца, почившего в глубокой старости. Достояния было много, ибо отец был калифом Багдада и владел лучшей страной земли нашей, повелевая правоверными. Наследник был красавец душой и телом, верный чтитель пророка, верный слуга Корана, достойный обитатель седьмого неба и обладатель гурий. Он славился доселе чутким умом и правотой сердца; но с того дня, как сделался он калифом, все это изменилось. Окружив себя, для блага подданных своих, славными мудрецами, стал он видеть и слышать все, доколе обретался в чертогах великолепного дворца своего, но был, напротив, слеп и глух, если выходил из оного. Итак, все вести о вещах за пределами занятий домашних, т. е. забав его, находящихся, могли доходить до него только посредством мудрецов его, которые, тем более оказывая ревность к калифу своему, никогда и ни на шаг повелителя своего не покидали. Правоверные жаловались, угнетенные плакали, могучие злочинствовали, – юный калиф потешался, следовал советам мудрецов своих и верил, что народ его блаженствовал.
Между множеством разных фирманов, изданных молодым калифом, находился и такой, чтобы все без изъятия правоверные прибегали, после утренней молитвы, муллою с высокого минарета оглашенной, к мудрецам его, для изложения сими каждодневно всех снов и видений истекшей ночи. В толкованиях снов сих мудрецы юного калифа обещали найти путь и средство к исцелению его, и калиф нетерпеливо этого ожидал и требовал. Правоверные между тем плакались на притеснения неслыханные, ибо мудрецы брали с них каждодневно, за истолкование снов сих, плату поголовную, произвольную, со дня на день возрастающую; если же кто объявлял, что он спал эту ночь покойно и что ему не грезилось ничего, таковой, яко злоумышляющий на благосостояние и благоденствие калифа своего, осуждался немедленно к плахе или к опале. Калиф пребывал неисцелимым. Он сзывал с целого мира, не только из своей земли, целителей искусных и многознающих; они употребляли средства дивные и непреложные, средства, наделяющие древо зрением и камень слухом: калиф пребывал неисцелимым. Врачи или не могли отыскать истинной причины недуга его, или, скрестив руки на груди и наклонив покорные выи свои, молчали. Никто не смел догадываться. Бедному калифу, объезжая столицу, объезжая землю свою, оставалось делать только одно: он брал с собою мудрецов своих и располагал ими, как онемевшими чувствами своими и неупотребимыми членами: ты будь у меня головой, ты рукой, ты ногой, ты глазами, ты ногами, ты ухом и брюхом, и прочее. – Разложив таким образом повинности частей тела своего на мудрецов своих, калиф наш был спокоен и доволен. Мудрецы продолжали бесчинствовать и своевольничать, и писали для молодого калифа своего, в очередную и взапуски, громкие похвальные изречения, на персидском, арабском и санскритском языках, тешили его и забавляли, в ожидании пророческого сна. Но обетованный сон не являлся.
Однажды пришел к мудрецам, отбыв утреннюю молитву в мечети, факир; он поднес правую руку свою ко лбу, к бороде, к груди, поклонился и рассказал следующий сон:
«Поливая во сне финиковое дерево, которое стоит у меня в саду на небольшом кургане, увидел я под ним множество светляков; вскоре потом весь сад и домишко мой затопило со стороны восточной, где стоит сераль калифский, водою; одна только вершина кургана, где я стоял и где лежали светляки, под деревом, оставалась сухою. Что это значит?» Мудрецы взяли с него наперед пеш-кеш за истолкование сна и сказали: «Сон твой бестолков, и значения никакого не имеет. Вероятно, ты вчера опился шербета, день же был довольно жаркий! – и вот почему ты видел во сне много воды!»
Факир заплатил деньги, поклонился вышереченным образом и пошел; но решение это его не удовлетворило. Возвращаясь медленно домой, увидел он, на грязной, тесной улице, прокаженную, которая, нагая и босая, побиралася подаянием, в коем все ей отказывали. Факир подал ей медную монету и продолжал задумчиво путь свой. Когда он дошел до жилища своего и оглянулся, то увидел, что прокаженная его преследовала. «Отойди, – сказал факир с негодованием, – ты так отвратительна, что я тебя не хочу видеть!» Но прокаженная навязывала услуги свои: хотела непременно разгадать и истолковать факиру сон. «Почему этот Богом наказанный урод знает, что я видел сон?» – подумал факир про себя, и рассказал, что ему пригрезилось. «Светляки, – отвечала прокаженная, – означают клад, сокрытый под финиковым деревом; возьми заступ и вырой его. Вода означает бедствие, тебе угрожающее; спасение во сне на кургане – действительное спасение помощью содержащегося в оном кургане клада».

Факир сделал, что ему было сказано, нашел клад, медный луженый кувшин, наполненный золотом, подпал вскоре немилости мудрецов и опричников калифа, и от угрожавшей ему смерти едва мог откупиться найденным золотом. Благодарный факир взял несколько золотых монет, весь остаток огромного клада, и пошел отыскивать прокаженную, коей был обязан жизнью. Долгое время искал он ее тщетно. На расспросы его иные отвечали: «Была где-то, да пропала»; другие: «Видом не видать и слыхом не слыхать!» – третьи утверждали решительно, что факир прокаженную видел во сне; быть не может, чтобы она, со своим даром прорицания, была здесь в столице калифа, в именитом, славном Багдаде! Правительство правоверных таких потаскух не терпит. Факир пошел к кади, в судилище городское, и здесь отвечали: «Не найдешь, чего ищешь, здесь нет прокаженной, а сидят люди здравоумные». Сетующий, безнадежный факир шел задумчиво домой, как вдруг нечаянно встретил благодетельницу свою в толпе черного народа, на базаре, на торжище, где продавались старые платья и рухлядь. «Вот тебе все, что имею, – сказал факир, – весь остаток огромного клада; возьми это в знак признательности моей. Но скажи, всеведущая, для чего ты так безобразна и отвратительна? Взор твой несносен для глаз моих, а голос твой резок и нестерпим для слуха?» – «Ты не привык еще видеть меня, – сказала прокаженная, – всмотрись в меня хорошенько, прислушивайся чаще к речам моим и, может быть, ты скоро будешь судить иначе!» – Чем пристальнее факир глядел на нее, чем бдительнее слушал, тем, казалось, более и более ею пленялся и вскоре не мог ее покинуть, не мог с нею расстаться. Безобразие в глазах его исчезло совершенно: он полюбил ее страстно. Весь город, даже двор калифа заговорил о любви и дружбе факира с прокаженной, основанной на каком-то пророческом снотолковании последней, и калиф, которому неосторожные мудрецы об этом рассказали, как о вещи пустой, но по новости забавной, захотел непременно видеть достопамятную чету: надлежало привести ее в сераль калифский; иначе он не мог видеть оную, ни слышать. Итак, факира позвали. «У тебя есть товарка или товарищ, – сказал калиф, – кто он? Откуда? Можешь его позвать?» – «Товарищ мой, – отвечал факир, – есть безобразное, заброшенное существо, которое тебе, повелитель правоверных, не полюбится. Никем в мире подруга моя не бывает любима, кроме бедных и низкого состояния людей: каждая степень, коею человек приближается ко двору твоему, повелитель, уносит и удаляет его от подруги моей; здесь же, в серале, нет ничего с нею общего, и она здесь терпима быть не может». – «Но она отгадывает и толкует сны?» – спросил калиф. – «Она, – продолжал факир, – все видит; видит прямо и ясно, и говорит не запинаясь то, что видит; вот все ее искусство; но за это ее и не терпят, и прозвали прокаженной!» Калиф велел привести ее к себе немедленно. Все придворные его, начиная от визиря и до последней дворцовой кошки и собаки, с криком, лаем и визгом от нее метались в сторону: никто не хотел с нею встретиться. Шум и крик около сераля калифского до того увеличились, что съехались со всех частей города отлично устроенные пожарные трубы. Народ толпился, дворня суетилась – все спрашивали друг у друга: что это такое? Между тем калиф говорил с прокаженной наедине. «Кто ты?» – спросил он ее. – «Я истина». – «Откуда ты и как попала в такое жалкое состояние?» – «Нас было три сестры: истина, совесть и правосудие. Мы подкидыши, и родителей своих не знаем. Совесть сошла с ума на безмене; ее взвешивали, дробили на литры и драхмы, доколе она не рехнулась; ее посадили в дом умалишенных, тобою, повелитель правоверных, сооруженный. Правосудие не может ступить на ноги, до того пятки и подошвы избиты у него палками. Оно лежит теперь в богадельне, щедротами твоими, великий калиф, созданной, и питается подаянием. Меня, старшую сестру, сызмала до того загоняли, до того надо мною надругались, что мне нельзя было нигде в настоящем виде своем показываться, а стала я, юродивая, прятаться от людей и побираться, и обратилась, с прозванием прокаженной, во всеобщее посмешище и поругание». – «Но ты всеведуща?» – спросил калиф, для которого все, что она ни говорила, было ново и странно. – «Я никогда не лгу, – отвечала юродивая, – и если что скажу, то скажу не обинуясь правду». – «Знаешь ли причину немощи моей, – продолжал калиф, – которой я одержим с тех пор, что княжу, и которая лишает меня возможности видеть, слышать и действовать по собственному усмотрению, кроме в безделках, в стенах сераля и гарема, между тем как народ и землю должен я поручать иным?» – «Знаю, – отвечала прокаженная, – пойдем со мною в почивальню твою». – Калиф пошел. – «Прикажи поднять все драгоценные ковры, покрывающие одр твой, равно как и самое ложе!» – Когда это было сделано, тогда юродивая указала ему на лежащий под изголовьем золотой орех, около коего обвивались семь червей. «Что это?» – воскликнул удивленный калиф. – «Золотой орех, это ты, – продолжала гостья, – и добрые в тебе зародыши; семь червей – семь мудрецов твоих, которые чародейскими умыслами своими сделали из тебя калеку, из подданных твоих мучеников». – Тогда калиф вознегодовал до исступления. Он немедленно приказал казнить смертию семерых мудрецов своих, и тогда же прозрел глазами и ушами, телом и душою. Но когда он спохватился наставницы своей, которой был столько обязан, и которую хотел непременно навсегда оставить при себе, то ее уже не было; она опять пропала без вести и велела сказать калифу, чрез улема его, что юродивая и прокаженная дева, которую узнал он впервые под именем истины, никогда при дворце ка-лифском жить не может: что самый мудрый и благомыслящий властелин должен считать себя счастливейшим, если она, хотя мельком, заглянет в сераль его».
За сим сорочинский гость, рассказчик замысловатой сказки восточной, встал и отдал царю Светозару поклон, по обычаю земли своей, а место почетное на ковре, перед седалищем царским, уступил третьему и последнему. А третий молодец не ему ровня: не чета он сорочине долгополому, не товарищ цареграду щепетильному. Он свернул да поставил шатром белым бурку кабардинскую, на ней волос серебром горит; накрыл ее шапкой треухой, на бобре да на алом бархате; брякнул колени молодецкие, порасправил усы темно-русые, поклонилась голова забубенная, полилась сказка струя-струей – хоть бы плюнул, кашлянул, хоть бы словом поперхнулся одним.

«Сказка о Морозе Снеговиче и о двух родных братьях.
Сказка голая, что епанча однополая, сказка без хлеба, без соли, сказуется через силу, слушается поневоле; моя сказка одета, обута: в начале стольничают, в конце бражничают, а посередине пьют, да гуляют, да добрых людей поминают.
Жил был старик, а у него два сына. А как, благостию Всевышнего, старики на этом свете помирают да детям добро свое покидают, так и наш старик жил, жил да и умер, а деньги оставил сыновьям. Пошли ему, Господи, Царство Небесное, а нам, многогрешным, кроху на помин души!
У старшего брата, по имени Оплетало, была совесть коновальская; а меньшой, Смекайло, был и с бородой, да с худобой; борода-то выросла, а ума не вынесла. Стали они делить наследство: Оплетало братишку своего оплел, обобрал, – это мне, это тебе, это мне, это тебе, это мне, – обделил, да и на свет пустил. А как у него, у сердечного, хозяйки не было, так вскоре поправился он до того из кулька в рогожу, что, бывало, собаки в избе ложки моют, козы в огороде щавель да капусту полют! Пошел было он просить помощи у брата – да тот, как сытый голодного не понимает, согнал его со двора. Медом, пивом поит не богатый, а тороватый.
«Деньги – прах, – подумал Смейкало, – а животы – что голуби, где поведутся! Знать, моя доля такая; доброе братство мне бы и милей богатства, да, вишь, нет ни того, ни другого! Идти было бы в гости, да никто не зовет; а брюхо, злодей, старого добра не помнит! Встать пораньше, да шагнуть подальше, не набредешь ли где на съестное? Снял кафтан с нашести, подпоясался, ухватил шапку и рукавицы и пошел в ту сторону, куда голова перевес взяла. Шел он, шел под пролеском, что налим-рыба под мутным берегом, наткнулся на избушку; – а избушка та, за ночь, как дождевик, выросла. Смекайло вошел, перекрестился, поклонился в угол, в другой и в третий! «Здравствуй, коли кто живой в избе есть!» – «Бог на помочь», – отозвался седой старик на печи. – «А что, дедушка, никак у тебя холодно?» А Смекайло по голосу послышал, что дед в избе на печи сидит: «Нет ли где погреться?» – «Не люблю я вас, молокососов, баловать, – отвечал дедушка, Мороз Снегович, – я про себя топлю печь снежком да ледком; ну, да уж набери пожалуй хворосту, разведи огня да погрейся – а в печи есть, коли хочешь, и каша, и щей горшок!» – Нашему Смейкале ни кой клад; погрелся, наелся, выспался, дедушке поклон в пояс, да и собрался с рассветом в путь. «Чтобы ты не плакался на беду да меня поминал, – сказал Мороз Снегович, – так возьми вот кожаную суму: с нею богат не будешь, а сыт будешь; когда есть захочется, так кинь на пол, не то на стол, и молви: сума, дай пить и есть, – и даст. Да смотри, не отдавай ее никому!» Смекайло – дедушке в ноги, прибежал домой, ел и пил три дня хорошо и сыто, да и вздумал позвать брата с невесткой на именины, похвалиться перед ними добром своим. Брат долго отнекивался, наконец обещал придти, хлеба-соли именинника отведать. «Брат он мой, – подумал Смекайло, – а ум у него свой; богатство спеси с родни! Дай же я над ним шутку подшучу!» Взял ржаного хлебца ломоть да зеленого луку на грош, да квасу-сыровцу кружку, вина-сивухи полкварты, да соли на кружок насыпал, истолокши, и поставил все на стол. Брат Оплетало с невесткой пришли, разодетые, как Божьи племянники, ни к чему не приступаются, уста пречистые опорочить опасаются. Тогда Смекайло достал суму, кинул на стол и молвил: «Бог весть, что в суме есть; а вестимо и тому, кто принес суму! Сума, дай пить и есть!» В тот же миг три челядинца выскочили, яствами и напитками драгоценными стол весь уставили, и Оплетало с женой не могли такому добру надивиться и нарадоваться. Ели они и пили; наконец Оплетало брата подпоил, да и оплел; суму выменял на балалайку и пошел домой. Заутре Смекайло спохватился, – поздно, коли за своими щеками калача не удержал, а за чужими не удержишь! На балалайке три красные струны, а хлеба ни ломтя! Пришел он к брату:» За своим добром да я же тебе челом», – а брат его велел вытолкать. Не проси у богатого, проси у тороватого! Взвыла да пошла из кармана мошна! Взяло кота поперек живота, ох, ох! – а пособить нечем!
Пошел он опять к дедушке, Морозу Снеговичу. «Дедушка, провинился я перед тобой! Суму заветную отдал брату, а у самого ни хлеба, ни гроша на разживу!» – «Добро, – сказал дедушка, – добро, собьем ведро, обручи под лавку, клепки в печь, так авось и не будет течь! Ты умен, как дьяк Семен, книги продал да карты купил!» – «Дедушка, помилуй!» – «Быть так, Смекайло; на первый раз прощаю; гляди же, вперед не шали!» – Напоил его, накормил, и дал ему суму серебряную; из нее, по тому же слову, шесть человек выскакивают, кормят, поят до упаду. Смекайло таки не утерпел, чтобы перед братом не похвалиться новым добром своим: а тот, как пришел, как глянул, так вислоухого Смекайло, по-прежнему, опоил, да и оплел; на рожок с табаком выменял у него суму, да и пошел! Смекайло проснулся утром, – было густо, стало пусто! Запел, что коза на привязи: «Аль на мою голову прах пал, аль я в такой час уродился, аль на таких руках окрестился, что мне нету талану, что я ни с чего не разживуся? Добрый Иван – и людям и нам, а плохой Иван – ни людям ни нам! Таков и я теперь! Где беда ни была, а к нам опять пришла! Как быть? Брат меня обижает; он богат, так на нем хоть не ищи, на него ни суда, ни доказчиков; а Бог и видит, да не скоро скажет!» Но сколько наш Смекайло ни рассуждал, а пришлось в третижды идти к дедушке, Морозу Снеговичу. Смекайлу есть захотелось, а голод не сосед, от него не уйдешь! Пусть жить горько, да ведь и умирать не находка! – «Дедушка, виноват, а суму твою я опять прогулял: на рожок с табаком променял! Дедушка, Мороз Снегович, ты православному человеку свой; накорми да сумой подари; ай, дедушка, есть хочу сегодня, захочу – наперед знаю – и завтра». – «На всякое чиханье не наздравствуешься, – отвечал дедушка, – а на дурака добра не напасешься, не дам тебе ничего». – «Дедушка, помилуй! Грех да беда на кого не живет?» – «Грех грехом, – молвил опять дедушка, – а вина виной; у тебя борода с ворота, а ума с прикалиток нету; глупому сыну не в помощь и богатство!» – «Дедушка, помилуй, вперед не буду; у меня теперь отколе ум взялся, не стану пить да гулять, не стану на суме торговать!» – «Ты с коробом, а я с норовом, – сказал дед, – каяться, так кайся, да опять за старое не принимайся, тебя проучить порядком надо; гром не грянет, мужик не перекрестится; горбатого исправит могила, а упрямого – дубина! Простить разве еще раз тебя только для того, чтобы родному брату суму отдал! На, вот тебе сума золотая; когда есть захочешь, скажи: сума, дай пить и есть – двенадцать человек молодцов выскочат и накормят тебя вволю; да только ты, как наешься, кричи поскорей, не зевай: молодцы, в суму! Теперь похлебай моих щец, надломи хлебец мой, отдохни, да и ступай с Богом!» – Смекайло у деда ел не ел, все домой глядел, наконец пошел. Путем-дорогою вздумал он позакусить маленько своего хлеба и соли, золотой сумой потешиться. Он кинул суму на землю и молвил: «Сума, дай пить и есть!» Двенадцать молодцов выскочили из сумы и приняли бедного Смекайлу в плети, приговаривая: «Не пьянствуй, не бражничай, не балуйся!» – да так, что он едва успел опомнясь закричать: «Молодцы, в суму!» – и молодцы схоронились. «Чтобы тебе, старому черту, ежа против шести родить, – проворчал Смекайло, почесывая бока и спину, – какими учителями меня подарил! Этак, поневоле, дастся и собаке наука! Погодите ж, вы, дружки-толоконнички, толоконце съев, да и розно все! Это все вы брата моего с пути сбиваете, чтобы вас, дармоедов, черт растасовал! Я вас напою и накормлю всех, и тебя, доведь счастия, брат любезный, проучу я также!» Не успел он придти домой, как Оплетало с ровнями своими сам напросился на обнову поглядеть. Золотая сума до того приглянулась брату, что он отдал Смекайле – а уж Смекайло не промах – и кожаную, и серебряную, только бы добыть себе золотую. Добыл, пришел домой, хлебосольников готовых полна изба; он суму на стол, давай хвалиться гостям: «Бог весть, что-де в суме есть, и неведомо и тому, кто принес суму! Сума, дай есть и пить». Двенадцать молодцов, один одного ухватками чище, выскочили, ровно с лука спрянули, и приняли всех, кто живой тут был, в плети, приговаривая: «Полно пьянствовать, полно бражничать, пора за ум хватиться!» Холопы и челядинцы с криком на улицу повыскочили и со страхом поведали Смекайлу, ждавшему конца песни у ворот, на какую пирушку гости попали! Смекайло кинулся в избу и закричал: «Молодцы, в суму!» Все стихло, и плети улеглись в сумку; гости, почесывая спину, в охапку кушак и шапку, да скорей без памяти домой. Оплетало сидел, прижавшись в красном углу под образами, то крестился, то на суму косился, то поглядывал на Смекайлу, и добывал слова. Знает кошка, чье мясо съела! Смекайло подошел к нему и сказал: «Успокойся, брат любезный, молодцы в суме! Хоть они вам и дались знать, что до новых веников, чай, не забудете, но на этом не взыщи; ты знаешь, что у нас один битый семерых небитых стоит! Люби ездить, люби и возить; на людях и смерть красна, а как нам гулять, так и ночь коротка! Любезный брат! Добрые сумки обе у меня, а поганая у тебя; помирись со мною, обещай меня более не обманывать, не оплетать, так у нас все будет опять пополам: и добро, и худо. Что тебе в твоем богатстве, брат любезный? Богатый не по два раза в день обедает да сыт бывает; а бедному мосол – он и сыт, и весел! Две головни вместе всегда курятся, любезный брат, а одна гаснет; крепка артель атаманов – двое и в поле воюют, а один и дома горюет! Вон, видишь, и дедушка Мороз Снегович идет нас с тобою мирить; гляди, как посыпало!» – «Сыпь, батюшка, – сказал Оплетало, вставая и поглядывая в окно, – сыпь, отец родимый, у нас маслена на дворе, пора сани закладывать да салазки припасать! Русскому дорого яичко ко Христову дню! По рукам, так по рукам, брат Смекайло; кто старое помянет, того черт на расправу потянет! Доставай-ка свою суму, а эту, окаянную, закинь хоть туда, где черти в чушки играют; доставай, так мы перехватим с перепугу, да на мировую выпьем! Ну, а напугал было ты меня, брат Смекайло, что помутило на сердце и в голову одурело! Мировую, так мировую! И худой мир лучше доброй ссоры!»
Вот вам сказка хватская, наука братская, быль казацкая!»
– Гой есте, витязи могучие, богатыри иноплеменные, и книжного ума великого причаститься сподобившиеся, – начал таково слово царь Светозар, – распотешили вы меня под старость лет: вы сказали мне по сказочке, что одна лучше одной. Выпивайте вы, каждый, турий рог меду сладкого, турий рог в полтретья ведра; подходите к дочери моей Милонеге-Белоручке, по прозванию Васильковый Глазок, пусть сама решает царевна моя: кто ей мил и по душе пришелся, и чья сказка ей по нраву довелась? На кого укажет она – тот сыном будет старшим у меня, тот царь народу моему, суженый дочери, и заживо наперсник и наследник мой!
И царевна Милонега, поникнув долу васильковыми очами, сладким голосом молвила: «Тот, что шапку носит треухую на соболях, бурка на плечах словно лебяжий пух, и оружие на плечами возит долгомерное, и в налучие тугой лук, и в колчане калену стрелу, в правой руке, на темляке, копье мурзамецкое яркой свечой горит, что кольчуга по булату вызолочена, полоса в ножнах словно золото звенит, а в правой руке словно радуга горит, что сказки говорит не восточные и не западные, а свои, коренные, доморощенные – тот пусть будет господином моим! И сама вышью ему кафтан сухим, красным золотом по рыту бархату, и ходить за ним стану, как за батюшкою, и любить пуще брата милого, назову я его своим суженым – коли выйдет он с двумя соперники своими, за меня, за единоборство кровавое и, избив их, сам изыдет победителем!»
И возговорила труба ратная, подвели коней борзых, боевых, на свой лад у всякого разукрашенных. Три витязя наши в бой снаряжаются, в чистом поле съезжаются – в поле съезжаются, родом не считаются!
«Стягну ум крепостию своею, – рек один, – и изострю сердце мужеством, и весь исполнюся духа ратного!» Ударил копием– под одним супротивником конь окорачился, другой в седле подскочил в полдуба стоячего; а и Сема встает, пересемывает, а Спиря встает – поспиривает… победитель сымал с коней их чембуры шелковые, миловал ратников побежденных, – русский лежачего не бьет, – отпускал их души грешные на покаяние, вязал им руки белые, вешал их в торока седла кабардинского, подвозил их в тороках ко цареву шатру, он царю великому поклоняется, к стопам царевны кладет поборников своих, ее милости поклонников… А царевна Милонега-Белоручка, Васильковый Глазок, что очи сокольи, брови собольи, грудь лебедина, походка павлина, уста ярый маков цвет, – скоро встает с седалища аксамитного, по коврам ступает, по шелковым, сама подает ему руку белую. А суженый ее, а наш ясный сокол, ей челом да об ручку: «Ты постой, постой, царевна многославная, ты прямо не скачи, не бесчести ковры, ковры батюшкины: а и будет пора, кругом обойдешь! Ты послушай слова моего немудрого: когда я у сударыни у матушки соску сосал, тогда игрушка у меня была потешная, шелепуга подорожная, в ней 50 пудов свинцу налито чебурацкого; не боялся я ни живота, ни смерти, не верил я ни в сон, ни в чох, а верил в свой червляной вяз; – черпал я, на своем веку, шеломом воду из Дуная; слышал, как лисицы лаяли на червленые щиты; видел, как рыщут волками по полю, в себя студеную росу отряхая, ища себе чести, а князю славы – видел, как стелют не снопы, а головы, молотят цепами булатными, на току живот кладут, веют душу из тела – так тебе ли, красавице-девице, застращать меня похождениями ратными? Ой, девица, девица, что волос долог, да ум короток! Где это на белом свете слыхано, под красным солнышком видано, чтобы над суженым так потешаться, как ты надо мною потешаешься? Стало быть, голова моя у тебя залишняя! Не шей ты мне кафтана золотом по рыту бархату, не ходи за мною, как за батюшкой, не люби пуще брата милого, не зови своим суженым; вот тебе сорочина долгополая, вот и цареградский заезжий гость; оба связаны чембурами шелковыми, обоих казак в тороках важивал; – выбирай из них любого, не то за двоих выходи!» Сам он свистнул, на арчак вскочил, вынимал, как сказует Кирша Данилов, сказочник, вынимал из налучна тугой лук, клал стрелу каленую, вытягивал тугой лук за ухо – и завыли рога у туга лука, и спела тетивка да присвистнула – взывал да пошла калена стрела: угодила в сыр кряковистый дуб – как хлестнет булатна стрела по сыру дубу, изломала, искрошила его в черенья ножевые!
А наш молодец взвился да пошел, мелькнул в глазах, что стрела с тетивы, что тарпан мышастый по степям задонским, по ковылю сивому!































