Текст книги "Русские Сказки"
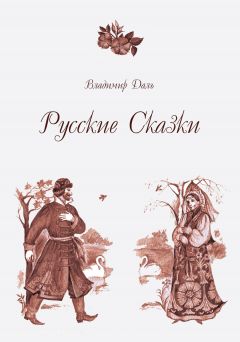
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
«Слезай с печи, Емеля, – стал уговаривать его новый посланец королевский. – Пойдем в город престольный!» – «А зачем? – спросил дурак. – Чего я там не видал?» – «Будешь большим барином, – отвечал посланец, – вельможей; разве ты не знаешь, что близ короля живут и родятся все только бары да вельможи?» – «Близко родятся, да далече умирают, – отвечал дурак. – Нет, мне и здесь хорошо! А когда королю твоему завидно, что я досыта доедаю, плотно досыпаю, так возьми – вот тебе охапка луку зеленого, да набери ему, пожалуй, толокна в шапку, да и ступай!» – «Поедем, Емеля, – просил посланец королевский, – тебе король сошьет красный кафтан, красную шапку и красные сапоги!» И невестки стали также просить его и уговаривать. – «Ну, когда так, так поедем, – отвечал Емеля. – Поезжай же ты у меня вперед, очищай дорогу а я тебя обгоню». – Посланец спросил невесток, не обманет ли его дурак? Но они ему отвечали: «Что Емеля однажды скажет, то по глупости своей и сделает непременно». Посланец сел и поехал; Емеля наелся толокна с луком да с квасом, выспался, а когда невестки его наконец разбудили, сказав ему, что уже пора ехать, тогда он, не слезая с печи, вымолвил: «По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, поезжай-ка ты, печь, во стольный град, да прямо к королю на двор!» – Изба затрещала, расступилась, печь заполненная поползла в город престольный по гладкой зимней дороге, что по маслу! Емеля обогнал дорогой посланца и поспел к королю на двор: еще труба экипажа его дымилась и сало во щах не остыло!

Король и все бояре придворные, стольники, чашники, окольничьи, воеводы, крайне чуду сему изумились: им не случалось еще видеть, чтобы кто разъезжал, лежа на печи! А дурак лежал, толокно хлебал, луком закусывал, с боку на бок повертывался, кряхтел, ни на кого не глядел!
Король подошел к нему и спросил: «Скажи-ка ты мне, если сам знаешь: кто ты таков и к кому ты приехал?»
– Я Емеля дурачок, ем с квасом чесночок, а приехал к тебе за красным кафтаном, красной шапкой и красными сапогами! Здравствуй, король! Для чего же ты меня призвал?
– А для чего ты дурак? – спросил король.
– Не скажешь никому, – отвечал Емеля, – так я тебе, пожалуй, открою душу свою, расскажу всю подноготную. Я было, признаться, родился у отца да у матери умницей, так меня бабка подменила – я подкидыш!
– «Зачем ты народ в городе передавил?» – спросил его король. – «Не я давил, сани давили. – отвечал дурак. – Да кто же виноват, когда они стоят, как лабазники на переторжке – рты разинув, глаза вылупив; их дело отступиться!.. Здравствуй, подсолнечник! – продолжал он, повертываясь на брюхо и кивнув по-приятельски головой на одного почетного кавалера. – «Разве ты знаешь его?» – спросил король. – «Как не знать, я всех их знаю! – отвечал дурак. – Это миряне, родом дворяне, на шее креста нет, а табакерка серебряная! Вот этот, что рожа седым мохом поросла, это парень добрый: он с нищего суму сымет, когда самому понадобится; последний кушак на глагол отдаст, а сам по миру пойдет! Они ребята дружные, да и не мудрено: клин плотнику товарищ – а рыбак рыбака далеко в плесе видит! А этот, что пригладился, припомадился, так что и кованая козявка на лбу не удержится, надакался да налакался до того, что оскомину набил, как ретивая кобыла сухим ячменем: это – наволока камчатая, да соломой набита! А ты – что чужому смеху смеешься? Найди свой, немогузнайка, да и смейся! Ты малый с ногтем, через волос поседел, а все прикидываешься олухом Царя небесного! Седина в бороду, а бес в ребро! Он воду мутит, да рыбу удит – будь плох, не подаст и Бог; ну да всего не переймешь, приятель, что по реке плывет; оставь поудить и деткам своим! А тот, что шапкой под мышкой мозоли натер, с виду прост, ходит за тобой, как за лисою хвост, а сам зверем в лес глядит, походя хвалится, что на зиму обул тепло и своих и чужих, – он, правда, построил на них варежки шерстяные, да дырья-то в них нитяные! Я бы его пожаловал за это из попов да в диаконы! Ну, да он, правда и чисто строчит, и концы хоронит; – у него рыбы нет, нет, а поглядишь – ушица есть!.. Что? Не любо! Поморщились все, словно голенища смазанные! – Да, поговорка моя не крупичатая: она ржаная, хлебная; ваше пузо от нее и пучит, дует! Она – быль, не быль, а у были гостила, да и к вам, на печи, в задаток погостить приехала! Она, по напушному обычаю, со мною побраталась и служит ныне у меня на печи зауряд-хозяйкой; а старуха помолоть – охулы на свою руку не положит; баба с печи летит, семьдесят семь дум думает!
В это время Емеля увидел стоящую в окне терема королевского прекрасную дочь короля, драгоценную Махлаиду, и подумал про себя вскользь: «Что, кабы, по щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, да влюбилась бы в меня прекрасная Махлаида?» – А потом, понукнув тем же заговором печь свою, отправился восвояси. Приехал – не здоровался, поехал – не простился! Изба родимая его расступилась, печь стала на свое место, и Емеля опять принялся за работу: спит – с него пар валит, бока греет да лук с толокном уписывает: только пищит да за ушами трещит!
Но у короля в золоченых теремах стало той порой нездорово. Драгоценная дочь его, Махлаида королевна, встосковалась по Емеле, что по суженом; возьми да подай, – хоть роди, да подай!.. Без ножа зарезал! Всплакнулся тогда отец, король, на Емелю дурака и велел позвать к себе того чиновника своего, который в первый раз безуспешно за Емелей ездил. «Ты в моем цветном кафтане ходить– ходишь, – сказал он ему, – хлеб-соль мою есть – ешь, а службы моей служить – не служишь; так, если не хочешь быть там, где и сам черт редьки не строгал, так поезжай да привези мне Емелю дурачка во дворец!»
Чиновник поехал, прибыл в ту слободу, где Емеля ему помелом усы нафабрил и пряжку почистил, высыпал старосте мешок пятаков и велел ему заготовить стол, звать Емелю к себе и напоить его пьяным до упаду, а потом укласть спать. Староста ослушаться чиновника того не посмел; по сказанному как по писанному сделал и исполнил все; а когда дурак уснул, то чиновник связал его по рукам и по ногам, уклал пьяного и сонного в сани свои и примчал во весь дух в престольный град и к королю во дворец. Король немедленно позвал к себе одного заморского немца, искусного на всякие нечистые изделия и чернокнижные ремесла и художества, и повелел ему учинить немедленно такую замысловатую хитрость, чтобы пустить под облака закупоренную и засмоленную бочку, в которой были засажены дочь королевская и дурачок Емеля; ибо король за горячую и неприличную любовь их изволил непомерно разгневаться. И немец тот, вынув из живой севрюги пузырь, вставил в него соломинку, раздул его в три копны сена, изладил и привязал к бочке той, в которой сидела дочь королевская с милым дружком своим, Емелею дурачком – и бочка снялась с места и пошла под облака. Словно стрела пернатая!
Махлаида королевна плакала горько и обнимала во тьме непроницаемой предмет жаркой страсти своей, а дурак наш спал, насилу выспался, и отвечал прекрасной Махлаиде королевне, которая заклинала и умоляла его всеми святыми высвободить себя и ее из неволи темной: «Мне и здесь тепло; не хуже печи, да только голова болит с похмелья!» Но Махлаида королевна начала, весьма жалобным напевом и слезами, изображать печальное положение свое и разжалобила чувствительного дурака до того, что он решился пособить горю ее, чтобы только избавиться от этих нежных и жалобных песен, что скорее, то лучше! Итак, он тихо промолвил: «По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, лети, бочка, за тридевять земель, в государство тридесятое, на остров пустынный, среди моря-окияна, и сядь там на лужок, как на кровлю снежок, – а вы, клёпки, раздайтесь, рассыптесь; а ты, край чужой, гостей новых принять и угостить изготовься, хлеб-соль к новоселью припасти позаботься!»
И бочка села на лука шелковые, во цветы лазоревые; клепки рассыпались, и чета наша разгульная вступила во страну привольную; мало того, что яств пресных и пряных, напитков сладких и рьяных в волю, но и чудес разных припасено и приспособлено ко всяким нуждам и потребностям; стоит, например, корова – золотые рога, на одном рогу баня, на другом котел – есть где помыться, попариться, на лбу, промеж рогами, выспаться! Но Махлаида королевна стала просить неотступно возлюбленного дурака своего, чтобы он постарался и потрудился отстроить ей жилище, подобное тем, каковыми пользуются люди в землях и странах наших; «ибо все эти чудеса хороши для праздника, – говорила она Емеле, – а в будни нам здесь от причуд и деваться некуда!» – «По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, станьте, палаты венецейские, беломраморные, зеркальные, золотые, хрустальные, среди острова нашего пустынного!» – И палаты со всеми причудами и барскими затеями явились и стали. Но Махлаида королевна, по той же пословице, – баба с печи летит, семьдесят семь дум думает, – начала теперь просить Емелю дурака, чтобы он потщился открыть сообщение с матерью-землей; ибо, как ни весело ей было жить с Емелею, но все она без людей скучала и не могла при том одолеть желания своего увидеться с дражайшим родителем своим и королем. Емеля дурак построил немедленно, по щучьему веленью, по своему прошенью, без чертежей на план, профиль и фасады, хрустальный мост на таковых же сводах, украсил каменьями самоцветными и перилами жемчужными и велел другой конец его прямо под парадное крыльцо короля, отца-родителя прекрасной и драгоценной Мах лайды; а сам хотел было с нею немедленно пуститься, по новому мосту своему, в путь-дорогу – как вдруг спохватился про себя, что все люди, как люди, а он один дурак, и что ему стыдно и совестно будет с королевской дочерью в люди показаться; а по завету покойного отца своего нельзя даже на ней и жениться, доколе не сделается умным; «а что уже теперь без свадьбы дело не обойдется, это – сказал Емеля про себя, – и я своим умом смекну, и кукса по пальцам перечтет! Итак, пожелаю я еще раз, напоследях, для себя ума палату, про свой обиход и про женину растрату, да и зарекусь, закаюсь, от щуки и от земского отчураюсь! По щучьему веленью, по моему прошенью, по земскому решенью, стань я умен, молодец как орел и удал как сокол!» И сделавшись немедленно умным и пригожим, раздумал идти к тестю своему, а послал почетных бояр, из числа дворни своей, пройти по новому мосту и звать короля со свитой своей и челядью к себе, на новооткрытый остров, в новоотстроенный дворец венецейский, на богатый пир. Король посланию сему из нового царства весьма удивился, а еще более когда узрел неслыханный и почти баснословный мост, стоящий радугой самоцветной, одной пятой на острове, среди моря-окияна, другой пятой на парадном крыльце замка его, – и отправился в назначенный час со свитой своей к явленному, великоименитому, великодаровитому царю-соседу своему на пир.
Министры и царедворцы короля нашего, видя такое необыкновенное великолепие, пышность и роскошное убранство, рассудили, что это должен быть непременно принц лападийский, поселившийся близ царства их, на острове Вечного Веселия, и потому подходили к нему с подобострастием и коленопреклонением.
После пышного обеда Емеля умница спросил наконец короля, не узнает ли его величество в нем старого знакомца? «Лицо приятельское, истинно-приятельское, – отвечал король, – а узнать не могу!» – «Я тот самый молодец, – сказал тогда Емеля умница, – который приезжал к вам в гости на печи».
Царедворцы при этом слове все до того изумились, что у них, у всех, лица вытянулись по шестую пуговицу.
«А вот это, – продолжал Емеля, – дочь ваша, прекрасная Махлаида, с которой я намерен прижить дочерей-белоручек и сыновей-богатырей; а потому и прошу покорнейше вашего королевского отеческого благословения; а как народу из царства вашего перешло, за вами вслед, по хрустальному мосту весьма довольно, да при том и время для нас дорого, то можем немедленно, избрав, благословлясь, посаженых, приступить честным пирком да и к свадебке; девишника же – прошу на этот раз не взыскать на нас, не прогневаться – у нас не будет; а я, как стал ныне разумом поумнее, умом посмышленее, накажу будущим дочерям своим, белоручкам, чтоб они потщились соблюсти построже все поверья и обычаи земли нашей и без девишника свадьбы не играли!
Король с радостью великой благословил молодых и хотел было уступить им королевство свое и утвердить их в княжении; но Емеля умница, сняв шапку и отвесив один поклон в пояс, другой в полпояса и, замахнувшись еще на третий таковой же, отвечал: «Я двадцатый год на свете бьюсь, перемаиваюсь, и сам с собою не справлюсь; а я один и, кажись, сам себе господин; так что ж я стану делать, если ты на меня душ, что волос на голове, навалишь? И за какую благодать стану я с ними возиться, как сытый пес с краюхой, чтобы мне здесь не было ни радости, ни отдышки, да еще посулили бы и там, на том свете, не найти ни дна, ни покрышки? Нет, ваше величество, отец и батюшка и родитель наш, вспоминайте-ка лучше сами вы, царствуючи и здравствуючи, о том, что было сказано вам мною, когда я был еще в дураках, о благолепных и достохвальных царедворцах ваших; приосаньтесь, приосмотритесь, а мне дозвольте в покое жить да поживать совокупно с дочерью вашею, прекрасною, драгоценною Махлаидою; мы чета разгульная, земля наша привольная; покуда живы, сколько земли той в горсть ни ухватим, столько, походя, ступней ни накроем, вся наша, благоприобретенная! А придет пора, что занадобится свой неизменный угол, так найдется и родовое; отмежуют поневоле; с брюхом, с ногами, и сам немец твой многоискусный никого на тот свет не подымет!
«А пирушку задам я всем подданным твоим такую, чтобы представить примерный приступ и сражение; чтобы из пирогов подовых, сдобных и слоеных были выстроены твердыни неприступные, обнесены раскатами из крутой каши масленой, опоясаны тремя рвами широкими: в первом мед, в другом пиво, в третьем вина фряжские; а когда народ твой пойдет на приступ, брать твердыни мои съестные, неприступные, то пусть запасается зубами бычачьими, неутомимыми, языком и губами хлебосольными, утробою бездонною; он повинен испить три потока широкие, пивом, медом и вином фряжским по самый край переполненные; поесть раскаты из крутой каши масленой; и доберется он тогда до пирогов сдобных, слоеных и подовых, до луку, толокна и до квасу! А когда все сие устроится и учредится, о том будет по всему царству твоему пущено от меня особенное повеление и объявление! В ожидании чего и пишем: «сей русской полной сказки конец!»
«Погоди, – закричал Емеля, – не пиши конец, без хвоста не родится и огурец. Ведь у меня никак братья были, двое! Да еще и родом умники оба; где же они? Позвать их сюда!»
– А братья твои, – отвечал посланец по учиненной справке, – разжились было с трехсот до три тысячи, да чужое добро впрок не пошло. Как только разжились, так и не стали ладить промеж собой и разделились. Один вскоре позамотался, а другой накопил денег кучу. Один стал пить с горя, другой с радости; разумеется, оба запоем. Первый, горемычный, преставился в одной рубашонке, в кабачишке под стойкой; другой, разгульный, Богу душу отдал в губернском городе, примером сказать, хоть бы в Ярославле, в знаменитой растирации Росславовой, когда воротился, о святках, в тонком синем кафтане, из-под качелей, отморозив себе ноги по колени и руки по самые локти!
«Ну, быть так, – сказал Емеля, – а кабы они волею Божиею да скончались на моих руках, так я бы покойникам отдал последнюю честь, похоронил бы их, умников, в красном кафтане, в красной шапке и в красных сапогах!»
Ну, вот теперь, стало быть, конец!

Сказка восьмая
О Иване Лапотнике

«Слава-те, Господи! вот и лык надрал!» – молвил Иван Лапотник, вошедши в избенку свою, которая стояла на краю села и сама, как облупленная липка, без двора, без плетня, без забора, да чуть ли и не без кровли. Иван Лапотник был убог и гол: бывал когда-то хлебец, да град побил, ранним снегом придавило, дождями поваляло – а там еще и мха напала; последнюю краюху сам съел, а семян на посев и не осталось ни зерна. Была таки когда-то и скотинка, да падеж повалял, волки порезали, калмыки украли да в сухомятку поели – а последнюю яловку приказчик, за подушное, со двора согнал. Приказчик этот говорил так: «Не подой козы, молока не даст; не выстриги овцы, она шерсти не даст, хоть и сама, лета красного дождавшись, станет походя ронять ее клочками, а уже на двор к тебе ее не принесет». И таки негде правды девать: над Иваном Лапотником сбылось то же: поколе было у него что, так бывало все только холится да почесывается; бывало, коли в ворота кто по вечеру стукнет, так, не слезая с печи, жену посылает: поди, отопри; а как только облупили его кругом, как липку, так пошел и он лупить, драть лыко да плести лапотки, и сделался человек-источник и художник на ремесло, которого прежде и в глаза не видал и в руках не держал. Бывало, двойные лапотки с под наряд цем сваляет, так что твои чеботы строченые! И перебивался наш Иван себе с ломтя на ломоть, и кормил и себя, и старуху свою.
«Слава-те, Господи, – молвил он, кинув бремя лык на пол, – вот и лык надрал! Старуха, да что же ты стоишь, словно в гости пришла, не поглядишь, не порадуешься? Говори: слава Богу, хозяин лык надрал!»
Хозяйка его была старуха богомольная, знала святцы не хуже дьячка иного и, при всей бедности своей, пасхи без кулича, а маслены без блинов не проводила: в среду средокрестной недели пекла из постного, сдобного теста кресты; а уже коли не было мучицы ни крупинки, так хаживала печь их к соседкам; тож и четвертковую соль не позабывала пережигать с квасной гущей; а кутью готовила не только в рождественский сочельник, но и в одну из великих суббот; а в память Феодора Тирона всегда варила колево, сиречь – кутью пшеничную. Она, старуха, на этот раз, когда старик пришел домой с лыками, готовила, разжившись с легкой руки, законные поминки сорока мученикам, которым празднуют, как известно, 9-го марта. Старуха катала сдобное тесто на конопляном масле, выгадывала да выкраивала из него 40 жаворонков и пестрила их ключом, наперстком, не то гребнем – уже не тем гребнем, что в бане космы расчесывают, а тем, что лен чешут. Ей было не до старика, старухе, а он тут привязался с лыками. «Отойди, старый, – молвила она, – надрал, так надрал; так садись, ступай, да плети лапти, да неси на базар, припасай копейку на Святую: надо сандалу купить, да шафрану, да инбирю».
Старик проворчал что-то про себя, а сам таки принялся за кочедык[7]7
Кочедык (также свайка) – плоское изогнутое шило для плетения лаптей.
[Закрыть]. Старуха все возилась с жаворонками: катала, месила, пестрила, сажала, наконец, вынула их – слава Богу! не подгорели жаворонки, дошли, доспели, зарумянились, и поглядеть, так лакомо, хоть за раз по мученикам поминки твори!
– Старик! А, старик! Что же ты, знай, сидишь да сопишь, лапти свои ковыряешь, а сюда не глянешь! Слава те, Господи, я с жаворонками-то управилась! Вишь, какие!
– Некогда, – отвечал старик, – а я тем часом лапоть сплел и подъем повершил, и концы схоронил; скажи-ка ты: слава те, Господи, лапоть поспел.
– Ну, поспел, так поспел, так берись за другой.
– Примусь я и за другой, – молвил старик, – да ты скажи сперва Господу Богу спасибо и за этот; скажи же по-моему: слава те, Господи, лапоть поспел!
Старуха заартачилась. «Плети, – говорит, – ты знай свое, а я свое». Старика взяла досада; и с чего старуха моя задурила? – «Аль ты от крестной силы отреклась, что не хочешь Бога помянуть за насущное пропитание наше? И пришел я давеча, так не хотела «слава Богу» вымолвить, и работу покончил, то же да то же! Старуха! Промолви: «слава Богу», коли не хочешь, чтоб я рассерчал на тебя!»
«Отвяжись от меня», – сказала старуха. – «Коли так, – молвил мужик, – вот тебе крест, – и образ еще сыму пожалуй, – не примусь я за работу, поколе не скажешь ты, чего хочу!» – И закинул лапоть под лавку, колодку под кутник, кочедык на полати.
И пошла война у старика со старухой: крик, шум, ссора, споры. «Берись, старый хрен, за работу!» – «Говори, старая карга: слава Богу, лапоть поспел!» – «Нет, не хочу; поспел, так поспел, так берись, знай, за другой; об одном лапте ходить не станешь». – «Ну, не скажешь: слава Богу, не берусь за работу, хоть и ты треснешь, и сам я издохну голодом. Скажешь, что ли?» – «Нет, не скажу». Старик, за-словом, протянул руку, поймал бабу свою за волосы – и на что, скажите, бабы эти платком, под повязкой, космы отращивают? – поймал старуху за косы: «У тебя, – говорит, – волос долог, да ум короток – говори: «слава Богу»!»
Старуха наша была и под старость таки голосистого десятка: а бывало, в молодые лета, как упрет руки в боки, глаза в потолоки – так хоть святых вон понеси; а грешникам живым так и вовсе житья нет: беги, очертя голову! Бывало, любое стадо гусей перекричит; из конца села в конец с кумой да со сватьей здоровается, да еще и не больно шибко кричит; а на этот раз, по первому земному поклону, который нехотя она положила, когда сожитель потянул ее и пригнул за косы, – взвизгнула и залилась соловьиными перекатами, так что все соседи, шабры, как говорят в понизовых землях наших, сбежались на шум и крик; тут пришел и приказчик; пришла, – неужели дело без нее обойдется, – пришла, прибежала и приказчица, бойкая бабенка, из дворовых девок, что выдана была барином за приказчика, и приданое тож, сказывают, пошло с нею от барина же. – Стариков розняли, допросили: и шум, и крик, и драка о том, что хозяйка не хочет поблагодарить Бога за то, что у мужа работа с рук идет! Принялись соседи соромить старуху – куда! И приступу нет: заговорит любого, забросает речами, чуть с ног не сшибет. И принялся усовещевать ее сам приказчик, великий и словоохотный краснобай, который был четверти на полторы повыше люду мирского, сиживал прежде с крючком за стойкою, ходил ныне в полутонком кафтане, подпоясывался сыромятным ремнем с пряжкою, на котором всегда висел огромный нутреной ключ от амбара. «Оба луки, оба туги, – сказал он избоченившись, – оба круты, оба глупы; оба упрямы; в руках не бывали! А ты не знаешь, Евстигнеевна, что ты раба его, ребро его, а он повелитель твой; понимаешь ли ты, что под венцом тебе отец говорил? Аль дурью голову позасорило да путное повытрясло из нее вовсе? Упрямая овца волку корысть; а тебя, Евстигнеевна, сатана на расправу потянет! Велико, вишь, дело, молвить: слава те, Господи, старик лапотки сплел! Аль и подлинно ты от креста святого отреклася?»
«Чего вам от меня, окаянные? – залилась Евстигнеевна, собирая волосы да повязывая платок свой. – Чего вам! Отвяжитесь, собаки, не скажу ничего; не скажу ему: слава Богу, скажу: черт унеси душу его!»
Так говорила старуха наша, и говорила еще хуже этого. Как тут быть? Приказчик, наслышавшись довольно от барина своего, что пример самый благой самоучитель – а барин, никак, помнил наставление это еще с тех пор, как писал его в школе по прописи, при чем его и палями кормили, и на песок ставили, – верный приказчик, слышав от барина каждый день, что пример соблазняет, пример наставляет, обратился, нимало не медля, к дражайшей половине своей, к ребру своему, и молвил: «Вот, Евстигнеевна, и Бога гневишь, и против мужа грешишь, и людям досаждаешь, а все из-за пустяков таких, что слушается, да не верится! Погоди, не шуми, не метайся, слушай, что я говорю: вот тебе хозяйка моя, для ради примера и доброго приклада, скажет наперед, а ты скажи за нею следом: слава Богу, мужик лапотки покончил, – да и Бог с вами, и грядите с миром. Скажи же, Аннушка, для ради доброго примера, скажи: слава те, Господи, мужик лапотки сплел!»

«Это в какую стать? – спросила Аннушка сожителя своего. – А я ей что за батрачка? Да по мне, пусть бы они себе очи повыдирали; хоть бы век ее, старую ведьму, черт за космы таскал, так я и слова не вымолвлю. Что она мне, своя что ли? Да черт их возьми, прости Господи!»
Приказчик ну Аннушку свою уговаривать, упрашивать, приказывать, а та и пуще на дыбы; дошло и тут также до ссоры, до брани, до слез и чуть ли и не до рукотворного увещания.
Тем часом старуха Евстигнеевна и сама уперлась на своем: хоть ты ей зубы дергай! Да еще к тому наговорила тебе всякой всячины с три короба и кучу негодных речей; напустилась уже не то что на старика, а на всех. Взяли ее миряне, да обще со стариком, с Иваном Лапотником, повели к сельскому батюшке. «Пусть, – говорят, – отец Панкратий рассудит и разберет вас и промеж собой и с Богом, пусть усовестит и епитимью наложит на старуху, как сам знает: уж теперь не наше дело, не мирское…»
Отец Панкратий стал увещевать старуху нашу, стал толковать ей, что она повинна мужа слушаться, стал говорить ей о муках кромешных и о наказании Божеском. «Ежели, – говорил он, – детище твое на тя руку свою подымет, то нечестивая рука эта костлявыми перстами вырастет из могилы его; а буде жена восстанет на мужа, хотя словом единым, язык закоснеет у нее, либо сухота нападет; а на том свете еще предстоят муки неисчислимые, неописанные! Что приказчикова Аннушка не захотела тебе, Евстигнеевна-свет, примера показать, а последовала твоему, так и это равно не годится, и грех ей не менее твоего. Строптивого Бог карает. Пойдем к матушке, – а где матушка, дети? – Пойдем к ней, она покажет вам пример. И что стоит вымолвить: слава Тебе, Господи! славою возносить, славословить Господа подобает во всякое время, во всякий час и всяким помышлением своим. Слава не нужна Господу, нам нужна слава Господня! – А где матушка, дети?»
«Матушка взяла вашу шляпу, батюшка, вашу новую пуховую шляпу, – отвечали дети, – да пошла с нею в сарай, не то на сенник».
«Что такое это? – проворчал батюшка. – Уж зачем матушка опять носится со шляпою моею? Этого-то я не люблю; коли овес мерить либо пересыпать, так можно бы, кажись, коли нет гарнца, взять по крайности старую поярковую шляпу – а это что опять такое?..» – И пошел, со всем причтом, искать по двору, за сараями, матушки; и старик за ним, и старуха за ним, и мирской народ, что привел дурней старых, все-все за ним.
А матушка в это время делала вот что: она подсыпала из новой хозяйской, батюшкиной шляпы кур своих; отсчитывала нечет яиц, клала их бережненько в шляпу и высыпала, не трогая руками, на гнездо, и сажала курицу. Дело это делается втихомолку: оно глазу боится; и когда добрая хозяйка подсыпает да сажает кур своих, так этого никому в доме и ведать не для чего, и знать не надо. А тут пришел батюшка, да еще и старуха, да и старик с карими, темными, цыганскими очами… Матушка-попадья выскочила с сердцем из сарайчика, рассыпала и побила яйца в батюшкиной пуховой шляпе, всполошила курицу, которая было уже и уселась, а теперь подняла крик, закудахтала на все село, – и матушка встретила батюшку вопросом: «А вам чего тут надобно, вы чего здесь не видали?» Батюшка, смекнув теперь делом и разгадав загадку, не стал уже допытываться и доискиваться шляпы своей и обещался сей же час уйти и не мешать матушке, коли она только скажет им скорешенько, не переводя духу: слава Богу, у мужика лапотки поспели.
Как приняла предложение это матушка-попадья, этого, чай, не нужно и сказывать: она думала, что батюшка начисто рехнулся, так плохо улучил, приноровил он время, так невпопад заставил матушку сказать: «слава Богу, лапоть поспел!» Матушке-попадье точно было не того: и бедный отец Панкратий, сколько ни толковал, сколько ни уговаривал, ни просил, не только что сам не добился никакого толку, но едва только без греха отошел от матушки, которая давно уже не гневалась на батюшку так, как сегодня. Да и было за что, нечего сказать: рехнулся старик – привязался, ни дай ни возьми, а вынь да положь, скажи да скажи: «слава Богу, лапоть поспел».
Да и что же мне водить снисходительного читателя моего, как старца-слепца, с камешка на камень, как красную девицу – с кладки на кладку, чтоб ей в грязи подолу не подмочить; скажу да и отрежу – уж один конец присказке моей: и старик со старухой, и Аннушка с приказчиком, и батюшка с матушкой – все перессорились за то же словечко, все пришли под вечер во двор к барину, который вышел мирить их и подать благое наставление. Тут и мирской народ столкнулся, и бабы сбились в кучу, и дворня в пестрядевых юбчонках да в серых суконных куртках, все пришли почесать да позубоскалить. Где ссора, где суд, где драка, где покойник, где свадьба, где расправа, – туда народ валом валит, через тын лезет, заборы разбирает, кровли ломает, как будто, прости, Господи, тут на показ для них штуки выкидывают; идите в балаган к скоморохам, коли есть три пятака в кармане, а коли нет, так поглядите-ка сами на себя!
Итак, пришли все они к барину на двор, и барин их судил, рядил, разнимал. – «Для чего не сказать: слава Богу, у мужика лапоть поспел? Что за великое дело и что за шум люди подняли! Да жена моя, барыня ваша, скажет вам, не запнувшись, не заикнувшись, двадцать пять раз сряду в один дух: «слава Богу! у мужика лапоть поспел!» Ну, скажи же ты, душенька, – обратился он к плотной супруге своей, которая только что вышла на крыльцо, под навес послушать, о чем идет толк и бестолочь, – скажи им: «слава Богу, лапоть поспел», да и наплюй им, дуракам, всем в глаза!..» А душенька на это ему: «Вот дуру нашел», – и сама, – плюнуть плюнула, а сказать не сказала ничего, поворотилась да и ушла в свои покои…
Я сказал уже, что полмира собралось на дворе господском слушать суд и ряд по уголовному делу, где баба не хотела сказать спасибо за то, что у мужика работа с рук идет, перессорилась сама с мужем и перессорила вот уже третью чету – приказчика с Аннушкой, батюшку с попадьей да барина с барыней. На отказ этой сказать: «слава Богу», толпа глумно осклабила уста свои, и барину стало досадно, ущемило его за живое; покинул он суд и ряд, пошел следом за барыней, стал упрашивать ее: скажи да скажи, пожалуйста, скажи; сделай милость, скажи; хоть мне одному да скажи; стал гневаться и попрекать со дня на день и перебраниваться и побранился с нею совсем, а она, как уперлась себе: не скажу, отвяжись, – так и умерла через год со днем, Богу душу отдала и не потешила мужа, не молвила даже и на смертном одре своем, о чем супруг ее всеми неправдами домогался, не сказала: «слава Богу, лапоть поспел», – и на этом дело кончилось.
В самом деле, на этом бы дело и кончилось; барыню схоронили, барин потужил – и забыл; поспорить и побраниться, не то кланяться да упрашивать: «скажи: слава Богу, у мужика лапоть поспел» – не с кем и некого; так бы дело и засохло и пропало и до нас не дошло; да на беду у барина с покойной барыней была и барышня, и – горькая чаша не миновала ее!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































