Читать книгу "Русские Сказки"
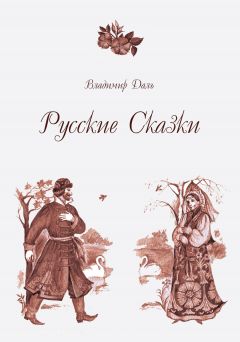
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вот нам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка; кто охоч, да не горазд, тот поди, я с ним, глаз на глаз, еще потолкую; – а кто горазд, да не охоч, тот прикуси язык, да отойди прочь!

Сказка шестая
Про жида вороватого, про цыгана бородатого

Детки, детки, покиньте игрушки, да идите ко мне на ватрушки; а ватрушка моя не жареная, не печеная, мучицей не подсыпана, маслицем не подправлена; сыру в ней нет, и теста не бывало – ватрушка моя, сказочка-скороспелочка, писана, переписана, да и мастером печатным на бумагу тиснута; сват Демьян ее сказывал, кума Соломонида слушала, да придакивала; а я, благословясь, уснул, да и проспал, во сне видел жида вороватого, цыгана бородатого; люди добрые писали, печатали, да лист к листу подбирали, один под один подшивали – скажите же мне спасибо, детки, что я тихо и смирно спал, сказочника Демьяна не перебивал, а то бы вам не было и сказки: он сердит; кто раз его перебьет, тому во веки веков, не то сказки, и присказки не согнет! Слушайте ж вы, не то спите смирно, спокойно; сказки нашей не перебивайте, мне со сватом не докучайте.
Похождение первое
Ехал жид вороватый из города Шклова в город Бердичев. Хотелось ему там, на ярмарке, уторговать рублей на сотню; а сказал бы он спасибо и за десяток, не прогневался бы и тысяче. Наш жид вороватый норовом таков: лапу протягивает за карбованцем, за целковым, не оступится от червонца, не побрезгует и гудзиком, т. е. оловянной пуговкой. Ехал он в Бердичев и спрашивает дорогой батрака своего – а у него батрак был мужичок, хохол: «А что, Иван, нет ли тут по пути гайдамаков, по нашему разбойников?» – «Как не быть, есть, – отвечает ему батрак Иван, – и злые; богатых жидков режут, да прикалывают, а нашего брата по головке гладят за то, что жидков подвозим». – «Как же быть, – спросил опять жид вороватый, Ицька Гобель, – как же быть нам, сердечный дружище Иван?» – «А как быть? – отвечал Иван, помахивая кнутиком своим. – Ты сам же сказывал, что у тебя нет ни гроша с собой, что в мошне звенят одни черепки да битые стекла; а у меня и подавно, опричь порожнего гаманца да голой кошули, не найдешь ничего; так нам с тобою и бояться нечего». – «Оно бы и так, – сказал жид вороватый, – и истинно так, потому что у меня, кроме битых стекол да муравленых черепков, деткам на игрушки, которыми я намедни брякнул невзначай, нет ни шелега ни дома, ни при себе, ни за собой, ни за женой; да только, сердце мое милое, Иван, Яне ты мой, у меня семья большая, дети, жена мать и теща, и свекровь и золовка, и бабка и внучата; если я пропаду, сгинет со мною сто душ; подумай об этом, Иван, мое золото ненаглядное. Я тебя велю накормить локшанами, наготовит хозяйка моя тебе юшки, куглей, манов и лапшердаков, поднесу я тебе в первой корчме горелки, и вишневки, и терновки, и смородиновки, только заступись ты за меня, не давай меня в обиду гайдамакам!» – «Хорошо, – отвечал Иван, – полезай же ты в мешок; я тебя завяжу, а ты лежи смирно; если гайдамаки придут, так я скажу им, что везу битое стекло на ярмарок, и они оступятся без греха; на кой прах им твои черепки?» – «Умная голова! – приговаривал Ицька Гобель и полез на корачках в мешок. – Умная голова!» А Иван завязал его, уклал в бричку, сел и погнал тройку в шлейках. Недалеко он проехал, как вздумал над жидком вороватым погулять; закричал не своим голосом: «Стой! Куда идешь?» – а потом сам отвечал: «Еду я в Бердичев на ярморок; а вам, честным бурлакам, от меня поживы не будет, нет со мною добра никакого». – «А что у тебя в мешке?» – спросил он опять сам себя чужим, сиповатым, грозным голосом, и отвечал, не запинаясь: «Жидовское стекло; одни черепки да битые бутылки; везу, не купит ли кто, в Бердичев, на стеклянные заводы, на переплавку». – «Коли так, побьем, с горя, жидовское стекло», – сказал он опять тем же притворным голосом, ухватил кнутовище и давай лупить бедного жида в мешке на все четыре корки. А жид лежит, не шелохнется, будто у него спина да бока и бебехи на прокат взяты, и только приговаривает за каждым разом, что Иван его кнутовищем погладит: «Дзынь», – Иван его ударит, а он: «Дзынь», – Иван еще раз, а он: «Дзынь», и в третий, и в пятый, и в десятый, Ицька «Дзынь», да и только! Наконец, когда Иван наш натешился – айв нем сердце не поливанный кувшин, ему хозяина своего жаль стало, тогда он сказал голосом гайдамаков: «Полно, кинем жидовское стекло в ров, да и в воду, чтоб его и духу не было!» Сам взял бедного Ицьку, спихнул его с брички в лужу и, переваливая мешок с боку на бок, приговаривал: «Эх, мелка канава, воды мало; ну, хоть утопить мы стекла жидовские не утопим, да пусть же по крайности оно воды наберется, да и так, чтобы и на огне не расплавилось». – Долго же мне кататься по луже, – подумал жидок вороватый.
Погулявши вдоволь над бедным жидком, отошел Иван, громко притоптывая ногами, в сторону, в лес, тихонько воротился, перемолчал немного и стал прислушиваться, что жид в мешке делает? Этот, слыша, что все затихло и гайдамаки убрались, стал шепотом звать Ивана. «Жив ли ты, Ицька?» – спросил Иван, развязывая мешок. – «Жив, жив, – отвечал тот, доставая башмаки и ермолку из грязного мешка, – а зачем же ты меня дал в обиду, Иван, ты бы заступился; меня избили, как ледащую кобыленку на пристяжи!» – «Хвались, – отвечал Иван, – мне хуже твоего досталось, да я молчу; ведь я же тебя собой заслонил, боков своих не жалея: кнутовище ореховое по мне самой середкой ходило, а тебя оно только концом прихватывало!» – «Ну, – сказал Ицька, жид вороватый, потрепав Ивана братски по плечу, – ну, сердце мое, садись да поедем: слава нам с тобой, что ладно гайдамаков-злодеев обманули!» – «Как нам с тобой? – закричал Иван. – Ты лежал, как зарезанный баран, да отмалчивался, я тебя схоронил, я и выпустил, я гайдамаков обманул; что бы ты, байковый житель, сделал без меня?» – «Нет, Иван, – промолвил жид вороватый, став одной ногой на приступок брички и погрозив Ивану пальцем. – Нет, Иван, не греши; был ты хитер, когда вздумал сказать, что в мешке жидовское стекло; а кто бы тебе поверил, если бы я не стал приговаривать за каждым ударом: «Дзынь!» Гайдамакам показалось, что звенит битое стекло, и они отступились!»
Похождение второе
На бердичевскую ярмарку съезжаются жиды и поляки, цыгане и москали, татары и калмыки; съезжаются с Подолу и с Украйны, с Крыму и с Черноморья, с Волги и с Днепра, с Доны и с Подмосковья, из Бессарабии и с Литвы, из пограничной неметчины, из Галиции, из города Львова, что по ихнему Лемберг. А продают там всякую всячину, как говорят: и ветчину, и ржавчину; и покупают тоже, и воруют тоже всякую всячину, а именно: что попадется. Приехал туда верхом на краденой кобыленке цыган бородатый. Он родясь на своих лошадях не езжал для того, что у него своих не бывало. «Мне, – говаривал он, – не из чего обзаводиться своими лошадьми, да и хлопот с ними много; а ворованную не так жаль, хоть и без корму день-другой простоит, да и продать-то ее можно посходнее; за купленною надобно ходить, надо ее беречь, и холить, и кормить, да и деньги выручить – она не в пример дороже краденой обойдется!» Итак, он приехал на ярмарку на краденой кобыле верхом, с сыном вдвоем, продал ее и поглядывал: не будет ли еще где поживы? Жид вороватый, оставив рано утром батрака Ивана стеречь брыку свою, надел праздничный черный халат, который прозывался: латка на латке, латкой погоняет; надел черные короткие лосиные панталоны, которые единоверец его, скорняк Берка, выделал ему целиком из телячьей шкуры; натянул нитяные чулки, стоптанные башмаки, ермолку, из которой добывал на выварке, по два раза в год, фунтов по пяти сала, нахлобучил мохнатую шапку, плисовый верх которой давным-давно моль съела и крысы на гнезда растаскали; вырубил фейру, закурил краковскую деревянную трубку, взвалился на куцую клячу и повел пару, рыжую да чалую, в поводах, на водопой. А цыган бородатый за ним, за ним, давай ухаживать и вглядываться в кляч жидовских, будто которая из них ему по масти, не то по статьям приглянулась. «Что ты на чужое добро заришься, – спросил жид, – завидно что ли тебе?» – «Продай!» – сказал цыган. – «Купи, – отвечал жид, – у меня, для доброго парня, каков ты, заветного нет, продам, пожалуй, и раввина!» Другой жид, подслушав со стороны последние слова Ицьки, стал его за это бранить. «По крайней мере, – говорил он, – не вслух такие речи говори; если отец Авраам услышит это, так он под землею перевернется!» – «Ниц не шкодзи, – отвечал Ицька, – пусть его; завтра ты продашь и меня самого, и раввина, и себя, если кто тебе посулит за нас всех, гуртом, три копы, враздроб по полтине, и тогда отец Авраам снова перевернется, а стало быть опять ляжет себе по-прежнему на спину!» Между тем цыган бородатый подошел к Ицьке, жиду вороватому, стал смотреть в зубы клячам его; божился, что одна сапатая и с мокрецом, другая запалена и разбита на передние ноги, третья на задние, а сам той порой положил куцей клячонке, на которой жид вороватый сидел, чесноку в уши; от этого кляча начала жида бить, замотала головой, начала лягаться задом и передом и понесла. Жид вороватый скорчился, как заяц в логовище, прижался к кляче, словно прирос, оплелся ногами и руками, глаза зажмурил и скоро по чистому полю и с клячею своей из виду ушел. Тогда цыган бородатый поймал одну из кляч жидовских, которых жид вел в поводу и со страху упустил из рук, сел на нее, гнал, сломя голову, по всем улицам Бердичева, вплоть до табора своего цыганского, и здесь принялся переделывать жидовскую клячу по-своему, чтобы ее никто не мог признать. Он подковы содрал и схоронил в мешок свой, на старое железо, на лом; хвост обрубил вплоть по самую репицу и продал жидам на гренадерские султаны; щетки и уши остриг, копыта подчистил, смочил правый окорок водой, взъерошил шерсть и поставил теплым железом фальшивое тавро, на подобие того, как наши барышни, бывало, кудри завивали, – а потом свалил ее, счистил терпугом зубы, на которых черные чашечки означали побольше двенадцати годов, и поставил жегалом, раскаленным железом, новые, которые показывали шесть. Потом надел он на клячу новую сыромятную обротку или недоуздок, посадил на нее сына и повел на ярмарку продавать. Здесь бедный жид вороватый уже похаживал, затылок почесывал и торговал лошадей; ему надо было ехать домой и прикупить третью клячу, вместо той, которую цыган у него увел. А цыган бородатый, выхваливая товар свой, щелкал бичом по ногам, так что тот ревел, что коза на привязи, а сам цыган приговаривал: «Вот добро золотое, вот добро! Мой конь и в воду, и в огонь; видите, люди добрые, мальчик плачет, слезами заливается, с конем своим дорогим прощается! Эх, жаль батьки, да везти на погост; жаль коня, да копейка нужна!» А жид вороватый уши развесил и бороду распустил; думает: «Вот чалая клячонка, на мою похожа, пара моей рыженькой, хоть и не под масть; дай, куплю»; переглядел ее, перещупал кругом, нашел по зубам шести годов и заплатил цыгану бородатому за нее 50 злотых, по нашему 30 рублей чистыми денежками. Цыган положил денежки в гаманец, побожился, что дешево продал, подал жиду из полы в полу сыромятный повод, заставил сына еще поплакать по кляче, да и был таков. А жид приехал к брыке своей и приказал батраку Ивану закладывать лошадей.
Похождение третье
Иван заложил тройку свою, жид вороватый посадил в брыку два-сорока жидов, жидовок, жиденков, завалил их перинами, подушками, мешками и сундуками и отправился обратно в Шклов. Дорогой батрак Иван сказал хозяину своему, жиду вороватому: «Ну, счастлив твой Бог, Ицька, что ты клячу свою нашел; я так уж думал, что пропала!» – «Нашел? Нашел? Кто ее нашел, Иван? Я сам чуть жив остался, насилу справился с кобылкою, на которой сам сидел, а чалая моя пропала; я, видишь, подобрал ей под масть, прикупил опять чалую же». Тогда Ванюха ему сказал: «Дурень ты, дурень, Ицька: молодец ты с воз, а ума в тебе и с накопыльник нету; это твоя кляча и есть; видишь, хромает она на правую заднюю, да на левую переднюю, и крива на левый глаз, да только у нее хвост обрублен, да зубы подделаны, так что она ни клока сена, ни зерна овса не угрызет!» – «Чтоб ему моими деньгами подавиться, чтоб ему век дырявый гаман носить! – сказал тогда жидок вороватый. – Чтоб на него нашел черный день, чтобы крыльцо его бурьяном поросло, и никто по нем тропы не торил, пути не прокладывал!» – «У него и хаты не бывало, не то, что крыльца, – сказал, рассмеявшись, Иван, – он проживает там, куда легкая нога его занесет; полдничает, где с легкой руки лакомый кусок стянет; ночует под тем тыном, где ночь настигнет, да сон одолеет; а тропу сам во все четыре стороны прокладывает!»
– Фур, фур, – сказал жид вороватый батраку Ивану, – пошел, пошел: нам надобно поспеть до заката солнца в корчму приятеля моего, Израиля, чтобы не зашабашевать в дороге.
А вы знаете, что жиды празднуют не воскресенье, а субботу, что это называется у них справлять шабаш, шабашевать, и что они тогда ничего в руки не берут, ни к какому делу не приступаются и дорогой ехать не могут; а начинается шабаш в пятницу, с вечера, лишь только солнышко закатится, а оканчивается с закатом же солнца в субботу.
Иван погнал кляч своих и съехался вдруг с другою жидовской брыкой, которая была битком набита кладью и жидами всякого калибра, от мала до велика, и ехала встречу первой, из Шклова в Бердичев. На козлах также сидел батрак-хохол и кричал нашему Ивану: «Сторонись!» Иван ему отвечал: «Сторонись», – а сам не сворачивал. Съехавшись вплотную, стали оба кучера друг друга бранить и кричать: «Сворачивай!» – а сами не трогались с места. Жиды, всего-навсего счетом в двух брыках 49 % человек, высунули головы в мохнатых шапках во все стороны и кричали все в один голос. Это кучерам их надоело и наскучило; тот, который ехал встречу, соскочил с козел, подошел к брыке Ицьки Гобеля и начал длинным бичом стегать зря по жидам. Иван наш глядел, глядел и, вознегодовав наконец на такое беззаконие, сказал: «А за что ты мох жидов бьешь? Пойду же и я твоих бить!» И сам слез с козел, подошел к другой брыке и начал тоже, не щадя конского волоса, которым недавно навил плеть свою, стегать в крест и в переплет жидов своего противника.
«Спасибо тебе, Иван, мое сердце, – сказал жид вороватый, когда наконец после этой перепалки брыки разъехались, – спасибо, что за нас постоял; я за это дам тебе стакан наливки и кусок сала». А Иван поклонился да сказал спасибо; он, как хохол, был большой охотник до сала и до водки.
Похождение четвертое
Иван доставил брыку свою к Израилевой корчме засветло, и какой-то проезжий весельчак подошел и начал считать жидов в брыке, указывая на них пальцем: «Один, два, три, четыре» и проч, этого жиды страх не любят; они все как шмели зашумели и начали вылезать и валиться с брыки во все стороны, через край и через верх.
«Израиль, – сказал Ицька, жид вороватый, корчмарю и положил кусок мяса, который привез с собой, на лавку, – говори мне скорей, как ты готовишь битки, которые я у тебя намедни ел? Говори скорей, а я буду записывать, чтобы успеть изготовить их до шабаша: сказывай!»
Израиль позвал жену свою Рахиль, дочь Сузьку и тещу Эстер, и стали они все в голос говорить Ицьке: сколько надобно положить перцу, сколько соли, сколько цибули (луку), сколько оцту, т. е. уксусу, а Ицька записывал мелом на лосиных панталонах своих, которые были сделаны из телячьей шкуры. Но вдруг, отколь ни взялась, собака ухватил Ицькино мясо, выскочила в окно и побежала.
Ицька закричал: «Вай мир, гвалт!» – кинулся за нею, вытряхнул из бокового кармана все крохи и начал ими манить к себе собаку. Но когда она, не слушая его, продолжала есть мясо, и он, за нею до поту лица угонявшись, не мог его отнять, тогда он сказал:» Чтобы тебе этим куском подаваться, чтоб тебе век свой есть – не наесться, пить – не напиться, чтобы тебе цыгану бородатому в руки попасться!» А сам, поставив ногу на колесо брыки своей, стер рукавом все, что мелом записал, примолвив: «Пусть же будет ни тебе, ни мне; не будешь и ты знать, как из этого мяса битки готовить!» Я упомянул, что Ицька закричал: «Вай мир, гвалт!» – это немецкое: weh mir, Gewalt! Польские, прусские и австрийские жиды говорят искаженным немецким языком, в который вмешивают и вставляют множество еврейских и областных польских, русских и малороссийских слов; пишут они еврейскими буквами, а еврейский язык известен только раввинам и ученым. Жиды западной Европы, наводнившие даже Турцию, говорят искаженным испанским языком. Довольно странно, что, служа примером упорного постоянства во всем родном и народном, евреи утратили общий язык свой.
«Що ты робишь? Что ты это делаешь?» – спросил жид вороватый какого-то бурлака-побродягу, сидевшего на берегу реки и глядевшего пристально на другой берег. – «А я вот ту уху хлебаю, что рыбаки на том берегу варить собираются!» – отвечал этот; и Ицька закричал во все жидовское горло: «Гвалт!» – ибо узнал в бурлаке цыгана бородатого; «Гвалт, караул! – кричал Ицька и приноравливался схватить с цыгана шапку. – Караул! Ты мою лошадь украл!» – «Дурак ты круглый, – отвечал ему цыган бородатый, – и шальной жид; не твоей дряни чета аргамаки через мои руки проходили, да этого шуму не бывало; клячонки твоей я не крал, а выменял ее у барышника, татарина, на три курдюка бараньих да на плеть; да и одной плети моей кляча твоя не стоила! А как только дознался я, что это кляча твоя, так я и сам за тобою в погоню пошел; мне твоего добра не нужно, хоть себе им челны конопать, хоть мосты мости! Вот тебе деньги твои назад: мелких нет, а с 50-ти рублей две красненьких подай сюда сдачи, да и квиты!»
Жид вороватый свету не взвидел, когда беленькая мелькнула у него в глазах. Он вынул поскорей из мошонки, где, по словам его, одни муравленые черепки побрякивали, пять карбованцев, т. е. пять целковых, и долго торговался, покуда решился, как следовало по курсу, добавить четвертачок. Солнце закатилось, и он поспешил в корчму на шабаш. Цыган пошел потолковать с батраком Иваном.
Похождение пятое
Рано утром жид вороватый вдруг кинулся из корчмы на двор, и все жиды, жидовки и жиденята за ним. «Что за шум, а драки нет? – спросил Иван. – Дурману вы, что ли, объелись, чего вы кидаетесь, словно угорелые кошки?» – «Где цыган? – кричал Ицька, жид вороватый. – Где цыган?» – «На что тебе цыгана?» – спросил батрак Иван. – «Он оплел меня, погубил мою голову, и со мною пропадет сто голов: и дети и внучата мои, и бабка и теща, и жена и свекровь, и золовка и невестка. Он дал мне ассигнацию подделанную, по-русски фальшивую, и взял с меня сдачи пять целковиков оловянных и четвертачок настоящий, государственный, серебряный! Сердце мое, Иван, где цыган? Ведь он был здесь!» – «Когда брали Анап, – отвечал Иван, – тогда стоял под стенами корабль; а когда взяли, так увели. Цыгана нет давно; он ушел, и след простыл». – «Вай, вай мир! О горе мне!» – кричал жид вороватый и бил себя кулаками в грудь, и все жиды и жидовки кричали в голос: «Ой вай мир», – и рвали на себе волосы. Так они проревели и проплакали целый день, до заката солнечного, когда шабаш кончился, а потом приезжие стали снаряжаться в путь. Иван смазал и заложил брыку; жиды, перины, подушки, жидовки, сундуки, мешки и жиденки полезли на свои места, а Иван ударил по клячам, тряхнул вожжами, и тройка наша поплелась рысцою в путь.

«Посмотрите, господа попутчики, посмотрите, – начал один жидок, перевалившись боком через грядку, – как высоко летит стадо дикий гусей; да и не то диво еще, что высоко летят, а то, что у них всегда есть вожак; всегда один гусь напереди летит!» – «А сколько их всех?» – спросил лукавый Ицька, жид вороватый.
Тот начал считать и насчитал 27.– «Так разве им можно, – спросил опять Ицька, – всем двадцати семи гусям напереди лететь?» – Жиды засмеялись и за это-то красивое словцо прозвали нашего Ицьку вороватым. Ицька прозвищем этим обязан собственно своей бойкости. – «А шкода», – сказал тот же жиденок, то есть по нашему: «Жаль, что у нас нету ружья, а то бы настреляли дорогой дичины!» – «Небось, ты храбрый? – спросил Ицька вороватый. – Ты бы сейчас за ружье, на руку к щеке, да и бац?» – «Нет, – отвечал жиденок, – я этого не говорю; у нас как-то стояли драгуны на постое, так и то, бывало, мать строго наказывала нам, малым ребятишкам, не подходить в угол, к саблям драгунским: неравно, говорила, которая из них набита, то есть заряжена, так чтобы не выстрелила; с тех пор я не люблю огнестрельного оружия и, нечего хвалиться, стрелять сам не стану. Но у меня был в Хороле двоюродный брат, который мне приходился сродни, потому что когда на его бабушке сарафан горел, так мой дедушка пришел, да руки погрел; этот двоюродный брат мой бывало стреливал из ружья и из пистоля». – «И пулю клал?» – спросили все жиды в один голос, удивляясь такой неимоверной отваге единоверца своего. – «Нет, – отвечал жиденок, – нет, он так, песком заряжает, потом вскинет к щеке, да и закричал во всю глотку: паф!» – «Ай да двоюродный брат твой, – сказали все жиды в один голос, – вот этакого человека надобно бы нам возить с собой, не для того, чтобы дичину стрелять, а для того, чтобы от гайдамаков обороняться. Битая из ружья дичина не кошерная, и есть ее не годится». – Жиды едят только скотину и живность, которую резал их, жидовский резник, а прочее мясо и дичину называют трефным или не кошерным и не едят его. Также называют они трефной, по примеру наших раскольников, ту посуду, из которой поят и кормят собак своих и иноверцев. Батрачка или работница, христианка, которых, несмотря на строгое запрещение указом, у жидов множество, работницы эти едят из одной чашки с коровой, которую и кормить, и доить обязаны.
Жидки наши пустились в путь от корчмаря Израиля вечером, по закате солнца, и теперь ехали лунной ночью. Вдруг гайдамак, с дрючком преогромным на плечах, ухватил коней под уздцы и кричал: «Стой!» Это был цыган бородатый, который, узнав от Ивана батрака, что жидки едут в Шклов, вышел вперед и выждал их в привольном месте, чтобы променять у Ицьки вороватого оловянные рубли на серебряные. Иван остановился. Цыган подошел к брыке и приказывал, буйным голосом своим, жидкам вылезать вон. Но жидки все поприжались в кучу, в самый зад длинной брыки, и Ицька тихо про себя нашептывал: «Дзынь-дзынь!» – и никто не трогался с места. Цыган бородатый ударил дрючком по верху холостом обтянутой брыки, так что у жидков головы затрещали от переносья до самого затылка, и душа ушла не только в пятки, но даже и в самые закаблучья. Все жидки полезли на корачках из брыки, придерживаясь – каждый, одной рукой за ермолку свою, а другой за длинные фалды кафтана ползущего перед ним жидка. Ухватки и ужимки каждого из них достойны были бы не пера, а кисти. Иван, сидя спокойно на козлах, вырубал огня на трубку и ждал конца песни. Я сказал уже, что жидков было в брыке без малого два-сорока; но когда цыган, для угрозы, повернул одному из них, часовому мастеру Зенвелю, голову так, что затылок пришелся противу грудной кости, а нос противу позвоночного столба, то все остальные, закричав в голос: «Ой вай мир!» – высыпали послушно гамзы и мошенки свои к цыгану в шапку, не исключая даже и Ицьки и муравленых его черепков. После этого цыган бородатый, из милости даровав им всем живот, повелел только надеть кафтаны наизнанку, подпоясаться, сесть в брыку и гнать во весь дух. Все кинулись к брыке, давили, как ошалевшие, друг друга, кричали, лезли, сбили Ивана с козел, ударили всем кагалом, то же, что по нашему целым миром, по клячам, и понеслись, сломя голову, через пень через колоду. Один жид уронил шапку – дуют без оглядки; другой и сам свалился – им нужды нет; наконец ось крякнула пополам, колесо соскочило – они гонят, как косой от борзых; и на трех колесах, боком, без одной шапки и без одно жидка, боронили дорогу во всю Ивановскую, вплоть до Шклова.
Похождение шестое
Прикативши к воротам Шлёмки Берковича, кони, по старой привычке, остановились на всем скаку, и бока и пахи у них ходили, как досчатые бока и кожаные пахи кузнечного меха; а ноздри дули и пыхтели, как жерло их. Весь кагал шкловский сбежался около жидков наших, которые вылезали, один за одним, в вывороченных наизнанку халатах; когда же жители Шклова услышали о причине такового переворота обычного порядка вещей, то, всплеснув руками и покачивая головами, дружно, в голос, закричали все: «Ой вай мир!» От этого, близкого сердцу, родного воззвания, и наши жиды пришли в себя и прокричали так же согласно: «Ой вай, вай мир!» Потом скинули они халаты свои, надели их налицо, сбившись в кучу, прошумели и прокричали до позднего вечера, а потом разошлись по домам.
Ицькина жена Хайка и дочь Ципе накормили его локшанами, лапшердаками, напекли ему куглей; но, припоминая себе утрату Ицьки, часто прикрикивали: «Ой вай мир!» – и наконец все они улеглись, на пуховиках и под пуховиками же, на глиняном полу, в грязной, тесной, чесноком напитанной комнате.
У Ицьки сердце все еще стучало вслух. Он заснул, не могши отбиться от видения, в котором главное лицо играл бурлак-гайдамак; и во сне же ему пригрезился страшный, неумолимый цыган, с ножом в руках. Ицька закричал во всю жидовскую глотку и схватил жену свою за горло; она, обороняясь, ухватила его за бороду. «Хайка, меня держат и собираются резать, – закричал он, – и это верно гайдамак-цыган!» – «Ицька, меня держат и режут, – отвечала она, – и это цыган!» – «Что же мне делать?» – спросил он. – «Соберись с силами, – отвечала Хайка, – понатужься, цвин дир, возьми гайдамака за ноги и выкинь его из окна». – Ицька вскочил впотьмах, ухватил жену свою Хайку, которую держал уже за глотку, за ноги и махнул ее за окно; потом поспешно отпустил оконце и припер его шестком, чтобы гайдамак не влез снова, а сам забился под перины. Хайка, очутившись среди улицы, встала, подперлася руками и подняла такой жалобный и тоскливый вой: «Ой вай, вай мир!» – что весь кагал жидовский вскоре сбежался с каганцами, с сальными огарками в руках; все обступили заливающуюся в три ручья слезами Хайку и спрашивали, все в один голос, друг у друга, поматывая головами и потряхивая пейсиками: «Бус ис дус? Бус ис дус? Что это? Что такое?» Хайка рассказала, захлебываясь, что гайдамак-цыган, – бо-дай ему на том свете тяжко икнулось, бо-дай ему век свой цыбули не бачить, бо-дай ему свиным ухом подавиться, – что цыган, который ограбил мужа и честных жидков на дороге, ныне выкинул ее из собственной хаты ее и принялся резать мужа. Жидки, потолковавши всем кагалом об этом, положили: поймать цыгана бородатого, во что бы то ни стало, непременно; а как, несмотря на стук их у дверей, испуганный Ицька не отпирал, да и не отзывался, то они и присудили: самому бойкому жиду, резнику Гершке завзятому, лезть в окно, из которого выкинули Хайку, и обещались все последовать за ним, дружным оплотом. Гершка не даром пользовался прозвание завзятого, т. е. бойкого или удалого: он, не медля нимало, вооружился ножом своим, подошел, под конвоем дружины своей, под заветное окно, выбил стекло и полез смело головой в оконницу. Ицька, доведенный сим нахальным нападением до крайнего отчаяния, решился твердо, хотя у него зуб на зуб не попадал и холодный пот выступил на лбу, решился отстаивать донельзя добро свое, и полагая, что цыган бородатый, которого он выкинул за окно, лезет опять к нему в гости через выбитое стекло, стал у окна твердой ногой, распустил десяток костлявых пальцев своих и ожидал врага в этом отчаянном положении. Лишь только Гершка завзятый головой своей полез в оконце, как Ицька вцепился когтями в длинные кудри его и начал с отчаянной силой стучать и возить бедного Гершку рылом по оконничной доске. Рукоделие это ему так слюбилось, голова Гершкина ему так по руке пришлась, и со страху он до того одурел, что, не слушая или не слыша ни родного, жалостного крика и визга бедного Гершки, ниже единогласного воззвания целого кагала, ободрявшего Гершку полезать проворнее и смелее, продолжал толочь Гершкину голову об доску, с таким же неутомимым рвением, как, говорят, на том свете окаянные грешники толкут в больших чанах или кадках воду. Наконец весь кагал жидовский, вся дружина ухватилась за ноги бедного Гершка и вытащила его замертво из оконницы, вырвав силой из кровожадных рук мнимого гайдамака.
Похождение седьмое
Таким образом, Гершка завзятый был, правда, спасен от мученической, жестокой смерти; но если читатели, по сродному им состраданию, полагают, что сим исполнилась мера истязаний его, то они ошибаются. Кому толчок, тому и носок; а щипаную курицу и ворона долбит. Ицька, жид вороватый, в неукротимой мести своей, одержав столь значительную и блистательную победу над цыганом бородатым, до того распотешился и расходился, что выскочил, заревев уже не своим голосом, из дверей в погоню за людоедом; жидки, увидев за собой, впотьмах, полунагого человека с дубиной, кинулись все, сломя голову и не успев подхватить башмаков своих в руки, от чего и растеряли их все до одного, – кинулись, говорю, прямо к раввину Аврааму на двор. Здесь ворота были заперты, но подворотня не вставлена, почему все жидки, ринувшись ниц, проползли под воротами и протащили бедного, бесчувственного Гершку за руки и за ворота, тем же трактом, к раввину на двор. Почти протащили, хотел я сказать, потому что они проволокли его по самые колена, когда разъяренный Ицька настиг арьергард обращенного в бегство неприятеля, ухватил судорожно сомкнувшейся рукой голые пятки одетых в серые чулки ног Гершкиных и сильной мышцей загнул их от земли к верху, к воротам, при чем, как Гершку волокли брюхом кверху, а спиною вниз, весьма естественно, что разъяренный Ицька, искусным рукочинством своим, перегнул, наперекор природному устроению коленного сустава, Гершкины ноги в самых коленах, под прямым углом вперед. С этой поры Гершка ходил как леший, сгибая колени в обратном смысле, вперед, был весьма не тверд на ногах, а потому на всю жизнь свою и получил прозвание разбитого на задние ноги.
На утро весь Шклов, от мала до велика, был на ногах; крик, гам, шум повсюду, учиняли повальный обыск: шарили по всем домам, не укрылся ли где разбойник, цыган бородатый? Ицька перешарил все подвалы и чердаки, клялся и божился, что сам его видел и в руках держал, но по долгим и тщетным поискам возвратился, наконец, запыхавшись, домой, взяв мимоходом у едва не овдовевшей, по милости его же, Ицьки, жены резника Гершки завзятого, пять с половиной фунтов кошерной баранины.
Похождение восьмое
Отдав жене своей Хайке, которая покряхтела еще, после вечерошнего переполоху, весь день, баранину, чтобы она ему сварила юшку, стал Ицька расспрашивать: чем она, в отсутствие его, промышляла и много ли уторговала? Хайка рассказала ему, как она обсчитала хохла, заставив его сдать ей со злотого сдачи три гроша, которые по расчету приходилось получить ему с нее; показала неоцененный стакан зеленого стекла, который привез ей свой человек, чуть ли не из самого Брянска; стакан, в котором, несмотря на широкий раструб или развал края, полость оканчивалась рюмочкой и дно было добрых четыре перста толщиной; показала новый хозяйственный способ, ею изобретенный, низать монисто, а именно: закидывая после каждой бусы по доброму узлу, чем выгадывала на нитку от пяти до семи бус; но верх необычайно даровитой сметливости ее было изобретение – продавать, в подрыв всем перекупкам, т. е. торговкам, покупаемые ею у иностранного немецкого пекаря пряничные орехи, дешевле самого хозяина, и иметь с этого оборота барыш! Немец продавал их по 20 копеек фунт; Хайка покупала их у него с вечера, ставила в сырой лёх, т. е. в подвал, от чего они напитывались влагой и становились тяжелее, и продавала их по злотому и грошей семь, то есть по 18 копеек фунт, выручала она чистого барыша по два гроша с фунта. Ицька вороватый, похвалив Хайку за такую оборотливость и поставив засаленным деткам своим досконалую маму их в пример, ухватил мохнатую шапку, трость и отправился шнырять по городу.






























