Читать книгу "Русские Сказки"
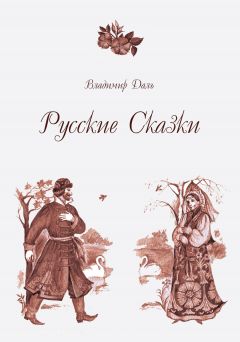
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сказка тринадцатая
О кладе (Богатырская сказка)

Как подумаешь, да порассудишь, что иной голыш, бедняк, бьется из-за последней деньги, из-за куска хлеба, колотится, что козел об ясли, весь век, – да и то, бывает, не добьется до торной тропы, чтобы пройтись, как люди ходят, – а иной, Господень крестник, только шапку наставит, и валится всякое добро и милость, живи да поживай. Как подумаешь, подгорюнясь, про эту притчу, так поневоле и сядешь, надувшись, как волостной наш, коли его кто обнесет случаем чаркой, – сядешь, да и переведешь дух, что кузнечный мех, да повесишь голову и сидишь.
Мужичок, сказывают, живучи где-то в понизовом захолустье, также, по нашему, все тужил да тужил, что ему таланту нет; а все, вишь, хотелось разжиться так, ни с чего, здорово живешь; не то, чтобы работой да потом, а сидючи-глядючи, по белу свету гуляючи, пляшучи да припеваючи; и задумал он разбогатеть кладом. Наладил он песню ли, сказку ли про этот клад, да все и читает ее одну, словно вековую докучную сказку про Сашку, Серую Сермяжку; и бредит кладом, и здоровается с тобою кладом же, и прощается кладом, и куска, прости Господи, ко рту не поднесет, не помянув, хоть про себя, клад. Чему же быть тут доброму, коли человеку дурью глаза и уши запорошило, голову набило по самое темя? Люди берутся за цеп, за косу, а он персты расставит пошире, словно грабли, уши развесит, да так и ходит по селу, дурак-дураком; только и норовит, где бы какого старика поймать, чтоб порассказать ему, какие клады бывают, да где живут они, да кому даются, а кому не даются; и не одну ночь, чай, прошатается молодец наш, клада ищучи, то к Лукашкину яру, то под Заячий лаз, то на Мурзинский курган, да, видно, не дается клад: молодец наш ходит все тем оборванцем, в сермяжном зипунишке, что на одной подкладке держится, а то бы давно развалился.
Первые клады в понизовых губерниях положили, сказывают, волжские разбойники. Выедут они, бывало, ночью на матушку-Волгу широкую, в косной лодке, да прикроются сверху рогожами, чтоб не видать было народа, и только воззрятся на расшиву какую, либо в досчаник, в кладную, то и держат прямо в корму. Коли кормщик на путевом судне, по обычаю, окликнет их: «Мир, Бог на помочь», да: «ОткудаБог несет?» – а потом: «Чье судно, чья кладь, откуда бурлаки?» – то чем бы им, как добрым людям, отвечать: «Вам Бог на помочь, – оттуда-то, хозяин такой-то, кладь такая-то», да выждать напутного слова: «С Богом!» – да и идти себе своим путем, так разбойники молчат, говорю, на оклик, да держатся прямо в корму, а подошедши, кидают причал, а атаман кричит: «Бери причал!» Бурлаки знают, что разбойника ни одна пуля не берет, обух не одолеет; принимают молча причал, и на приказ атамана: «Сарынь на кичку», все до одного прячутся в мурью, в порожнее место промеж палубой и кладью. Хозяин тут управляйся один, как знаешь, а бурлаки ни за что на разбойника руки не подымут. Разбойники влезают на судно, берут хозяина либо приказчика, кто случится, и допытывают: где деньги? А коли устойчив больно да упрям, так бывало и то, что поджаривали на легоньком огоньке. Набравши золота и серебра много, случалось, что разбойникам девать его некуда; они и зарывали его в землю и писали на клады эти записки, где лежит клад, и кому он дается; вот, например, запись на клад: «От села Свекловихина на полдни, в семи верстах от Красного-яру, супротив большого каменного мару, в двухстах семнадцати шагах, а от раздвоившейся березы в сорока семи шагах, положено кладом, в двух чайниках медных да в котле чугунном, на глубине косой сажени, золотом на двадцать на одну тысячу, серебром на семнадцать с половиною тысяч, да золотых с каменьями дорогими перстней два. А клад этот никому не дастся, только дастся он молодцу удалому, накануне Ивана-Купала, коли задом пройдет от самого села до места и станет рыть, не оглядываясь, не озираючись, да обет положит выкупить трех человек из острога, да господских троих на волю вольную. А буде зароку не выполнит, то клад пропадет, в него самого уйдет и огнем въестся, и в костях мозги усохнут. Слово мое крепко». А какой зарок либо завет кто положит на клад, такое слово и твердит про себя, когда клад зарывает; затем уже клад не дастся тебе, коли завету не исполнишь, во веки веков. Сказывают, что один какой-то обронил запись такую, а мужик нашел ее, вынул клад, сам пропадал без вести 40 лет, а воротившись, выкупил у господина на волю всю деревню свою. Другой клал клад и приговаривал: «На сто голов молодецких», то есть, чтобы сто молодцов пришли за кладом этим, а больше он никому не дастся; а лыкодер в лесу тут же подле случился, да переговаривал за каждым словом по своему: «На сто колов осиновых»; переговорив хозяина одним разом – а кто какое слово напоследок вымолвит, по тому и быть, – лыкодер вырубил сто колов осиновых, поклонился ими кладу, да и вынул его, и клад ему дался без спору. Опять другой, сказывают, положил клад богатый, да не велел даваться никому, поколе на этом месте станет море. Мужичок этот помер, а запись досталась сыну, да только не знал он, как с нею быть и как добыть клад. На селе этом жил мужик, про которого шла молва, что он всякую пору и причину знает и оборот во всяком деле; к нему и пришел с записью молодой парень на совет, да и прогулял, по недогадливости своей, клад. Мужик этот провел парня, то тем, то другим его пробавил, а как весна пришла, так подпрудил место, где положен был клад, заметив его колом, да под водой и вынул. Вот-де тебе и море! Есть где-то, сказывают, пугачевский клад; положен в мешке кожаном, а мешок в рубаху, а посверх кладу положен убитый человек, нарочно, видно, чтобы, кто рыть станет, подумал, что этоде могила, и покинул бы ее. А это еще слышал кто, что есть жук, который летает ночью накануне Иванова дня, и сам норовит налететь на человека: коли рот растворишь да подставишь его, и жук влетит, то выплюнь на руку, и у тебя богатый клад; сыпь скорее с руки в мешок, либо в шапку, да во все карманы, – посыплется чистое золото!
Иные кладут благочестивый клад с молитвой, а чаще того, спознавшись с нечистой силой, с бесовской властью; тогда уже не вынет его никто, не отдав души черту. Много есть кладов татарских и калмыцких старых годов: так к тем уже не приступайся без шайтана, либо веди такого ж некрещеного татарина. Эти клады живут без записи, да не вынешь, хоть и знал бы, где лежит, коли с шайтаном не побратаешься. Есть и такие клады, что взаймы дают; приди, попроси честно, с поклоном: дай-де, пожалуйста, кум, сотенку, я принесу тебе накануне Рождества, либо там в Духов день, что ли, – и дастся, да только если, упаси Боже, обманешь, так пропал; помрешь либо рука усохнет, а не то сам пойдешь по свету белому кладом ходить, до поры до времени, пока кто не ударит тебя, как в драку пьяный полезешь, по щеке, тогда сам и рассыплешься кладом. А есть и такие, ходячие клады: мужик, сказывают, ночью нашатнулся на какую-то сапатую кобылу, да хотел отогнать ее, ударил кнутовищем – она и рассыпалась кладом, да все старинными золотыми да крестовиками. Другой мужик этак же хотел ночью свинью выгнать из огорода, и, Бог весть, говорит, отколе она затесалась: тын плотный кругом, что и кошке негде пролезть, и калиточка на запоре, а хрюкает, ходит да по грядам роется. Мужик выскочил из избы, ухватил полено, шарахнул свинью вдоль по боку – она и рассыпалась кладом, да таким, что десять огородов можно купить, да по десятку работников еще на каждый. А то есть и такой клад, что ни с чем не дается, как только по своей по доброй воле; кто знает, где он лежит, так ходят о полуночи туда да упрашивают его и кумом честят; ино раз десять побывать доведется да потолковать с ним, поколе покажешься ему да приглянешься, да на него угодишь: а сдастся, так твой, бери смело.
Всего этого, а может еще и побольше того, наслушался молодец наш, словно сыворотки нахлебался: брюхо набито, а ни вкусу, ни проку; и уже ничего не слышит, не видит, кроме клада. Одно на уме, одно на языке. Человек видит свинью, либо другую какую скотину, так подумает, может статься, ину пору – кого грешная дума не одолела – подумает разве только, что вот-де, кабы она моя, так я бы ее на рынок свез да продал; либо: вот, кабы моя свинья, так откормил бы ее к праздникам да зарезал, уж по крайности знал бы и помнил, что Бог дал праздник; так подумал бы, говорю, иной человек; а наш молодец, на котором лохмотья серой сермяги держались, как листья кочана капусты вокруг кочерыжки, не иглой да ниткой, а тем, что приросли, – наш молодец, все только, как увидит свинку, то и норовит свистнуть ее из-за угла поленом – не рассыплется ли кладом? А тут, глядишь, по рылу заденет ее поленом, она и околела; и разделывайся да ведайся с хозяином, как знаешь. Так-то не раз, бывало, отомнут нашему молодцу за проказы эти бока, что он про себя думает: хоть бы уж самому мне кладом рассыпаться, так уж был бы один конец! Сказывают, что сделал молодец наш раз как-то еще лучше: повстречал он на чужом селе немого старика, нищего, и померещись ему, что это ходячий клад; он, подошедши, да и давай его, бедняка, колотить: а тот нем, слова не вымолвит, ревет не своим голосом – а сказать ничего не скажет. – Тут набежали ребята, схватили раба Божьего, искателя клада, валяли его часа два, словно гвардейское сукно, да еще и затаскали было по судам да волостным управлениям, так что вышел он оттуда – еле-еле душа в заплатах держится, весь костяк наружу вылез. Кажись бы, это ли не наука ему? Так нет; отдохнул да перемогся – и забыл прошлое горе и готов, хоть ныне, хоть завтра, опять за кладом идти. То-то забывчив на прошлую беду русский человек: и крута гора, да забывчива!
Подсиживал молодец наш и папортниковый цвет, выжидал его, как пылинка в засуху росинку, – не дался; собирал и семитравный травник, – либо не досушил, либо пересушил, а кладу не доискался; выходил и до зари по ночам подстеречь да высмотреть, на каком месте в сухих буераках черти поминки поминают, потому что слышал от старых людей, что там быть и кладу, – не доискался и чертей; искал он и разрыв, либо спрыг-травы, которую называют и железняком, и от которой все запоры и затворы разлетаются, и клады сами в руки даются, – так не далась ему и трава эта, Бог весть, отчего; словом – пришлось нашему искателю хоть камень на шею да в воду, коли б шайтан его не помиловал; слушайте:
На самого Ивана Купала, когда настоящая пора бывает клады искать, молодец наш пошел к ночи в раздумье, куда глаза глядят, и стал думать про себя уже вот что: когда б то найти мне хоть такого сатану, что, сказывают, душу берет да чистым золотом за нее расплачивается, – ах, когда б найти! Не пожалел бы душишки своей, отдал бы черту, хоть самому ледащему, только бы отсыпал он мне шапки две этого добра – ей, не пожалел бы душишки, ниже для последнего поганца, которого, может статься, там, на низу, и в ломаный грош не ставят и бьют, и обделяют, и немного душишек на его долю достается.
Не успел так подумать молодец наш, как, не к ночи рассказывать, закрутился перед ним вихор столбиком, круче да круче, гуще да гуще – вспыхнуло с исподу, от земли, полымя, пробежало, словно зарево, по черному столбу – и вышел из него, отряхиваясь, человек. На нем смурая епанча какая-то, не то хламида, алая жилетка, смушчатая высокая черная шапка, с алым верхом, а сапоги с превысокими подборами, так что след по дороге оставался не от всей ступни, а только от каблуков подкованных, – да подкованных больно хитро: душкой наперед, а шипами назад. Молодец наш поглядел на него – обдало его, молодца-то, мурашками – однако, пошел вперед, как ни в чем не бывало. Тот пристал к нему, словно попутчик какой, идет рядом и заговаривает. Молодец всмотрелся в него – рожа черная, рыло широкое, глаза на выкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек раздвоился, да из-под шапки комли рогов выглядывают; а как стал господин попутчик кутаться в хламиду да хоронить туда морду, чтобы Герасим не так бойко вглядывался, так показались и лапы перепончатые, словно лягушачьи, да с когтями вершка в полтора. «Молчи, – подумал Герасим, – а так звали нашего молодца, хоть сколько ни таились, а пришлось сказать, – молчи, – подумал он, – смекаем и мы кое-что: будем сватами, ударим по рукам».
Слово за словом – попутчик зовет уже Герасима к себе в гости; «и дам, – говорит, – тебе, чего хочется, добуду все это и достану, только и ты мне прислужись, не откажи». – «Чего хочешь, – отвечает Герасим, – того и проси; я ль тебе не слуга буду? Весь твой, на веки веков, только дай ты мне натешиться добром своим, чтоб был я в людях человеком, чтоб была и мне честь не хуже других; – дай ты мне найти клад; укажи, где он лежит, да пособи вынуть!»
«Что клад, – сказал на это попутчик, – у нас есть добра этого довольно, найдется достаточное число-количество, не рывшись за ним далеко». – А сам тряхнул на ходу одной рукой, тряхнул другой – полны горсти золота. У нашего молодца сердце так и замерло; как увидал он это, ино вперед попутчика забегает по тропинке, да задом ногами частит да умаливает и упрашивает: «Поделись, сватушка, поделись, куманек, век служить буду». – «Эточто, – сказал опять попутчик, – из-за этакой щепоти нечего и рук марать; нет, мы найдем и почище этого. Да ты, признаться, сегодня очень кстати пришел: в эту ночь мы поверяем клады, пересчитываем их, все ли живы-здоровы и целы; так ты, коли пойдешь со мною, сам увидишь, что у нас этого добра, как говорится по-вашему, тьма и пропасть. По-нашему, конечно, такие слова означают совсем не то; у нас свой язык, прямой, ясный, без всякий затей.
Мы говорим промеж собою на всех языках и наречиях, да только половину слов из обихода своего выкидываем вовсе, а понимаем друг друга не хуже вашего. Сами ж вы или мудрецы ваши твердят: всякое излишество зло, – и пилите и мучите поговоркой этой и себя, и друг друга, а сами же ни в чем меры не знаете; до после еще плачетесь на беду свою, коли мы в подземных чертогах своих поем вашу же песню: «а нашего полку прибыло!» Смешной вы народ, право, смешной: и хочется, и колется – по этой поговорке своей живете вы от зыбки до могилы; вот хоть твоя милость, например, половину века отжил, добра никакого в глаза не видал, а не попадись я тебе теперь, так и пропадал бы ты и бедовал в свою голову до самой могилы, – а все бы чертогов наших не миновал, потому что, сам знаешь, живучи не спасался».
«Дядюшка, – отозвался молодец наш, – дядюшка, да я ли не ухаживал за вами, я ли не напрашивался, возьмите-де меня с начинкой, со всем, и душу, и тело, как вот стою перед вами; что же я делать стану, коли не допросился, не домолился вас?»
Черт плюнул трижды и продолжал: «Вот то-то, видишь, бестолковый вы народ: я говорю, что и хочется, и колется, вы все мешаете одно с другим; вам бы этак хотелось выкроить, чтоб и волки сыты были, и овцы целы, пробраться середней дорожкой; за нашего брата хватаетесь, а не весть, что поминаете, да по сторонам оглядываетесь, кому бы еще про запас поклониться, чтобы, на случай неудачи, было, куда приютиться, да чтобы после на нашего брата поклеп наклепать, небылицу взвести, будто де не по своей воле за эту грамоту взялся, а мы, вишь, соблазнили. Соблазнили! Ах вы, горемычные! Коли б вы нас сами не затрагивали да двуязычием своим ину пору в беду не вводили, так кто бы стал займать вас, и какой бы черт стал вам кланяться да в батраки записываться, вот как я теперь, да потешать вас и все прихоти ваши и причуды? Нет, сосед, у нас так нельзя; середка на половине, это не приходится; этак не попадешь ни туда, ни сюда, а черт знает, куда, как вы же говорите; наш, так наш, так уже и будем знать, что наш; а не наш, так так и скажи».
«Да ваш же, дядюшка, ваш, весь вот как теперь перед вами; и рожки прикажете мне приставить, коли хотите, только, пожалуйста, не больно великие, чтобы, знаете, хоть под шапкой их не видать было: я и от этого не прочь; что хотите, то и делайте».
«Не в рожках сила, – отвечал сосед, – вы все, вишь, не то городите. Пожалуй, другой у вас и в рожках ходит, да не сюда глядит, а тоже толкует о всякой всячине. Нет, ты ходи, в чем ходишь; постный покрой вашему брату не помеха; мы и сами иногда… Ну, да об этом после; вот видишь, гляди-ка сюда, мы дошли до места: есть по чему глазам твоим поразбежаться!»
Молодец наш оглянулся – и дух в нем замер от радости; так вот льдом и окатило, а после кипятком. Земля перед ними расступилась, и открылся вертеп, весь в огнях цветных, так что глазам не дает взглянуть. Черти, и малые, и большие, таскают мешки в кучу, да котлы, да сундуки; один ходит со связкой ключей, да отпирает, да свидетельствует замки и печати, да сымает их; прочие высыпают золото, серебро, дорогие каменья, да уже не счетом считают – куда! тут не найдешь никакого счета! – а гарнцами пересыпают, да мерками и четвериками. Голова ты моя, головушка! Что за пропасть добра, серебра да золота: словно утроба земная перед тобою разверзлась и кажет все сокровища свои, которые накопила со дня мироздания! Страшно глянуть было на богатство это; нашего Герасима взяла бить лихоманка, таки не выждет, думается, не доживет того часу, когда черт наделит его сам этим добром. А черти, как увидали, что привели к ним нового товарища, так вот так и забегали, словно мыши в подполье, и давай пересыпать перед гостем золото из кадки в кадку, из мерки в меру.
«Шабаш! – сказал Гераськин товарищ. – Надо отдохнуть да повеселиться», – и все черти покинули работу свою: который на счетах клал, кинул их на кучу серебра; который записывал, перо за ухо, да лист на столе перевернул, чтобы, знаете, кому дела нет до письма его, не прочитал, сколько кладов на свете есть, и где они лежат; которые считали, те давай кататься по золоту, как собаки по навозу, – да подняли крик, смех, визг; а тут, глядь, отколе ни возьмись, гусли, рожок, волынка, балалайка, гудок да еще и бубны: пошла пляска страшная и гульная такая, что Герасим стал уже то и дело оглядываться, не сбежится ли народ с соседних деревень на проказы эти; да нет, видно, спали еще все, не видать по оврагу никого. Глядел, глядел Герасим наш на все это, да опять стал присматриваться на золото, что огнем ясным блестело: горы золотые с горами серебряными перемешиваются; перстни, серьги, подвески, ожерелья, запястья, зарукавья, поднизи – да все яхонт, алмаз, изумруд, бирюза; не стало мочи терпеть больше нашему Герасиму, подошел он к приятелю своему, попутчику, который, видно, сюда домой пришел, и епанчу свою и шапку снял да наземь кинул, а ходил в красной жилетке, да, простите меня, в плисовых штанах с золотым лампасом, – подошел да и говорит ему потихоньку: «Что ж, дядюшка, наделите меня, грешного, да отпустите…» – «Ты ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами, – сказал, глянув через плечо, плисовый попутчик, – я говорю, что вам нельзя не завираться. Ну, дам я тебе; сказал, что дам, сколько на себе унесешь, еще, пожалуй, до околицы двух или трех пошлю с тобою помощников своих, чтобы донесли тебе добро это; да ты не обманешь ли меня после, не откинешься ли?»
«Кто я? – спросил Герасим. – Я откинусь? Дядюшка, да как хочешь, заставь побожиться; и вот тебе крест…»
Шарасть! Все как рукой сняло; страшный гром с раскату ударил, и молнией опалило Герасиму бороду – а черти все до одного в глазах его из вертепа в бездну бездонную попрыгали. В один миг, не успел Герасим и крестного знамения повершить, все пропало; темная ночь обдала его градом и дождем; буря завыла, гроза загрохотала, и бедняк лежал долго без памяти. Он проснулся на рассвете, в лесу, на скате крутого яра, хотел кричать – нет голосу, нет языка; хотел привстать – ноги отнялись; насилу, сказывают, дотащился он к вечеру на дорожку, там подобрал его мужик да привез на село. С этой поры Герасим лазил на карачках, протягивал руку, Христа ради, за насущным ломтем, поколе не дошел до могилы своей. – Языка не доискался он по смертный час свой; тогда только он проговорил, покаялся и рассказал, что сбылось над ним накануне Ивана Купала.

Сказка четырнадцатая
О прекрасной царевне Милонеге-Белоручке, по прозванью Васильковый Глазок, и о трехстах тридцати трех затяжных волокитах и поклонниках ее

В странах отдаленных, в царстве и государстве, что за горами Рифейскими, где из слитков злата красного, самородного, терема кладут, а краеугольные основы и вязи ставят адамантовые; где люди хлеб-соль делить съезжаются, гостят по пяти, по десяти веков, сватаются по сту, а живут – не стареются и по тысяче; испивают чару стоведерную, на ногах стоят – не шелохнутся; поедают, во дни постные, во пяток и в среду, как засядут полдничать, по три воза белужины, по три воза осетрины, по три воза севрюжины со стерляжиною; а как думу думать примутся, так надумают, каждый своим разумом, что головой тряхнет, думы с три копны да раздумья с три прикопеночка; там-то владычествовали и повелевали тремя царствами три брата, царя Свеозара. А у каждого у царя-государя Светозара было по три жены, а у каждой жены по три дочери, а у каждой дочери по три жениха, а у одной триста тридцать три. Не светел месяц проглянул на небе, то за горами Рифейскими, из терема своего высокого, из окна косящатого, проглянула красавица белым личиком из-под полога лазоревого; то не ноченька нас пеленает темная, что ресницы соболиные, белы веки девицы опускаются, не заря то занималась утрення, и не зорюшка, не денницы первый луч, – то проглянула девица васильковыми очами своими, то дщерь была старшего Светозара царя, Милонега-Белоручка, по прозванью Васильковый Глазок. И по три жениха у сестер ее было, а у ней женихов триста тридцать три; увивались они за нею, ухаживали, что звезды по небу синему за ясным месяцем, гостить приезжали к отцу ее, гостили по пяти, по десяти веков; а сваталися по сотне, а жить с нею собиралися и по тысяче, не хотели стариться; а не с нею жить, так хоть заживо на погост неси; а она, Милонега Васильковый Глазок, им ни ходу, ни ладу не дает; не дает ни жить, ни умереть! Царь-отец затеял с теми богатыри иноплеменными пир пировать, приказал в чаны дубовые пива, меда наливать, дружным оплотом чары осушать. И будет день в половине дня, и будет пир во полу-пире, как возговорит царь-отец тем своим дорогим сотрапезникам, тремстам тридцати трем дочери своей женихам и поклонникам: «Ох вы гой есте, витязи именитые, стеклися вы, богатыри, из стран иноплеменных, аки потоки быстрые, нагорные, Рифейские, на злачны, цветистые луга мои; нагляделся я на рыси вашей прыть удалую, молодецкую; видел, как сшибали вы копием, тупым концом, по двенадцати конных витязей; рассекали вы полосой булатной по двенадцати толсты кошм, и кошм калмыцких, валеных; на игрищах, на ристалищах и на конских бегах давали вы ускоки кониные молодецкие, выметывали перелесья удалые, широкие, каждым ускоком по загону земли. Не возмогли вы тою славою воинскою обрести любви дочери моей, царевны Милонеги-Белоручки. Земля и терем мой, сами вы видите, всем богаты и привольны: на небе солнце, и в тереме солнце; на небе месяц, и в тереме месяц; на небе звезды, и в тереме звезды; на небе заря, и в тереме заря и вся красота поднебесная; и дочерью подарил меня промысл, коей нет подобной во всей поднебесной, а царствую я уже не единое и не первое тысячелетие, и старость меня одолевает, а наследника нет как нет! Нет зятя, дочери достойного и подпоры по мне сиротам моим! Ох вы гой есте, храбры витязи, богатыри многославные, именитые: распотешьте меня, одинокого, под старость лет! Кто бы выискался из вас сказку сказать, сказку пригожую, поучительну; и таких, чтобы вышло ко мне из среды вашей, из трехсот тридцати трех, три добрых молодца; отворяйте вы мои златые двери на пяту, подгибайте вы колени молодецкие, вы садитесь на ковры сорочинские, выпивайте чару зелена вина, утирайтесь вы белыми полотняными ширинками, узорчатыми; вы по сказке скажите поучительной; на троих молодцов у меня по три дочери, по три невесты драгоценные; а одна невеста будет краше всех: то царевна Милонега-Белоручка Васильковый Глазок; и не светел месяц из-за облака, – глядит дочь моя из-под полога; то не ноченька налегает темная, – что ресницы соболиные опустила девица; не заря то и не зорюшка занялася утренняя, – то проснулась дщерь моя и отверзла зеницы девственны васильковых очес! Я отдам ее за добра молодца, что на вено ей мне расскажет сказку лучше всех; кто выходит состязаться за красавицу, мою девицу, Милонегу царевну, Васильковый мой Глазок?»
И большой за меньшего хоронится, а от меньшого ответу нет.
«Ох вы гой есте, добре молодцы, выходите, разудалые!» – вызывал царь-отец в другой и третий раз.
То не ветер прошел верховый по-над лесом зеленым, не вихрь пробежал по колосьям наливным, по сизой па-шеньке, то не море всколыхнулося волной, не зыбями всполошилося Хвалынское: то говор пробежал по столам белодубовым, браным, разыгралися щеки витязей румянцем румяным, – что головушки покачивают, думушку раздумывают, их разумье берет: хороша царевна Васильковый Глазок, загадаешь про нее, так душа замрет; а что взглянешь, голова отымется!
То не три сокола из дубравы выпархивают, не три молодых подплывает серых лебедя, то три могучие разудалые молодцы распотешить хотят государя-царя – рассказать на вено, на калым, по сказочке, состязаться на смерть, на живот, на прекрасную царевну Милонегу Васильковый Глазок! Отворяли они златые двери на пяту, садилися во гриднице высокой на ковры бухарские, выпивали чару зелена вина, утирались полотняными белыми ширинками узорчатыми, кинули промеж собой жеребья, и кому первому выпал черед, тот гость из земель приморских, далеких, полуденных, царю-государю челом да об ручку, а сам начал сказку сказывать, словеса выговаривать:
«Хочу сказать похождения поучительные Принца Адольфа Лападийского, на острове Вечного Веселия.
Близ стран полуночных, у моря ледовитого, лежат земли хладные, коих жители не наслаждаются благораство-ренностию воздуха, а ходят на лыжах бить белых медведей и тюленей по лесам, неимоверно высоким, по снегам сыпучим, по громадам вековых ледяных гор; славился в тех землях промыслом звероловным, считался ловчим неустрашимым – принц Адольф, по земле своей Лапа-дийской. Он, посадив в один день на рогатину с полпятка белых медведей да распоров чингалищем своим с полнятка же, зашел наконец в такую ледяную дичь, что не знал, как и выплутаться, а собирался было уже наконец разгрести снег да складывать туда остывшие кости свои, на вечный покой, как вдруг увидел он перед собою темную ледяную пещеру, при входе в которую встретил старуху. Сарафан на ней был из птичьих кож, фата пузырчатая, а власы по временам упадали словно гривы косматые. – По многом взаимном удивлении о нечаянной встрече сей, объявила старуха та принцу Адольфу Лападийскому, что он в жилище Бога ветров, вьюги, метелей и буранов, северного Эола; что хозяина, мужа, да и сыновей ее нет дома, ибо они разошлись по должностям, но что она ужин про них доспела, а потому деткам ее и внучатам надлежит скоро возвратиться. Он сел подле огня и вскоре заметил, что оный, от приближающегося ветра, начал пламенеть и ярко разгораться. За сим воздух отовсюду огласился биением крыльев божков летучих, которые, числом четверо, Северяк, Полдняк, Столбняк и Шелониха, вступили в пещеру. Они были мокры, пасмурны и угрюмы; у одного струились еще по щекам капли дождя; другой стряхивал, с распущенных волос и крыльев, снег; они все поочередно начали превозносить сипловатыми, резкими голосами подвиги свои. Кто постарался развести во все стороны друг другу взаимно себе сопутствовавшие корабли; кто загнал беспощадно бедного мореплавателя на отмели и подводные каменья непроходимые; а был один и такой, что гулял да шутки шутил, срывал с людей шапки и шляпки, обвивал подолы юбок вокруг белых ног и заставлял красавиц на улице по семи раз на одной ноге поворачиваться. – Наконец принц Адольф Лападийский увидел еще пятого отрока, впорхнувшего в пещеру, но во всем много от четырех поименованных отличавшегося; он много походил на Леля или на Ладу, был цветущ и прекрасен, и рассказывал, что миловался сейчас с принцессой веселия и красоты и играл в горелки с приспешницами ее. «Позвольте вас, любезное мое дитя, утрудить вопросом», – сказал принц Адольф, – где эта принцесса обретается, и каким путем-дорогою можно достичь жилища ее?» – «На острове Вечного Веселия, – отвечал божок Зефир, – неужели вы доселе ничего об этом острове не слыхали? Люди живут там в вечном благоденствии; они не знают ни злобы, ни болезней, ни войны; живут долго и в изобилии, и проводят дни свои в невинной, беспечной веселости и в гордом спокойствии. Жилища их суть злачные леса и дубравы; плоды древесные служат им пищею; они умирают равнодушно и единственно от пресыщения жизнию. Тогда они дают пир друзьям и родственникам, украшают венками голову свою и бросаются в волны морские. Я завтра на рассвете туда отправляюсь и, ежели угодно, могу и вас взять на слюдовых крылышках своих с собою». – Принц Адольф, возгоря любовию страстной, несказанно обрадовался предложению услужливого Зефира, пошел, по приглашению отдохнуть в особую пещеру, с удивительным искусством разукрашенную, провел ночь в приятной беседе, а наутро стал снаряжаться в путь. Зефир подал ему епанчу и сказал: «Если накинешь ее на себя зеленою стороною, будешь невидимкою; если алою, будешь наслаждаться настоящим, забывая и прошедшее, и будущее, и время пролетит, тебя не касаясь!» А за сим он отправился немедленно с вожаком своим, Зефиром, и держали они путь выше лесу стоячего, ниже облака ходячего, и опустились на острове Вечного Веселия, в вечнозеленых, заповедных садах принцессы роскоши и неги. Одна нимфа, девица-приспешница, опускала в самое это время из окна высоких хором повелительницы своей, на шелковом гайтане, корзинку, приказывая садовницам наполнить ее цветами. Принц Адольф, накинув плащ Зефира зеленой стороной, сел промеж цветов в корзинку, был немедленно поднят девушкой в окно светлицы высокого терема и очутился невидимый среди великого множества прекрасных девиц у ног чарами обильной принцессы красоты и веселия, сидевшей на престоле, из самоцветного камня выделанном и жемчугом скатным унизанном, и имевшей, в числе прислуги своей, мальчиков-купидонов, лобызавших у нее непрестанно руки. Принц Адольф-невидимка, пораженный необыкновенной красой принцессы, забылся и уронил с плеч епанчу, а потому и предстал немедленно во весь рост изумленной принцессе. Он пал к ногам ее, сказался именем своим, поклялся в вечной и неизменной любви и испрашивал для себя посильной взаимности ее. Принцесса учинила ему сознание давно уже таившейся в ней взаимной страсти, и пригласила его блаженствовать вместе с нею на острове Вечного Веселия, где люди живут не наживутся, нежатся – не нанежатся. Принц Адольф накинул немедленно волшебную епанчу красной стороной и начал от сего мгновения жить в настоящем, не зная ни прошедшего, ни будущего; вся жизнь его уподоблялась, с этого мгновения, потоку чувственных наслаждений.









































