Читать книгу "Русские Сказки"
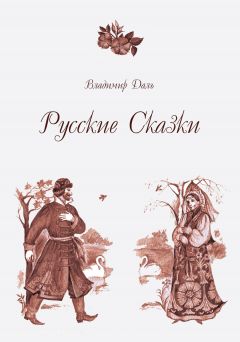
Автор книги: Владимир Даль
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
На базаре стеклася необычайная толпа, все билось и теснилось в кучу смотреть на проезжего пресловутого фигляра, который разъезжал со свитой своей, в плащах, шитых золотом, по улицам и обещал показать, в первый и в последний, доселе неслыханное и невиданное. Ицька, не могши добиться до подмостков, несмотря на то, что кричал отважно: «Шварц юр!» – и продирался в оба локтя, дотолкался наконец до дегтярной лавки Шмуля Рафаловича, перед которой стояла торчмя порожняя смоленая бочка, ухватился за нее, уперся руками и ногами и длинной тростью в спицы, плеча и бока окружающих боку, взлез наконец, с необычайным усилием, и стал на нее, подпершись тростью, как петух-победитель, похлопывая крыльями, становится, взобравшись на соседний тын или плетень. Но не успел славный штукарь засучить рукава, как толпа около бочки начала хвататься за край ее и протягивать шеи. Бочка закачалась; Ицька наш, помахивая руками, как сухопутная мельница, старался удержать равновесие и, переступая с ноги на ногу, вдавил дно бочки, провалился, полетел в нее и вынужденным нашелся всматриваться, по временам, в неслыханные и невиданные чудеса жида-итальянца, приседая и подпрыгивая непрестанно, так как он на беду на целую четверть не дорос до утор дегтярной бочки. Когда гармидар на базаре кончился, единоверцы обратили наконец внимание свое на бедствующего Ицьку, попавшегося как крыса в ловушку, опрокинули бочку, а с нею и жидка, вытащили несчастного, высмоленного с ног до головы, и отпустили его домой для просушки.
«Чтоб вам век свой кучки под крышей праздновать и мацов[4]4
Пресные лепешки.
[Закрыть] не видать; чтоб вам с просонков когда-нибудь своей рукой перекреститься!.. Чтоб у вас, окаянных, бороды повылиняли!..» Так бранился Ицька бедняк, пробираясь, в смоленом халате своем, домой – бранил, сам не зная кого.
«Есть давай! – закричал он Хайке, вступая в хату свою. – Я проголодался, давай сюда мою юшку с бараниной!» Хайка, всплеснув руками, закричала: «ой вай, вай, вай!» – и поведала ему, как кошка съела его мясо. «Съела? – спросил Ицька. – Съела? И все?»– «Все до тла», – отвечала отчаянная Хайка и ставила старшую дочь свою Ципе свидетельницей этого неслыханного несчастья. Ицька, не говоря ни слова, велел подать себе безмен, поймал кошку, поддел ее живую крючком за воротник, прикинул на безмен и закричал: «Хайка! Кошка твоя тянет ровно 5 % фунтов; итак, это мясо мое мясо: а где же теперь наша кошка? Где наша кошка? – повторял он, приступая к Хайке. – Это мое мясо, подай мне за раз кошку!»
Похождение девятое
Между тем, нечаянное и неожиданное обстоятельство лишило нашего цыгана вороватого ровно половины всего наличного имущества его, состоявшего в звонкой монете. Обстоятельство это требует пояснения. Жиды Подола, Волыни, Литвы и Украйны предприняли, несколько лет тому назад, небольшой оборотец, который им удался совершенно и лишил большую часть жителей, а особенно неимущих, значительной части малого их достояния. Жиды, условившись, начали пускать в оборот, вместо наших русских грошей, копейки денежки, различные старинные медные монеты и даже шелеги; это тем удобнее было исполнить, что в тех местах жители уже привыкли к разнородным польским и австрийским грошам. В том числе явилось, как упомянуто, значительное количество наших старых и новых копеек и денежек и даже полушек: все это ходило под общим именем грошей и ценой в русский грош. Пять полушек, пять денежек, пять шелегов, словом, – пять мелких медных монет составляли гривну; или, как там на гривны не считают, 30 монеток шло на злотый, равняющийся нашему полтиннику или 60 копейкам. В короткое время жиды успели вывезли из Подола и Волыни все гроши и заменить их копейками, шелегами и полушками. Настал роковой год, кажется 1821-й, и все торговое сословие польской Украйны, то есть все нынешнее поколение жидов, объявило единодушно и единогласно, что грош содержит в себе две копейки, копейка две деньги, деньга две полушки, что иностранная медная монета не ходит в России, а шелеги никакой цены не имеют. У нашего цыгана было около того времени заготовлено в прок и в запас, на зиму, полный глек, т. е. глиняный кувшин, мелкой меди. Упомянутый еврейский оборот сделал ему столь значительный подрыв, что он нашелся вынужденным изобрести какое-либо средство, для вознаграждения, до заморозков, траты этой: иначе запас шелегов мог истощиться до весны, то есть до подножного корма, для него и краденой его кобыленки. Самый верный и обыкновенный оборот цыганский это торг и мена коней; варганы как-то немного приносят доходу; лошадей мало кто кует, а ездят жиды и хохлы большей частью на некованых; так осталось только одно: ухватиться опять за конский промысел.
Цыган решился придержаться и в этом случае старого приятеля своего, Ицьки вороватого. Старый друг лучше новых двух. Зная, что он дома, в Шклове, промышляет иногда передаточным товаром, хотя сам явно воровать трусил, подослал цыган к Ицьке товарища своего, велел столкнуться с ним на базаре и предложить доброго рыже-пегого коня, – побожившись, что конь этот издалека, и отвечая за то, что никто его у Ицьки не признает. Перемолвившись с жидком, цыган обещал привести коня в эту или на следующую ночь. Жид велел хозяйке своей припасти и держать наготове дорожный погребец его, то есть сальную, грязную тряпицу, в которой было завернуто по ломтю всякой всячины из съестного, а сам лег спать, не раздеваясь. Немного погодя, Хайка услышала стук на дворе и перепугалась до смерти: она не могла еще забыть цыгана. Но Ицька успокоил ее, сказав, что он ожидает доброго молодца, и что это не воры, а приятели. Он вышел наскоро и подлинно застал уже на дворе человека на пегом коне. Недолго он торговался и дал за рыже-пегого коня три карбованных да ползлотого магарыча, и цыган наш, передав повод из полы в полу, сам ушел и был таков.
Не упуская часу, стал жидок собираться с новым конем в Бердычев, на ярмарку, и велел запрягать брыку свою тройкой. Но батрак пришел, почесывая затылок, с докладом, что коренной нет на конюшне. «Как нет? Как нет? – спросил Ицька, ухватив фонарь. – Кого нет, сердце мое Иван?» – Он отправился немедленно с фонарем на конюшню искать коренной; искал ее как булавку, но не нашел. Чем долго морить читателей и заставлять Ицьку искать и браниться по пустому, скажем лучше напрямки: коренной действительно не было на конюшне; она стояла смиренно на дворе, у ворот, привязанная и расписанная мелом или белой глиной, пегим узором, расписанная вся, от лысины до копыт; там стоит она и ожидает с покорностью судьбы своей. Цыган вороватый пришел ночью к жиду, принес с собой глек распущенной белой глины, почуял духом, где стоит рыжая коренная его, расписал ее пегой и продал ему же, Ицьке, и тут же, на собственном его дворе. Ицька заметил только, что она упарилась, как видно, дорогой изрядно. Цыган признавался откровенно, что лошадь эта краденая, но ручается при том головой, что ее никто у Ицьки не признает, никто к нему не привяжется. Когда же краска просохла и обсыпалась, рыже-пегая кляча оборотилась в рыжую Ицькину коренную, волос в волос, как стояла в стойле; да только цыган, чтоб ему в нитку высохнуть, чтоб его москали на подружке злапали, второпях и впотьмах выткнул ей помазком один глаз. Она окривела.
Похождение десятое
Ицька закричал: «Гвалт!» Хайка с домочадцами – и вдвое того, подняли на ноги весь кагал шкловский, кинулись в погоню и застали неосторожного цыгана в шкловском первостатейном шинке, где они гулял на Ицькины денежки и перебранивался с шинкаркой, которая хотела ему сдать по старому курсу, копейками и денежками, вместо грошей. Евреям давно уже указом запрещено шинковать, т. е. целовальничать в кабаках и корчмах; несмотря на это, во всех шинках Украйны сидят жиды и жидовки.
Жиды объявили город на военной ноге, а шинок в осадном положении. Известно, что во всех жидовских местечках и городишках жиды делают, что хотят. За одним только жиды не гонятся – за толчком: их не бьет, кто не хочет. Но зато, во всяком ином отношении, жидовская воля владыка, и каждый оборванец и обшарпанец распоряжается вашим карманом, словно своим, и делает это, кажется, с помощью магнетизма. Он видит по глазам вашим, сколько у вас есть денег, сколько было и будет; чутьем слышит, какой именно монетой; с первого взгляда смекает, чем можно служить вам, чем угодить и надуть; с первого запроса узнает, на сколько можно вас оплести. Он уступает вам вещь в пол цены собственной и тем вынуждает товарища вашего заплатить за другую вдвое. Как он это делает? Подите и посмотрите, я говорю, что помощью магнетизма. Но зато, чего и с ним не бывает! То ермолку закинут на печь и ценой выкупа назначат: написать карандашом крест на лбу. Жид хоть и плачет, да соглашается; стирает рукавом крест и отправляется, получив ермолку, домой. На утро он готов зарезаться: крест был записан ляписом и выступает на лбу еврея багровым, синим и наконец черным цветом… То заставляют двоих жидков, затылок с затылком, померяться, да свяжут пейсами мертвым узлом; то скатают смолой или воском две бороды вместе; то, припечатав их к краю стола, заставляют бедных жидков глядеть, в упор носа, друг на друга, поссориться и подраться, то сторгуются, за два злотых, положить печать на бороду, да невзначай накапают сургуча на нос; то кинут, на подхват, раскаленный пятак, да обожгут бедному жидку лапы…
Шинкарка с воплем объявила, что цыган, лишь только начался гвалт, утик до леху, то есть: ушел в подвал и припер за собой чугунные двери. Поставили сторожей и часовых у входа, у отдушников, окружили двор и дом и весь шинок, расположились лагерем на улице и ожидали рассвета. Между тем составили из любителей военный совет, каким бы образом захватить цыгана в подвале.
Зенвель Шварц, часовой мастер и механик, которому цыган уже однажды, помнится, дался знать, повернув ему голову лицом назад, полагал необходимым прокопать сверху особый вход в подвал и вытащить цыгана, как барсука из норы, клещами. Лейба Гринберх, портной, советовал употребить, вместо клещей, инструмент, наподобие больших портняжных ножниц, дабы, в случае крайности, можно было отстригнуть тотчас цыгану голову. Скорняк Берка хотел изготовить на него кожаный чехол, наподобие надеваемой на сумасшедших рубахи; разбитый на задние ноги Гершка со слезами умолял соотичей своих отступиться от греха и предать дело воле Божией, наконец, зажиточный торгаш, откупщик, подрядчик и поставщик, Шмуль Рафалович, предложил самое простое и верное средство: заморить цыгана в подвале голодом. Но против сей благоразумной меры велегласно и упорно восстали все, имевшие съестные припасы, водку и вина в подвале шинкаря, равно как и сам пан господарж, хозяин, предприимчивый и расчетливый Барух. Этот Барух, знаменитый в летописях Шкловского виноделия изобретением фир и финф Мадеры, названной художественным изобретателем ее так по примеру известной дрей-Мадеры, этот Барух, говорю, храбрый воин и искусный дипломат, вступил в цыганом, через трубообразный отдушник подвала, в переговоры. Цыган ни на что не соглашался и объявил, что если не дадут ему сейчас воли и сверх того сто злотов выкупу, то он немедленно выбьет ногой из каждой винной и спиртовой бочки по одному дну и выпустит таким образом драгоценный напиток. Никакое красноречие Баруха и компании не могло склонить собратий шкловских к крайней мере этой: все единогласно предпочитали общественную пользу частным корыстным видам Баруха, и доблестный муж сей решился, в отчаянии своем, заключив оборонительный и наступательный союз с нашим приятелем, Ицькой Гобелем, решился взять приступом осаждаемое укрепление, решился изгнать из крепости гарнизон. Весь кагал шкловский, несколько сот жидов, столпились перед подвалом; жидовки и жиденята сущим ярмарком окружали их; говор, крик, шум, гам и гармидар заглушали самую мысль, не только речь. Стали общими силами выламывать дверь подвала. Ицька и Барух запаслись пуками соломы, которую хотели разложить и зажечь в подвале, чтобы выкурить нечестивого цыгана. Неугомонная куча волновалась, засучив рукава, наставляла костлявые руки, чтобы вцепиться в ожидаемого гайдамака; дальнейшие всеми силами теснились и старались приблизиться, и ближайшие к дверям подвала, образовавшие сначала полукруг, сколько ни упирались голыми пятками, сколько ни толкались локтями, сколько ни горячились, ни кричали «шварц юр!» – были наконец, общим напором, сбиты с позиции и до того прижаты к дверям подвала, что, когда они наконец с грохотом раздались, то несколько десятков жидков полетели через голову кубарем считать ступени. В это-то критическое мгновение выскакивает из подвала, с неистовым ревом, голый, как мать на свет родила, цыган. Будучи окружен и осаждаем многочисленным неприятелем, употребил он небольшую военную хитрость: он разделся до нага, бросил рубище свое, нашел в подвале кусок сала и вымазался им с ног до головы: сотни рук хватались за него со всех сторон, он вывертывался, нырял под них и прыгал через них, отпускал заушины вправо и влево: все руки скользили по гладкому насаленному телу его; он как вьюн увивался и благополучно достиг чистого поля.
Когда Ицька, с разбитой головой, поматывая пейсами и потирая затылок, приплелся восвояси, то батрак Иван сказал ему: «Ну, брат Ицька, пару коней своих, чалую да рыжую, купил ты и заплатил за них деньги, за каждую по два раза; что-то будет, даст Бог, доживем, с третьей; а эти две твои бесспорные!»
Похождение одиннадцатое
Я еще безделицы не договорил: не досказал еще всей беды, которую цыган причинил жителям Шклова, выскочив зверем диким из подвала. Вы знаете, что у нас, в любом городе, стоит только кому-нибудь остановиться на улице и поглазеть пристально на одно место, хотя бы и вовсе нечему было дивиться, – так в ту же минуту пристанет другой, третий, пятый и десятый, и соберется народ в кучу, сам не зная, для чего. Итак, можете вообразить, сколько сбилось люду жидовского в Шклове перед винным подвалом Баруха фир-Мадеры, где совершалось событие, столь необычайное. Подвал Баруха стоит на углу большой улицы, на один переулок не доходя до базара. Все жидовки, которые отправлялись раным-ранешенько на базар с бубликами, с орехами, с пряниками, с кавунами, с калачами, с бисером, с нитками и тесемками, с сельдями, с молоком, с цибулей, с горохом, с маковниками, – все столпились около мужей и сродников и толкались с горшками своими, лотками, раскидными столиками, кувшинами и ручными тележками; другие гнали коров и телят на выгон, навстречу первым, и остановились против подвала с коровами и с телятами; тут же толкались менялы, жидки с мешками меди и серебра, жиденята с баранами, с индейками, с утками, с курами: все это сбилось, туго-натуго, вокруг подвала. Теперь вообразите себе этого цербера, цыгана, лютого барса, выскочившего из подвала и мечущегося неистово во все стороны! Сколько передавленных уток, жиденят и индеек! Сколько разбитых затылков, глечиков и кувшинов! Сколько гороху и намистья просыпано, сколько маковинок и орехов и жидовок затоптано! Лотки и телята, курицы и жидовки, мешки и менялы – все это летит друг на друга, друг через друга, все это кричит и визжит, все голосит в голос… При этом-то случае наш бедный Ицька воротился домой с подбитыми глазами, с разбитым затылком, с перекушенным пальцем, с выбитым зубом в кармане, – он поднял его и сохранил; а кроме всего этого, он едва собрал и примчал домой несколько лоскутов черного демикотону – это были бренные останки покойного халата или кафтана его. – Он, бедняга, был так изуродован потому, что попался на беду в два огня или, лучше сказать, в целый ряд огней: во-первых, полетел он, обще со снопами соломы и с Барухом фир-Мадерой, в подвал; а в подвале том были ступеньки белокаменные; во-вторых, ошалевший Барух выместил, тут же в подвале, всю неудачу свою на нем, на Ицьке; в-третьих, досталось ему вскользь и от цыгана; в-четвертых, попался он, вылезая из подвала, в рукопашную схватку, и здесь-то ему соорудили памятник, волдырь в два кулака со пригорками, благословив складным дубовым столиком по затылку. «Шварц юр! – приговаривал Ицька дома. – Чтоб на вас, на каждого по три лихоманки, по две сухотки на брата! Чтоб на вас стонадцать мешков проказы ветхого завета!»

Между тем смелые жидки стали понемногу заглядывать в подвал, и запальчивый Барух едва не поплатился жизнью за неустрашимость свою. Он едва не утонул в подвале в собственной фир-Мадере своей, которую изверг-цыган выпустил из бочки, равно как и все прочие драгоценные напитки шкловских хлебных и рейнских вин промышленника и фабриканта.
Еще не успели опамятоваться, ниже пособить горю, как обнаружилась беда, несравненно горшая: волной сложного напитка, которому и сам Барух затруднился бы дать приличное название, прибило к берегу, к ступеням каменным… – о ужас! – прибило и выкинуло кусок свиного сала!
Если бы хозяин подвала был не Барух, то его без всякого милосердия побили бы каменьями. Описать невозможно, какую тревогу наделал этот кусок сала, когда его вынесли, наткнув на длинную трость, из подвала. Следовательно, цыган вымазался свиным салом; а следовательно, все жидки, которые хватались за него и с него обрывались, опоганились свиным салом! Разысканиям не было бы конца, если бы не обнаружилось, что свиное сало попало в подвал через наймычку Барухову, Одарку, которая припасла этот лакомый кусок для своего возлюбленного Остапа, на днях ожидаемого обратно с чумакования.
Похождение двенадцатое
Ицька сидел дома, холился да отмалчивался, но взыграл душой и возрадовался сердцем, когда услышал, что жидки оскоромились намедни свиным салом. «По делом вам, – сказал он, – собачьим душам; за что вы ободрали меня, да убили до полусмерти? Чтоб вам лихо стало, чтоб на вас пеня московская; чтобы вам сорок раз подавиться одним куском свиного сала!»
Между тем, пришедший недавно в Шклов на квартиры из Киевской губернии гусарский полк выступал на ученье и проходил с трубачами мимо Ицькиного дома. «Седлай мне куцую! – закричал Ицька батраку Ивану. – Седлай, поеду, им назло, смотреть на ученье. Пусть увидят, что я жив и здоров. А чи стрелять будут?» – спросил он денщика, стоявшего у ворот. – «Как же, – отвечал тот, – будут, боевыми снарядами, по жидкам, коли шапок не снимут». – «А подивиться с далеку вольно?» – «Вольному воля, – отвечал тот, – а нашего брата заставляют нехотя». – «Седлай швидко, – продолжал жидок, – маме, подай пояс да шляпу!» Сам посмотрелся, вместо зеркала, в налощенный рукав черного халата своего, оправил ермолку, надел широкополую шляпу, взял длинную камышовую трость с наконечником, приподнял указательным перстом стоптанные задники башмаков, взвалился на куцую и пустился на плавном рысаке. Но плавание его длилось благополучно почти только до сборного места, за городом, где учился полк. Мы знаем довольно подробно родословную двух кляч Ицькиных, чалой и рыжей, купленных им вторично у приятеля нашего, цыгана, одной – на бердичевской ярмарке, после небольшой переделки, а другой – здесь, в Шклове, после перекраски. Но о куцей его доселе ничего не сказали, ожидая на это урочного часа: он теперь настал. Слушайте же: куцая это не родилась куцей, но красовалась, во время оно, хвостом, наравне с подругами своими. Она отслужила два срока под трубачами пришедшего ныне в Шклов гусарского полка, была выранжирована, назначена в продажу, отправлена на подножный корм и там украдена и перепродана, через десятые руки, нашему Ицьке. Где именно и у кого она бывала, не знаем; но хвост, обрубленный по самую репицу, равно и некоторые другие подправки, починки и переделки, заставляют нас подозревать, что она едва ли миновала рук нашего бородатого цыгана. Теперь, уже в течение нескольких месяцев, находилась она в ведении Ицьки.
Уже при самом начале ученья куцая наша стала под жидком необыкновенно ловко разыгрываться; она курбетировала, ржала и примыкала то в бок, то в сторону, то вправо, то влево. Ицька тпрукал, храбрился и красовался между многочисленной толпой зрителей, но едва мог справиться. Казалось, куцая понимала командные слова не хуже взводных и фланговых, вертела хвостом, ртачилась и рвалась в строй. Когда же наконец, после построения шести эскадронов фронтом, после команды: «Стой! Смирно! Выровняться!» – грянуло роковое: «Марш-марш!» – и полк понесся, во весь дух, в атаку, оглушая топотом отдаленных зрителей и подняв столб и тучу пыли на ближних, – тогда куцая не стала слушать ни тпру, ни ну, ни ляшек, ни поводьев, а закусила удила и помчала Ицьку стрелой, к красноперым музыкантам; она втерлась между 2-м и 3-м трубачами и заняла, насильственным образом, старинное место свое: третье с фланга. Ицька потерял путем-дорогой равновесие, потерял башмаки, шляпу; полы лакового халата его извивались черным знаменем на воздухе; он в ужасе уперся ногами сильно в стремена, замотал обе руки в поводья и длинную камышовую трость свою прижал, со страху, накрепко под правой мышкой. В этой-то грозной позиции налетел он, с тылу, на трубачей; ударил третьего человека задней шеренги концом трости своей в спину, под лопатку, да так, что тот, ни думав, ни гадав нападения с тылу, полетел с коня, как овсяный стоп. Ицька, когда куцая с натиску влетела в тесно сомкнутые ряды трубачей, стерла его и ссадила через забедры, – очнулся и перевел дух, опять сидя, и даже верхом, да только не на куцей: он, слетевши через голову назад, сел верхом на слетевшего перед тем через голову вперед и настигнутого им трубача, на того самого, которого ссадил с коня богатырским ударом копия.
Когда трубач стряхнул жидка с плеч, окрестился, опамятовался, спросил, собравшись с духом: отколе его леший принес? – одним словом, когда дело объяснилось, тогда мне без божбы, надеюсь, в долг поверят, что бедному Ицьке все это не обошлось даром. Но это бы все еще не беда: я сказал уже, что Ицька за толчком не погонится, что ему, напротив, случалось неоднократно вынудить, из вспыльчивого противника своего, несколько заушин и подзатыльников, подзадоривая и притравливая его сам на себя: «А ну, ну, ударь; а ну, не смеешь; а ну, ну! А ну еще!» – Итак, это бы не беда, что трубач помял его да повертел в лапах, а сбылось над ним еще и следующее, весьма неприятное для Ицьки приключение: выранжированного и украденного музыкантского коня в полку немедленного признали, добрались по нем и до нынешнего хозяина, отняли у него куцего конька, посадили в полицию, и освобождение стоило ему ровно остальных двух не куцых коней: чалого да рыжего. Когда же измученный и застращанный судом и расправой Ицька тащился, украдкой, домой и увидел мимоходом на полковом дворе жителей Шклова в сборе, и когда они сказали ему, что собрались, по вызову полковника, для покупки с молотка выранжированных коней; когда батрак Иван прибавил, что в числе сих коней поступит в продажу и наша куцая, и что поэтому Ицьке предстоит случай купить и эту, третью лошадь свою, по другому разу, – тогда разорившийся в пух Ицька наш горько заплакал, надвинул шляпу на глаза и пошел, не останавливаясь, скорыми шагами домой, зарекаясь в душе своей: не обзаводиться более экипажем!
Похождение тринадцатое
Событие, лишившее Ицьку вороватого всех трех коней его и соделавшее его пешим, ознаменовывает эпоху, от коей начинается новый период жизни нашего героя: современный сему несчастью неудачный оборотец запрещенным товаром решил судьбу его; он сделался торгашом несостоятельным, лишился всего имущества и был принужден идти служить, есть чужой хлеб, зарабатывать каждый кусок из чужих рук. У нас это делается очень просто: нанимаются, за известную плату, поденно, помесячно, служат или работают. У жидов не то и не так. Ицька вороватый, на беду которого гусары пришли в Шклов, из этой же беды извлек и возможную, при нынешних обстоятельствах, пользу: он пустился в факторы. Что такое жид-фактор? Это трудно объяснить; услужливое, навязчивое, нахальное и трусливое неотступное творение, которое бегает, сломя голову, весь Божий день по городу, по местечку, и добывает – для вас форменной пуговки, для меня сухой ваксы, для иного золотообрезной бумаги, для другого какой-нибудь прихотливой материи на халат, для третьего гитару, для четвертого помады для усов и для других причин, – словом, это посредник для всего, что только терпит посредничество. Ясно, что проезжие и офицеры наиболее нуждаются в этих чичероне, проводниках, комиссионерах и прислужниках; а потому они в особенности толпятся в трактирах и заезжих домах. Вам, проезжему, стоит здесь только заикнуться и спросить какую-нибудь вещицу, чтобы накликать на себя и занимаемый вами номер целое море, целое наводнение жидков-факторов. Если же вы неумолимы, если сердце у вас каменное, и вы отнюдь не хотите ничего ни заказать, ни купить, ни приказать; если перстеньки и сережки, запонки и застежки, камни и печатки, трубки, чубуки, гребни и перчатки не могут вас тронуть и прельстить – тогда отчаянные факторы обыкновенно решаются на крайнее средство: они надоедают вам неотвязчивостью и нахальным бесстыдством своим до того, что выведут из терпения и непременно заставят выкинуть одного из них в дверь или в окно, а потом они вынудят за это что-нибудь на водку. С этими-то факторами в особенности деются все чудеса, которые я, к сожалению моему, уже описал в 10-й главе этой сказки; им бы здесь поприличнее нашлось место, потому что Ицька испытал все это на себе: и бороду ему припечатывали к столу, и опаивали рвотным, и дарили раскаленные пятаки, и посылали целые сутки от офицера к офицеру за небывалой книжкой: гони зайца вперед, – все, все это, и поболее того, испытал, говорю, Ицька, когда весельчаки-гусары собирались за трубками да за бутылками, – а у них и в заводе не было пить стаканами, – собирались побеседовать да погулять и посылали вечерком за факторами…
Так, например, пришел он однажды, не знаю, званый или незваный, рано утром, к грозе жидов, богатырю полка, поручику, такому-то. «От тебя, – зарыкал поручик, – бестия, немытая борода, нечестивая утроба, от тебя опять несет чесноком!» Ицька струсил так, что, побледнев более камчатной скатерти, стоял и похлопывал глазами… «От тебя, что ли, говори, помойная яма?» – «Нет, ваше благородие, ей богу, нет, не от меня». – «От кого же, бестия, от меня, что ли? Нас здесь только двое; говори, от кого?» – «От собаки», – отвечал жидок, ни жив, ни мертв… «Как от собаки? От какой? Где она?» – «Она сейчас придет», – сказал жид уверительно, успокаивая разъяренного мужа брани.
Однажды дал он офицеру взаймы два червонца, под расписку. Расписка эта его мучила, не давала ему покою, горела в кармане; он надоел должнику, намеками и загадками, еще до истечения срока. Наконец, срок кончился. Ицька является, офицер говорит напрямки и наотрез, что он сегодня заплатить не может ни шелега, но обещает через несколько дней расплатиться с избытком. Ицька не сказал бы и полслова, если бы у него не было расписки… но она его подстрекает и жжет в кармане и колет иглами… Он до того взбесил должника-гусара, что вывел его вовсе из терпения: тот запер дверь на замок, приставил жиду пистолет ко лбу и заставил разорвать, разжевать и съесть расписку свою, до последнего лоскутка, дал запить рюмкой водки и отпустил домой. Проходит неделя – гусар призывает Ицьку вороватого и расплачивается с ним щедро и великодушно. Ицька вне себя от умиления и благодарности, он предлагает услуги свои, наличные деньги и самого себя во всегдашнее милостивое распоряжение. Проходит еще неделя, и тому же гусару действительно понадобились деньжонки; за кем не водилось греха, что иногда скоренько, окаянные, уходили! «Ицька, дай денег!» Ицька принес все, что у него было. Офицер взял их, сосчитал, сел и взял и перо, и бумагу. Ицька остановил его подобострастным телодвижением и скромным вопросом: «Что он это хочет делать?» – «Написать расписку». – «Расписку? На что же? Боже мой! Hex мне пан Буг броне! Як пана кохам! Ваше благородие, избавьте от этого: на что? Я пану верю и так!» Но когда неумолимый должник настаивал решительно, чтобы Ицька, на всякий случай, принял расписку, то вороватый жидок наш достал из-за пазухи белый четырехугольный пряник, товар, которым, как мы уже видели, торговала Хайка его, и просил убедительно написать по крайней мере расписку на этом прянике…
Однажды послали его с запиской: «Поди, Ицька: на базаре, против колодца, в доме Шмуля Рафаловича, живет приезжая из Брод молодая вдова Карлсон; отдай ей, в собственные руки, эту записку». Ицька бегал, бегал, воротился, высунувши язык: «Нету, – говорит, – не нашел». Его прогнали взашей и велели найти непременно. Проходит час, другой, наконец, Ицька наш является: «Отдано». «Да только не мудрено, – говорит, – что я долго искал; вы мне не так сказали…» – «Как не так?» – «Да она живет на базаре, не против колодца, а за углом Барухова погреба; не у Шмуля Рафаловича, а у Шлемки Берковича; приехала не из Брод, а из Лемберга; зовут ее не Карлсон, а Михельсон, да при том, признаться, это не вдова, а это, сударь, оптик, механичный мастер…» – «Ай да Ицька! Вот рассыльный!» – Взбешенный ротмистр вскочил и закричал: «Пятьдесят нагаек велю тебе влепить, бестолковый негодяй!» – «Сулили мне не раз и больше, – отвечал Ицька, ретируясь к дверям, – да разве я дурак буду, не возьму…» И этой шуткой, говорят, он на этот раз отыгрался. Вообще, у него за ответами и отговорками дело не ставало; он уверял, что черт убил родную бабку свою за то, что у нее не стало отговорки. Например, он приносил офицерам на заказ вещицы на продажу, во все дни недели: и в субботу, и в шабаш, что строго запрещено законом еврейским. Если его спрашивали: как он может браться в этот праздничный день за работу, вопреки закону своему? – то он отвечал: «Для меня это, пане, не работа, а повеселье!» Однажды спросили его: как жиды-ростовщики будут на том свете Моисею ответ держать, отбирая гораздо более указанных процентов, так, например, самые умеренные берут восемь? «За восемь не знаю, – сказал Ицька, – а за девять отвечать можно». – «Отчего?» – «Глядя сверху, наоборот, не мудрено подумать, что это шесть».
Однажды Ицька прибежал к офицерам запыхавшись и рассказывал о неслыханном несчастье. Одного жидка загнали; он надорвался, затянулся и умер. Это, по его рассказу, случалось следующим образом: офицер ехал проселком, не достало лошадей, и он заложил в пристяжку шинкаря Янкеля. Ну, хорошо, это ничего; Янкель везет; но этого офицеру мало, он его погоняет; ну, хорошо, и это ничего; офицер погоняет, да еще и кричит: «Завивайся, завивайся!» Ну, хорошо, а Янкель, – продолжал добросовестный рассказчик, – Янкель был горяч, он начал завиваться на пристяжи, затянулся, надорвался и умер.









































