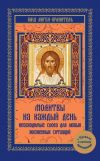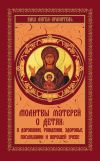Автор книги: Вячеслав Рубский
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Осознание своей материальности как дара общения
При правильном видении духовности мы осознаем свою материальность исключительно как коммуникативный дар Бога, а жизнь – как шанс соединиться с Богом и человеком. Наша материальность есть пространство встречи, которой дорожит и пользуется ею в Воплощении Сам Бог.
Пока находимся в теле, мы можем выстраивать общение с другими людьми, покойники же не могут с нами взаимодействовать (поэтому, как поется, «люби его, пока он живой!»). Вся сфера телесного – пространство коммуникации, ради этого она и существует.
Понимая нашу телесность таким образом, мы не можем культивировать ни тело, ни дух по отдельности.
Принятие всего с точки зрения Бога как брата
Бог позволяет миру быть именно таким, какой он есть. Похоже, у Него не такая оценочная шкала, как у нас. Мы не можем следовать за Богом Вседержителем, потому что мы не вседержители и не боги, но во Христе Бог нам явлен не как Вседержитель, а как наш брат. Вот почему мы можем за ним следовать и так же смотреть на мир.
Наверняка Ему тоже многое не нравится, но посвящать Свою земную жизнь искоренению того, что Ему не нравится, Он не стал. Он стал искать друзей, учеников и учить их любить других. Он ходил по улицам и говорил, что надо равно принимать самарянку, блудницу, мытаря и грешника. Он пытался нивелировать все мнимые преимущества и мнимые недостатки, представляя их одинаковыми. Суть Его проповеди в том, чтобы использовать все свои дары для общения. И если мы будем смотреть на мир так, то мы будем христианами.
Послесловие и о психологии
Благодарю всех, кто дочитал до этой страницы.
Продолжение следует. Наилучшим продолжением была бы дружеская дискуссия на затронутые темы. К сожалению, одним из главных недостатков современной церковности является почти полное отсутствие диалога. Было бы опрометчиво обвинять поколение современных православных христиан и священников в том, что они неспособны на диалог. Традиция РПЦ не знала и не знает бесед и дискуссий на равных о вопросах аскетики и вероучения.
Несколько штрихов из истории. В 1490 году новгородский архиепископ Геннадий (причисленный Церковью к лику святых в 2016-м) велел сжечь на головах нескольких осужденных еретиков берестяные шлемы. Двое наказанных сошли с ума и умерли. Немало еретиков было сожжено по рекомендации его святого современника Иосифа Волоцкого (Просветитель. Слово тринадцатое).
Дьяк Котошихин (XVII век) в книге «О России в царствование Алексея Михайловича» приводит пространные свидетельства о смертных казнях и истязаниях «за богохулство… за книжное преложение, кто учнет вновь толковать воровски против Апостолов и Пророков и Святых Отцов» (гл. 7, 9).
Можно также вспомнить известные «Двенадцать статей» царевны Софьи» (1685) о раскольниках, с приказами сжигать их нещадно. Статьи приняты по настоятельному требованию Патриарха Иоакима и, скорее всего, написаны им.
Дискуссия о том, надо ли становиться на колени при возгласе на литургии: «Приимите, ядите…», открывшаяся книгой монаха Сильвестра Медведева, закончилась определением Московского собора 1689 года: «Да приидут на него все проклятия, которыми Моисей проклинал иудеев, неслушавшихся заповедей Господних. Да будет ему Каиново трясение, Гиезиево прокажение, Иудино удавление, Симона волхва погибель, Анания и Сапфиры внезапное издохновение, Ариево тресновение. И да будет отлучен и анафематствован ныне и по смерти непрощен; и тело его да не разсыплется, в знамение вечнаго от Бога отлучения, и земля его да не приимет, яко приемлет православных христиан, и да мучен будет в геенне день и нощь во веки веков… от Царей благочестивых, гражданский суд да подъимут таковии; наш же духовный суд и казнь да последуют им в будущую жизнь». 11 февраля 1691 года монаху Сильвестру Медведеву отрубили голову. Возможно, он был неправ.
Советское время тоже не располагало к полноценному обсуждению вопросов аскетики и богословия. И наконец в наши дни генетическая память и страх быть осужденным в ереси или отклонении от генеральной линии православия продолжает парализовывать мышление – в итоге зачастую остаются одни благочестивые эмоции, заменяющие качественную рефлексию. Выросло и увенчалось сединой очередное поколение пастырей, с которыми никто никогда не спорил всерьез, никто не возражал компетентно и по существу. Как и раньше, священники чаще всего слышат: «Простите, батюшка, благословите, батюшка!» – потому и их собственная реакция на церковные проблемы, на необходимость тщательного пересмотра православных аскетических принципов стремится уместиться в одну благочестивую эмоцию. Но системные проблемы не решаются одним актом или порывом. Здесь нужна многоэтапная перезагрузка святоотеческих принципов с целью их качественной актуализации. Простое повторение древних цитат и верность средневековым формулировкам работает все меньше – и чаще всего, против самих себя.
Проблема соотношения православной аскетики и современного типа мышления состоит в том, что наследники многовековой традиции перестали ее полноценно считывать. Живя в многолюдных городах со значительно изменившейся культурой мысли и градацией ценностей, мы так или иначе норовим взять лишь некоторую часть святоотеческого наследия, отставляя прочее как неважное. Но это невозможно, ведь монашеские аскетические установки и правила разрабатывались именно как цельные системы жизни – нельзя отбросить, например, отречение от мира, но оставить схиму и мантию.
В этой ситуации православным, для того чтобы воспринять традицию, приходится устраивать параллельный мир облачений, жестов, фразеологизмов, зодчества и т. п. В этом аппендиксе сознания, как в отдельном смысловом континууме, и помещаются святые отцы, житийные аскеты-безмолвники с их учениками и окружением. Комплекс альтернативных параметров организует в нашем сознании параллельную реальность, в которой можно встретиться с крылатым змием и победить его (жития Петра и Февронии, вмч. Георгия Победоносца и др.), слетать на бесе в Иерусалим (житие архиепископа Иоанна Новгородского). Исцеления и чудеса здесь являются обычным делом не только для праведников, но и для грешников (житие св. Киприана и Иустинии и др.), святых посещает Богородица или Сам Господь (преп. Сергий Радонежский, преп. Серафим Саровский, свт. Тихон Задонский) и т. д. и т. п. Размещение православного предания в отдельном смысловом континууме есть признак некачественного (искусственного) приятия. Порождение параллельной реальности, на мой взгляд, является неправильным расположением религиозных идей в нашем сознании – в смысле опасной близости к Деду Морозу и Зубной фее.
Качественное прочтение и восприятие святоотеческой аскетики требует укорененности в неоплатонической или стоической этике, для которых главными идеалами являются чистота от всего телесного и бесстрастие. Современному почитателю древних текстов обычно недостает двух этих важнейших предпосылок, и он считывает только банальнейшие банальности о любви, невинности и незлобии. Сегодня это представляет святоотеческую литературу как бы детской. Но она отнюдь не являлась таковой в истории христианства.
Так или иначе, уходя от строгой структуры неоплатонического аскетизма, наш современник попадает в языковое пространство психологии. Она не может ни заменить, ни исправить православную монашескую традицию. И вопрос о ее статусе в православии и соотношении со святоотеческой антропологией встает во весь рост.
Вопрос этот не будет решен до тех пор, пока мы не определимся, чем для нас является классическая аскеза отцов-пустынников. Делая вид, что мы принимаем ее полностью (а это далеко не так), мы наделяем понятия «монашество» и «аскетика» амбивалентностью в их соотношении с психологией. Отношение к обеим позициям в последние десятилетия решительно меняется, и современные христиане, как правило, выдвигают сразу два сложных заявления:
1) «мы полностью принимаем святоотеческое учение о человеке, бесах, страстях и мстящем Боге»;
2) «оно заключается в любви, мире и понимании Другого, то есть гуманистических ценностях».
При ближайшем рассмотрении два тезиса противоречат друг другу. Первое положение бинарно, в нем четко определены добро и зло (благодать, грех, сатана, девство и т. п.). В этой простоте кроется проблема приятия древности и православной традиции как ее качественной репрезентации. Для многих оказывается критичной неприспособленность древних наставлений к современным понятиям жизни (отношение к телесности, нормативности, духовности, пище, общению и т. п.).
Немаловажна также проблема языка описания. Ни психология, ни богословие не могут ограничить сферу компетенции своего языка. Язык описания проецирует свою терминологию и смысловую оценку каждого феномена мира: от куска ткани до Откровения свыше. Например, язык З. Фрейда в описании феноменов связал религиозный опыт с обожанием отца в контексте детской беспомощности. Отцы бихевиоризма связывали религиозный опыт с компульсивной потребностью, психофизиологи – с когнитивными аберрациями и т. д. Даже сторонник психоанализа Л. С. Выготский отмечал, что «психоанализ вышел за пределы психологии: сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей, психоанализ – в мировоззрение, психология – в метапсихологию». От того, какой язык описания мы применим к бесноватым, зависят не только методы их исцеления, но и существование самих бесов.
Если мы поставим вопрос так: «Существует ли невроз у диких племен Папуа-Новой Гвинеи?» – то правильным ответом было бы указание, что наш язык описания нуждается в этой категории (невроз), и потому мы скажем «да». А сами гвинейцы могут не фиксировать никаких неврозов или объяснять эти состояния действием духов леса, предков, заклятий, влиянием камней и т. п. Наше понятие «невроза» (кстати, устаревшее по Международной классификации болезней) им покажется столь же надуманным, как нам их духи и боги. Не существует фактов и феноменов самих по себе, они существуют в языке и оцениваются им. Отсюда понятна важнейшая идея К. Роджерса и Дж. Бьюдженталя: поведение человека можно понимать только в терминах его субъективного восприятия действительности.
Приведем образное сравнение – сравним языки описания (они же языки восприятия) феноменов с фонариками разного цвета. Находясь в темной комнате и светя на стены разными фонариками, мы говорим: «стена красная / синяя / желтая», вполне сознавая, что о цвете самой стены (без языкового фонаря) мы судить не можем, в наших глазах он зависит от фонарика. Научившись переключать понятийные словари и дискурсы в описании (и восприятии) различных феноменов, мы сможем понять «конфликт» богословия и психологии как языковую разность. Она имеет огромное значение, но не в том смысле, о котором спорят представители наивного реализма того и другого лагеря.
Наиболее продуктивным соотношением христианства и психологии было бы взаимоузнавание – так как взаимодополнение невозможно в силу различных антропологических парадигм. При взаимоузнавании
христианство обнаруживает в психологии духовные темы (которые стремится осмыслить гуманистическая, экзистенциальная и трансперсональная психология).
В то же время чистой аскетики, то есть не связанной с психологией, просто нет и быть не может. Потому святые отцы занимались психологией не в меньшей степени, чем богопознанием, хотя бы ради последнего.
Вот, например, совет преподобного Варсонофия Великого авве Сериду: «Если видишь, что кто-то упал в яму и просит о помощи, не протягивай ему руку – протяни ему посох. Если он захочет выбраться, ты поможешь ему; если же он, наоборот, будет тащить тебя к себе, просто отпусти посох. А если ты подашь ему руку, он с легкостью стянет в яму и тебя». Известны наставления подвижников, предупреждавшие, что за благочестивым помыслом выйти из кельи может скрываться бегство от самосознания, поиск развлечений. Вообще, всякое наставление, относящееся к работе с помыслами, взаимодействию страстей, путям их предупреждения и т. п., является психологическим. В этом нет ничего плохого, лишнего или противоположного духовной жизни.
Иногда советы святых и вовсе являются житейской мудростью. Например, святитель Василий Великий в беседе на окончание 14-го псалма говорит: «Детскому разуму свойственно не покрывать своих нужд тем, что имеешь, но, вверившись неизвестным надеждам, отваживаться на явный и непререкаемый вред. Рассуди наперед: из чего станешь платить? Из тех ли денег, которые берешь?.. Никакого нет стыда быть бедным; для чего же навлекаем на себя позор, входя в долги? Никто не лечит раны раною, не врачует зла злом; и бедности не поправишь платою роста. Ты богат? Не занимай. Ты беден? Также не занимай».
Не только святые отцы, но и Сам Христос считает полезным вскрыть психологическую самодостаточность некоторых «духовных» актов: молящиеся на распутьях уже получают мзду свою (Мф. 6: 2); если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? (Мф. 5: 46).
То есть Господь обозначает психологическую природу многих актов, которые считались религиозными. Это очень важная работа психолога ради раскрытия подлинно религиозного в человеке.
Обратим внимание на двойные (взаимоисключающие) послания в традиционных аскетических установках. При монолитном языке мировосприятия такого раздвоения бы не было; но мы живем сразу в нескольких контекстах, и поворот вспять возможен только в очень искусственных условиях.
Приведу несколько примеров языковой двоичности.
1. В бессознательном запросе на боль ряд психологов видят погоню за дофамином на путях преодоления боли. Экзистенциалисты видят ценность в самом переживании боли и указывают на развитые индустрии предоставления боли в кино, музыке, литературе, искусстве. Слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «Укоряйте себя, укоряйте свое немощное произволение… В обвинении себя найдете утешение» – обретают свою правоту и в то же время считываются иначе, чем в XIX веке.
2. Пастырство и зависимость. «Пастырь» сегодня воспринимается как неудачный образ – в нем нет активной роли «паствы». Учитель должен научить тому, что знает, а не делать ученика зависимым от себя. Если учитель неспособен сделать ученика другом, его учительство патологично: он нуждается в том, чтобы быть учителем (созависимость), больше, чем в том, чтобы чему-то научить.
В православии есть двойное послание о пастырях: с одной стороны, оказывай старцу идеальное доверие и послушание, с другой – будь начеку, отвергай заблуждающегося старца. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Послушание, связывая и убивая волю, связывает и убивает совокупно все страсти» (Письмо 282); «Если же руководитель начнет искать послушание себе, а не Богу, – не достоин он быть руководителем ближнего! Он не слуга Божий! Слуга диавола, его орудие, есть сеть! Не будите раби человеком (1 Кор. 7: 23), – завещавает Апостол» (Письмо 159).
Святые отцы крайне романтизировали образ наставника, чем вывели его в область параллельной реальности. Преподобный Иоанн Лествичник: «Духовный врач должен совершенно совлечься и самых страстей» (Слово к пастырю 4,1). Отсюда и типичные жалобы святых на оскудение преподобных в их время; например, преподобный Григорий Синаит в XIV веке писал, что по причине необыкновенного развития пороков в его время вовсе нет благодатных мужей (Добротолюбие. 118, § 1).
3. Младостарчество – еще один пример двойного послания, где старчество выступает как несоблюденное условие мудрости. В 1990-х ввели этот нелепый термин, и он обрек постаревших искателей святоотечества на законное признание себя старцами. Сравните с радикализмом Христа, Который ни учителями, ни отцами называться и становиться не велел, а уважаемых в народе старцев противопоставлял истине.
В связи с казусом уральского схиигумена Сергия Романова в очередной раз проявилась внутренняя противоречивость мечты о «старце» и послушании ему. Вот вам седой старец, схимник, каноничен и непорочен в духовно-аскетической жизни и т. п. – слушайтесь! ☺ Но нет, противление системе оказалось для «старца» куда более значимым фактором, чем вся его духовность предыдущих лет.
4. Проблема пастырского выгорания, о которой заговорили начиная с 2010 года, породила массу бесплодных дискуссий. Здесь также произошла терминологическая путаница – как следствие парадигмального смещения. В 2017 году на епархиальном собрании московского духовенства Патриарх Кирилл сказал, что пастырского выгорания нет, а есть усталость, происходящая от «безверия, ошибочного восприятия своего служения, самонадеянности, близорукой очарованности своими дарованиями, стремлением к власти, общественной деятельности, популярности и стяжанию материальных благ». Аппарат такой интерпретации выгорания укоренен в православной аскетической традиции, которая действительно не знает данного понятия. Что возвращает нас к языковой проблеме и вопросу: бывают ли неврозы у гвинейцев? Бывает ли выгорание у хороших священников?
Интерпретационный аппарат психологии выявляет другие причины выгорания. И мы не можем определить, что происходит на самом деле, потому что без понятийного языка невозможно описание «самого дела».
Сегодня основой пастырского выгорания называют отсутствие жизненного пространства для «Я». Выгорание проходит по трем основным причинам:
атрофия восприятия повторяющихся несвободных слов и действий (кадило, кропило, «паки и паки», кадило, кропило);
стремление к переменам и болезненная фрустрация на этом пути;
усталость от специфической социальной роли. Изначально молодые священнослужители не только не ожидают этого, но и не играют вовсе. Потом им приходится терпеть все больше тягот и условностей «ради малых сих». Эта неожиданная нагрузка через «умножение жизней» – значительный фактор пресловутого выгорания.
5. Прощение грехов в современном контексте также считывается как двойное послание:
«Прощение есть свобода от страстей, а кто от них не освободился благодатью, тот не получил еще прощения» (преп. Фалассий);
«Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом» (преп. Иоанн Лествичник). «Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнавать, действительно ли грехи его прощены от Бога, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно согрешить перед Господом» (свт. Василий Великий). «Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои» (преп. Силуан Афонский).
Прощенность сигнализируется тем же сугубым напряжением, которым мотивируется испрашивание прощения. Круг замыкается: после прощения грехов христианин чувствует ненависть и отвращение, которые возвращают ему тревожность, то есть основание просьбы о прощении. Таковы языковые аберрации разных эпох христианства.
В психологии отсутствует понятие «грех». Но это не значит, что психолог проповедует вседозволенность. Что бы психолог посоветовал Раскольникову? Посоветовал бы не убивать, не совершать греха. Редукция человека до позволено / не позволено – слишком простое решение с точки зрения психологии, в то время как
религиозные директивы нередко обходятся только этими параметрами (можно/нельзя).
Главной задачей пастыря и психотерапевта является содействие максимальной реализации дарованной человеку Богом свободы воли. Когда мы учитываем больше компонентов нашего мышления и эмоциональных реакций, нам становятся доступны дополнительные пути их разностороннего анализа. Тогда увеличивается объем и качество ответственности человеческой личности, в том числе перед Богом.
Резюме: мы должны ощутить свободу от психологии и аскетики как монолитных идолов нашего благополучия и духовности. Стать перед потенциалом нашей не-развившейся веры и раскрыть ее, выводя из внутренних круговых психопроцессов. Таков путь православного, который не желает скрывать и прятаться: скрывать от себя психопроцессы или прятаться за ними от Бога.
Об авторе

Протоиерей Вячеслав Рубский (род. 1974) – настоятель храма во имя св. мч. царицы Александры при Одесском морском университете, философ и практикующий психолог, преподаватель. Выпускник Киевской духовной академии; в 2018 г. закончил философский факультет Одесского национального университета. В 2019 г. защитил докторскую диссертацию по двум специальностям – «богословие» и «религиоведение».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.