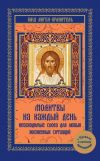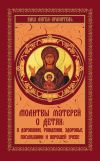Автор книги: Вячеслав Рубский
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Любовь и функции
Два взгляда на траву, Бога и человека
Когда Бог проповедует Царство, Он делится Своим взглядом на мир. Он смотрит на нас с такой точки зрения, откуда мы выглядим как трава, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь (Мф. 6: 30). Но для Бога бесполезность травы и человека выглядит ценно и красиво: и Соломон во всей славе своей не одевался так (Мф. 6: 29). Это Божий взгляд на нас. В этом и состоит духовная жизнь, чтобы видеть друг друга именно так, как видит нас Бог. Но человечество, в силу эволюционной необходимости ко всему приспосабливаться, воспринимает все иначе, чем Бог. Мы смотрим на мир функционально: чем мне может пригодиться этот камень, тростник, человек, Бог? Если и Бог смотрит на нас таким же образом, то мы, должно быть, Его очень разочаровываем.
Для функционального Бога человек всегда будет непригодным, а для Бога истинного он всегда – драгоценность. В Его глазах мы таковы, что на нас прямо сейчас приятно смотреть, как на траву полевую. Мы с Богом так по-разному смотрим друг на друга, что нам надо быть очень осторожными: вот стали бы мы есть полевую траву, а она показалась бы нам горькой и невкусной; или подбрасывали бы в костер, а она бы не так горела, – в общем, когда мы начинаем чем-то пользоваться, применять в своих целях, оно может нам не подойти, одна-две позиции нам сгодятся, а остальное – лишнее. И это вызывает негативные эмоции. Как только мы начинаем использовать людей, они перестают быть полевой травой, которой восхищается Иисус. Они перестают быть созданиями Божьими в самих себе – красивыми Божьими поделками.
Функциональный взгляд таков, что мы и Бога думаем использовать, и о Боге думаем, что Он нами пользуется. Мы якобы можем быть Ему чем-то полезны, и Он на нас смотрит требовательно, чтобы нас как-нибудь использовать. Мы же, в свою очередь, готовы ему послужить.
Это направление мысли неминуемо ведет к отвержению большей части человечества и большей части в человеке. Если Бог действительно хочет нас использовать, то Он должен быть нами недоволен. А если Он нами недоволен, значит, мы должны каяться, и так до бесконечности. Этим мы обрекаем себя на крайне негативную палитру ощущений и переживаний, которая уже никогда не переменится, потому что на одно сделанное нами дело будет сто несделанных и двести недоделанных. Функциональное восприятие – путь страдания Бога и человека.
Человек не для чего-либо и Бог не для чего-либо. Христос говорит: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3: 20). Но в функциональном мировосприятии нам от Бога вместо вечери достается только зловещий стук. Мы не радуемся, что Он нам открывает глаза на красоту эфемерного, а только слышим стук, который нас тревожит. В этом мире мы всегда не готовы, не одеты, у нас не расчищены авгиевы конюшни и т. д. И христианин вроде понимает, что это любимый Бог стучит и хочет с ним вечерять, – но, мысля функционально, он уверен, что для Бога плох. И это превращает радость ожидания в тревогу.
А между тем надо открыть дверь и начать вечерю со слов: «Вот, Господи, каков я есть! Ты про это говорил: посмотрите, как красиво? Ну так давай вечерять тем, что есть!» Неважно чем – послал ли Бог хороший вечер, яркое переживание, вкусную пищу, или мы насладились движением, музыкой и т. п. Ведь Бог тоже не очень-то богат, Ему почти нечего дать нам. У нас не должны трястись поджилки от того, что к нам зайдет Великое Абсолютное Нечто. К нам зайдет просто Бог. Он даст нам Свое видение мира – вот Его единственный Дар. А закусывать и запивать будем чем придется. По Воскресении апостолы жарили рыбу, где-то ели барашка, а мы со своей тревогой накрываем для Него стол, на котором барашка нет, а только горькие травы. И говорим: «Господи, жуй нашу тревогу вместе с нами! Прости нам наши грехи, прости, что мы Тебя ужасно прогневляем» и т. п. Такой стиль богообщения идет от нас самих.
Чаще всего христиане-функционалисты и вовсе не принимают к себе Христа, а только перешептываются: «Ты слышишь этот стук? Это Божий гнев, приближается грозная поступь!» Они соревнуются в тревожности, и наиболее воспаленные почитаются за духовных. Но не тревожность ценит Бог, а некую красоту «Х», которую в нас видит. И мы ее увидим, как только перестанем смотреть друг на друга как на предмет использования. Не нужно оценивать человека по тому, насколько он может быть нам полезен, иначе рядом с некоторым очарованием будет куда больше разочарования, и оно станет хлебом и вином нашего тревожного христианства.
Любовь Бога и человека
Почему Бог есть любовь? Потому что любовь видит именно тебя, то есть тебя до того, как ты сделал доброе или злое. Ненависть универсальна: всякого, кто бьет меня, я ненавижу. Ей подобна и симпатия. Любовь же индивидуальна, направлена на тебя, она относится к той корпускуле, которая есть ты сам – не параметры тела, характера и социального положения, а их обладатель. Мы и сами нечасто ищем себя, опасаясь, что там ничего нет. И любим себя неправильно и не любим неправильно. Оцениваем только выходные параметры, а не то, что видит Бог. Потому и практики покаяния сосредоточены на том, что мы делаем, а не на том, что мы есть.
Бог любит нас вне и до наших дел. С нашей испуганной точки зрения, Его любовь есть любовь к ничто. Мы едва ли поймем, как можно любить то, о чем мы не можем судить. Для многих христиан и атеистов себя как бы не существует: они еще не рождены для самих себя. «Разве может Бог любить меня окаянного? – восклицает нерожденный духовно. – Если и может, то только бесконечно снисходя, смиряясь… ну, как бы немного морщась!» Такой тип суждения закономерен для тех, кто видит себя только снаружи и судит по качеству мыслей и поступков. Для них закрыта тайна человеческой бесконечности, тайна, почему Иисус радостно называет нас братьями. Зато у таких людей нет проблем экзистенциального характера. Нужно ли их тормошить проблематикой неопределенности, раздвоенности и тому подобным? Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, – не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно (Песн. 8: 4).
В отличие от Бога, мы мыслим и поступаем стереотипно – направляем готовый пучок эмоций на подходящий объект. Это рождает несимпатичную ситуацию, когда объект, на который направлена такая «любовь», может быть заменен другим, в жизни такие случаи нередки. И следующий объект получает все тот же поток теплоты и воздыханий. Наша «любовь» не так любовна, то есть не так конкретно индивидуальна, как Божия. Вот Павел писал неразумным галатам: удивляюсь, что вы так скоро прельстились другой проповедью! (см. Гал. 1: 6). А им что – они с тою же ликующей эмоцией могут послушать и третьего проповедника, существенной разницы в их любви не будет.
В этой предзаданности даже Бог может быть заменен другим богом. Потому что наше скрытое бегство от одиночества и другие бессознательные причины скрывают и то, что мы «любим» другого по необходимости спрятаться от себя в акте любви. Любовь здесь используется как экстраверсия против интроверсии – замещение себя другим вместо/без познания себя.
Любовь vs доверие
У любви есть один едва уловимый недостаток: она неспокойна, она встревожена попытками ублажить, порадовать, доставить удовольствие любимому. И эти манипуляции сопряжены с различного рода напряжениями, волнениями, озабоченностью.
Слово «любовь» давно утеряло остроту и нерв – особенно после того, как поселилось и не сходит с языка епархиальных и приходских проповедников: оно стало почти изжитым, изжеванным ими.
И самое главное – любовь сопрягается с недоверием любимому. Недоверие проявляется в добродушной попытке представить себя лучше, чем на самом деле, говорить не все, чтобы не ранить, демонстрировать не все, чтобы не разочаровать.
Думаю, лучшим именем любви в нашем веке было бы предельное доверие. Доверие – это когда люди вообще ничего из себя не строят, не стремятся впечатлить или внушить какие-то идеи. Любовь не ищет ничего, что можно было бы дать отдельно от себя. Любящие так, то есть в предельном доверии, спокойны и довольны не тем, какое впечатление они производят, что они из себя представляют, а тем, что они есть и видят друг друга!
Покаяние, исправление, приятие
Покаяние других
Иногда полезно размыслить о покаянии и смирении, взглянув под иным углом. Ведь существует опасность, что это светлое человеческое действие может превратиться во всеподавляющего идола. Покаяние – необходимый этап духовного кризиса, связанный с освобождением души от ее прежних (порочных) спаек. Но, как и многие другие духовные практики, покаяние стремится заполонить собою все и стать самоцелью. Покаяние как практика очищения способно заслонить собою цель духовной чистоты – Бога. Таким стало благочестие фарисеев, «чистота» пуритан, традиционализм старообрядцев и т. д.
Православие видит в нераскаянности духовные авгиевы конюшни. Тот, кто не моется, нечист, это почти всегда верно. Но тот, кто моется, делает это не ради процесса, а чтобы стать чистым, больше не нуждаться в мытье. Иначе говоря, мы должны каяться лучше, чтобы каяться реже. Однако это положение не кажется однозначным.
Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» обозначил границу эпох через противопоставление старцев Зосимы и Ферапонта. Ферапонт – жесткий аскет, он настойчиво призывает к покаянию, обличает мир и повсюду видит чертей. Сейчас, полтора века спустя образ строгого обличителя выглядит еще более подозрительно, чем после выхода романа; старец Зосима, отчасти списанный Достоевским с преподобного Амвросия Оптинского, нам представляется подлиннее, православнее. Но было бы опрометчиво шельмовать ферапонтовщину так же, как в романе Ферапонт – зосимовщину. Два разных типа православного подвижника взяты автором из реального практического православия.
Эмблемой православного аскетизма было и остается покаяние. В то же время требование покаяния от других едва ли можно отнести к признакам святости. Каждая бабушка у подъезда хотела бы изменить мир к лучшему через покаяние других. Даже великий проповедник покаяния пророк Иоанн Креститель в своем обличении Ирода Антипы (который спал не с той женщиной) сегодня выглядит не настолько эпично, как в свое время. Бабушки у подъезда, может быть, и не так бесстрашно, но придерживаются этой же системы оценок.
Конечно, у святых фундаментальной посылкой осуждения других является строгость покаянной дисциплины по отношению к себе. Регулярной практикой покаяния подвижник укрепляет в себе картину мира, в которой покаяние является единственным инструментом изменения себя. Этот переход происходит столь же искренно, сколь и неумолимо. Подвижники приходят к этому не потому, что изначально злы, а потому, что перенесением своего мировосприятия на других они вынуждаются требовать покаяния от окружающих, так как в их картине мира без покаяния спастись никак нельзя.
От печали до радости всего лишь дыханье
Первоначально христианство направило требование покаяния на внешних: они должны были каяться в неверии, тогда как сами христиане пребывали в блаженном уповании скорого явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит. 2: 13). Господь призывал Своих учеников к совершенной радости: да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна (Ин. 15: 11; 16: 24). Также и апостолы: сие пишем вам, чтобы! радость ваша была совершенна (1 Ин. 1: 4); надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна (2 Ин. 1: 12); Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4: 4); Всегда радуйтесь (1 Фес. 5: 16).
Когда впоследствии христиане направили требование покаяния на себя, предметность покаяния стала дробиться. Если раньше было точно ведомо, что Дух придет и обличит мир о грехе, что не веруют в Меня (Ин. 16: 9), то теперь у покаяния, обращенного внутрь христианства, появилась перспектива вновь вернуться к закваске фарисейской с ее мелочностью, мнительностью и высокомерием. Ибо каяться надлежало в тех же нарушениях заповедей человеческого общения и правил богопочитания.
Важной задачей кающихся христиан стало соединение заповеданной непрестанной радости и истового покаянного сокрушения. Соединение это, как кажется, вовсе невозможно. Ведь если мы по-настоящему предаемся печали о бесчисленных грехах, то какая уж там полнота радости и совершенство ликования…
Отцы-аскеты верно отметили, что самоугрызение не приводит человека к Богу, а лишь укрепляет изначальный эгоцентризм. Преподобный Симеон Новый Богослов замечает, что «безмерное и безвременное сокрушение сердца… омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиление, а всаждает в нее болезненное томление сердечное». Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Как слишком большое количество дров подавляет и угашает пламень и производит множество дыма, так и чрезмерная печаль делает душу как бы дымною и темною». Однако просто понизив градус сокрушения о грехах, не решить проблему симбиоза печали и радости. Нивелирование полярностей до среднего уровня также неприемлемо: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (Откр. 3: 15-16). Сочетание же в себе холодности и горячности в высокой степени попеременно сродни биполярному расстройству личности, или циклотимии (это аффективные психические расстройства, характеризующиеся резкими колебаниями между депрессией и приподнятым настроением).
Однако монашеская традиция указала путь решения этой дилеммы – радостопечалие. В этом концепте значения слов «радость» и «печаль» несколько изменяются; синтез достигается по ту сторону классического самоукорения и животного веселья. «С усилием держи блаженное радостопечалие святого умиления, – говорит преподобный Иоанн Лествичник, – и не преставай упражняться в сем делании, пока оно не поставит тебя выше всего земного и представит чистым Христу». Преподобный Симеон Новый Богослов: «Всякому надлежит рассматривать себя и внимать себе разумно, чтобы ни на надежду одну не полагаться без плача по Богу и смирения, ни опять на смирение и слезы не полагаться без последования им надежды и радости духовной». «Ты знаешь во мне, о Христе, делателя всякого беззакония и поистине сосуд всевозможных пороков; это знаю и я, и исполнен позора и стыда; мною овладела гнетущая печаль, и сердце мое одержимо непереносимой скорбью. Но таинственно воссиявший мне свет лица Твоего прогнал помыслы, изгладил скорбь и низвел радость в смиренную душу мою. Итак, я и хотел бы, Христе, печалиться, но печаль не пристает ко мне. Печалюсь же я скорее о том, чтобы за эту радость не погибнуть и не лишиться мне, несчастному, будущей радости. Но не лиши меня ее, Владыко, никогда – ни ныне, ни в будущем веке».
Преподобный Григорий Синаит обозначает ту же цель радостопечалия: «Величайшее есть оружие – держать себя в молитве и плаче, чтобы от молитвенной радости не впасть в самомнение, но сохранить себя невредимым, избрав радостопечалие». Это не механическое сжатие двух непримиримых состояний, а третье ощущение, близкое к удивлению от продолжающегося диалога с Богом. Святитель Феофан Затворник: «Радостопечалие подается, а не приобретается. Состояние это похоже на то, какое испытываем, увидавшись с родными после долгой разлуки: и радостно и жалостливо, – слезы текут. Радостопечалие бывает, когда Господь свидится с душой и душа с Господом. От св. Причастия можно этого ожидать. И бывает. Увидьте из сего, что сокрушение надо развивать, но оно не есть радостопечалие, а пролагает к нему путь. Радостопечалие подает Господь душе, а Господь в действиях Своих ничем не вяжется». Безусловно, можно обрушить ценность этого феномена, если поставить под вопрос модель прогневанного Бога. Но богословие здесь не должно отрицать или предписывать опыт, данный нам во святых.
В наши дни радостопечалие существует – в живом отклике простых мирян и священников. Для протоирея Александра Шмемана радость – единственное, что не только оправдывает, но и может включить в себя страх и покаяние: «Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. И только по отношению к ней – правильны, подлинны, плодотворны и страх Божий, и раскаяние, и смирение. Вне этой радости – они легко становятся „демоническими“, извращением на глубине самого религиозного опыта. Религия страха. Религия псевдосмирения. Религия вины: все это соблазны, все это „прелесть“. Но до чего же она сильна не только в мире, но и внутри Церкви… И почему-то у „религиозных“ людей радость всегда под подозрением. Первое, главное, источник всего: „Да возрадуется душа моя о Господе.“ Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не „освобождают“ от мира и его соблазнов. Радость – основа свободы, в которой мы призваны „стоять“» (Дневники. Вт. 12 окт. 1976).
Исповедь в XXI веке
Исповедь предоставляет пространство полного доверия и бесстыдного раскрытия себя вне социальных игр и соревнований. В нашем мире, как и миллион лет назад, не так много действий, которые прямо или косвенно не были бы направлены на повышение/укрепление социального статуса. На исповеди эта игра прекращается. Каким бы ужасным человек себя ни видел, это не понизит и не возвысит его.
Исповедь есть практика проговаривания того, в чем и себе самому неудобно признаться. Проговоренный грех не информирует Бога, а позволяет по-новому воспринять собственную греховность. Проговоренный грех изменяет свое полусознательное положение в нашей душе. Для практики открытости перед Богом это важно, как и для самопознания.
Исповедовать нужно не прошлое, а настоящее на примере прошлых и недавних событий. Прошлого не вернуть и не исправить, его нельзя простить, потому что его нет. Есть, по слову блаженного Августина, только настоящее прошлого и настоящее будущего. Традиционная попытка свести исповедь к исправлению послужного списка снова возвращает грех на центральное место – а он и на исповеди не должен вытеснять Бога. Исповедь есть шепот о любви, о преданности и предательстве, о духовной слепоте и зрении… но все о Боге, точнее – о нас с Богом. Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя! (Ин. 21: 17).
Исповедь – это не всегда о плохом. Ведь наша духовная жизнь состоит не только из преступлений и грязи. Открывая свои маленькие духовные радости, можно укрепить навык замечать их. Нам непривычно делиться содержанием своего внутреннего пространства еще и потому, что оно кажется малоинтересным для другого, тем более если мы почитаем его за духовного подвижника. Здесь-то и обнаруживается наша ориентированность на всплески и неординарные состояния. Этот ориентир закрывает от нас реальное содержание повседневности, в том числе повседневности богообщения.
«Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страсть, радость, горе – все это имена для обозначения крайних состояний: средняя и низкая ступень их ускользает от нас, а между тем они-то и ткут тонкую паутину, составляющую и наш характер, и нашу судьбу. Те крайние взрывы очень часто рвут паутину и составляют исключения, – а между тем они могут ввести наблюдателя в заблуждение и не только наблюдателя, они вводят в заблуждение и самого действующего человека» (Ницше. Утренняя заря. § 64). Чтобы почувствовать жизнь, человек ищет этих состояний, так как состояния срединные практически не поименованы, и если у нас нет гнева, ненависти, любви, сострадания и страсти, мы не знаем, живем ли. День кажется пустым, если «ничего не происходит» – ничего из того, что обозначено в когнитивном аппарате как случай или событие. Так в погоне за большими и известными состояниями мы теряем из виду реальный микрокосм своей души, пусть едва заметные, но единственные отношения с собственным «Я», «Оно» и Господом Богом. Вот почему для исповеди обязательно нужно найти место в практике христианства.
Покаяние моего «Я»
Ряд философских школ просто отрицает «Я» как сущность. Для буддизма личность – лишь имя, призванное обозначить структурно упорядоченную комбинацию пяти групп (скандх) несубстанциальных и мгновенных элементарных психофизических состояний – дхарм. Своего логического предела данная тенденция достигает в концепции анатмавады! – отрицания «Я». В рамках религиозно-философских традиций анатмавады вера в реально существующее «Я» является источником клеш (аффектов и привязанностей), то есть причиной страдания. Во всех вариантах индуистского спасения речь идет именно о преодолении незнания собственной природы и избавлении от ограничений ложного «Я». При этом предлагается ряд методов решения данной проблемы: йога – временное очищение психики от «не-Я» – и некоторые направления Веданты, предполагающие отказ от «Я» для высвобождения метафизической интуиции. Адвайта – растворение индивидуального духа во вселенском Брахмане. Санкхья и Йога, по учению которых из-за ави-веки (путаницы) в том, что есть «Я» и что – «не-Я», возникают все наши горести и страдания. В освобожденном состоянии (мукти, апаварга) сущность человека замкнута только на себе. Мукти достигается при жизни (дживан-мукти) или после смерти (видеха-мукти).
Религиозно-философские школы Ньяя и Вайшешика также предлагают путь очищения своего «Я» от «не-Я».
В Упанишадах (Брихад-араньяка-упанишаде) один ведийский мудрец рассказывает о том, как бог Индра ходил к божеству-творцу Праджапати спрашивать, что такое «Я». Первый ответ сводился к тому, что «Я» – это тело, второй – что сон со сновидениями, а третий – сон без сновидений. Так легенды и философемы Древней Индии силились определить, что же такое «Я», единственно отличающее нас от животных.
Переходя к вопросу о покаянии, отметим, что настоящее покаяние есть перемена не только поведения и речи, но и ума, где «ум» – не умонастроение, а то самое «Я», субъект, который на вопросы «Чье это тело?», «Чей это характер?», «Чья это психика?» отвечает: «Мои!».
Поставим вопрос так: кто кается и что именно меняется в акте покаяния?
В христианстве эта проблема не настолько остра, как в индуизме: мы воспринимаем себя как личность, и Бог проявляет себя в Личности. Встреча личностей есть цель, а личностность есть средство.
Если рассмотреть покаяние пристальнее, как бы под микроскопом, отделив «Я» от его действий, выяснится, что покаяния как цельного акта не существует, ибо побудительная причина греха и покаяния оказывается тождественной. То, что выглядит как решительная перемена в настроении и поведении, при комплексном анализе может оказаться различными по существу явлениями. В целом механизмы покаянного поворота, или структура раскаяния и исправления, могут быть следующими:
изменение приоритетов при сохранении цели;
изменение средств достижения цели;
изменение способа осмысления предельных ценностей.
В последнем случае меняется не только цель и средства, но и характер восприятия себя при достижении цели и в использовании средств.
Как ни странно, наиболее яркие (образцовые) примеры библейского покаяния относятся к первым двум типам. Например, то, что внешнему наблюдателю в притче о блудном сыне представляется коренной переменой и эталоном покаяния, при более детальном рассмотрении оказывается изменением приоритетов при сохранении цели. Сын ушел от отца потому, что хотел жить комфортнее, и вернулся к нему по той же самой причине. Что в нем переменилось? Только условия достижения изначальной цели. В этом контексте сокрушенное встал и пошел к отцу своему (Лк. 15: 20) мотивировано тем же стремлением, что и блудное «ушел на страну далече». Эгоцентрический тип личности, ищущий наиболее благоприятных условий, остался незатронутым. Прагматический характер поворотного момента – сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему (Лк. 15: 17-18) – и то, что сын специально готовил для отца речь, которую потом и начал произносить, указывают на внешнюю природу этого «покаяния»; реального изменения «Я» не было. Но для тех, кто судит о духовности по миру эмоций, это представляется колоссальным переформатированием. Однако в глубине сердца с блудным сыном ничего не произошло. Поэтому старший сын так удивлен поведением отца. И какая же ирония в том, что именно возвращение блудного сына стало восхваляемым образцом христианского покаяния!
Также и праведный разбойник на кресте сменил свои приоритеты, лишь оказавшись перед лицом неминуемой смерти. Тогда он исповедал Иисуса Сыном Божьим – как свою последнюю надежду. Да, он трезво смотрел на мир, в котором выбрал путь злодеяния, и видел несправедливость в распятии Иисуса (мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. Лк. 23: 41), но в этом еще нет покаяния, и возмутиться несправедливостью – не то же самое, что осудить в себе мировосприятие, которое сделало тебя преступником.
Все апостолы (кроме Иоанна) предали Иисуса, как только «убедились», что Он – не тот, на кого они рассчитывали (не Мессия, не Сын Божий). Тогда, оставив Его, все бежали (Мк. 14: 50). Но они покаялись и вернулись, когда убедились, что Он – Мессия и Сын Божий. Устремления не изменились и после Воскресения (Деян. 1: 6), в их глазах поменялась только расстановка сил. Теперь Он опять Тот, Кто злодеев предаст злой смерти (Мф. 21: 41) и воздаст каждому по делам его (Мф. 16: 27; Рим. 2: 6). Было ли в апостольском отпадении и восстании переосмысление себя? Было, но гораздо позже. Во всяком случае, в первые годы служения они оставались последователями сильного и мстительного Мошиаха.
Первая проповедь Петра, которую мы читаем в Деяниях апостолов, основывается на чувстве вины (покайтесь!) за то, что распяли Того, с Кем придется считаться: Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли (Деян. 2: 36). Это удивительно точно повторяет логику распинателей. Распявшие Христа считали Его выскочкой, но готовы были уверовать, если бы Он продемонстрировал с Креста Свое могущество, – они тоже поклонились бы сильному и славному, только не считали таковым Иисуса из Назарета. Петр доводит до их сведения, что вышла преступная ошибка: теперь «гадкий утенок» превратился в «прекрасного лебедя», делайте ставку на Иисуса, Которого Бог воскресил, так как Бог с клятвою обещал… воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле царя Давида (Деян. 2: 32, 30). Легкость и единодушие народа, позволившие крестить в тот день душ около трех тысяч (2: 41), должны были насторожить апостолов, помнящих, что Христос за три с половиной года собрал всего двенадцать. Он требовал отвергнуть все: праведность, греховность, убеждения и предрассудки и идти за Ним. В своей первой проповеди Петр требует соотнести ветхозаветные пророчества с евангельской историей и покаяться перед сильнейшим представителем Вседержителя.
Та же канва просматривается в обращении Савла/ Павла. Проповедник фарисейского иудаизма сменил направление проповеди. Цель – подчинить своей идеологии как можно больше окружающих – осталась, сменилось только направление. Приведем аналогию: в чужом городе человек направляется на вокзал, узнает, что идет не в том направлении, и, раздосадованный, поворачивается и движется в противоположную сторону. Разве он изменился? Нет, намерения, картина мира и цель остались прежними. Старый метод оказался неэффективным, он меняет метод, но не меняется сам. То же происходит с торговцем, который перестает торговать тем, что не приносит прибыли, и переходит на выгодные товары. Так же и секретарша по требованию нового начальника может подавать не кофе, а чай и сменить гардероб – меняются обстоятельства жизни, но не модель ее восприятия. Позже апостол созреет в новую личность во Христе – и тогда же обострятся его взаимоотношения со «столпами».
Таков по сути и механизм покаяния сотника у Креста. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий (Мф. 27: 51-54). Ряд потрясающих феноменов изменил приоритеты сотника и его солдат. Они не собирались убивать мощного чудодейца – только немощного и беззащитного. Но после землетрясения, затмения, рвущейся завесы и ходячих покойников признали свою ошибку. То, что кажется раскаянием или прозрением, ничего не поменяло в их картине мира – изменилась в пользу Иисуса расстановка сил.
В Евангелиях не прояснен механизм покаяния мытаря из притчи о мытаре и фарисее и Закхея. Однако и тот, и другой сохранили мысленную конструкцию мира незыблемой. Мытарь потому и стал мытарем, что считал: перед сильными нужно «не сметь поднять голову» – так он поступил и в храме. А Закхей продолжал рассчитываться с Богом платежами, но только уже по штрафному курсу: один к четырем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.