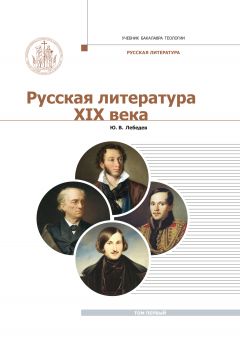
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Первый период творчества
Осенью 1809 года Батюшков создаёт сатиру «Видение на брегах Леты», шумный успех которой открывает зрелый этап творчества поэта. В Лете – мифологической реке – Батюшков «купает» творения современных ему писателей, «шишковистов» и «карамзинистов», «москвичей» и «петербуржцев». Все они проходят испытание на бессмертие и не выдерживают его. Единственным поэтом, сочинения которого не тонут в Лете, оказывается И. А. Крылов:
«Ну, что ты делал?» – «Всё пустяк —
Тянул тихонько век унылый,
Пил, сладко ел, а боле спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни, – всё купай, купай!»
О чудо! – всплыли все, и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошёл обедать прямо в рай.
В сатире определилась литературная позиция Батюшкова. Поэт заявлял: «Не люблю преклонять головы моей под ярмо общественных мнений. Всё прекрасное моё – моё собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путём».
Свою жизненную философию он определяет словом «маленькая»: «Я имею маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелёк». Это самоумаление – не поза: оно даёт Батюшкову свободу от литературных и философских направлений, от просветительского ума, искушавшего тогда многих его современников. Свои произведения он квалифицирует как «сущие безделки», «мелочи», плоды ленивой праздности. Позиция «дилетанта» открывает перед Батюшковым возможность литературного эксперимента, стилистической игры, совмещения высокого и низкого, серьёзного и смешного – своеобразной литературной развязности, в которой как раз и оттачивается лёгкий язык «гуляки с волшебною тростью», как назвал Батюшкова О. Мандельштам.
В 1810 году овдовевшая тётушка Екатерина Фёдоровна Муравьёва, заменившая Батюшкову родную мать, приглашает племянника на жительство в Москву. Здесь поэт дружески общается с Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Л. Пушкиным, печатает свои «безделки» в московском журнале «Вестник Европы». Ему весело в кругу новых друзей. Летом он гостит в подмосковном имении Вяземских Остафьево. Но вдруг прилив необъяснимой тоски и скуки заставляет его, к недоумению гостеприимных хозяев, бежать в Хантоново. В одном из писем поэт скажет Жуковскому: «С горестью признаюсь тебе, милый друг, что за минутами веселья у меня бывали минуты отчаяния. С рождения я имел на душе чёрное пятно, которое росло с летами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли? – не знаю!»
«Лёгкая поэзия», которой отдаётся Батюшков, является попыткой смыть с души это чёрное пятно. Восхищаясь его стихами, и особенно его посланием к Жуковскому и Вяземскому, Пушкин дал поэту такую литературную характеристику:
Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец…
Но люди, близко знавшие Батюшкова, отмечали разительный контраст между реальным его образом и тем лирическим героем, который предстаёт со страниц стихотворений. Н. В. Сушков вспоминал: «Кто не знал кроткого, скромного, застенчивого Батюшкова, тот не может составить себе правильного о нём понятия по его произведениям; так, читая его подражания Парни, подумаешь, что он загрубелый сластолюбец, тогда как он отличался девическою, можно сказать, стыдливостью и вёл жизнь возможно чистую».
В стихах Батюшков воспевает быстротечные наслаждения, любовные забавы, свободу и безмятежность. А в жизни страдает и подвергается припадкам душевной пустоты. «Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? – спрашивает Вяземский и отвечает. – Сладострастие совсем не в нём». Он «певец чужих Элеонор». Батюшков, таким образом, впервые вводит в поэзию литературного героя, весёлого поэта, «ленивца», «эпикурейца», совсем не похожего на его творца.
Позиция Батюшкова обретает в «Моих Пенатах» общественный смысл. Она утверждает в сознании соотечественников высокое и независимое звание поэта. «Кто нас уважает, певцов и истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов», – говорил Грибоедов. Даже генерал Н. Н. Раевский, у которого Батюшков был адъютантом, обращался порой к поэту с лёгким оттенком иронии: «господин сочинитель».
«Мои Пенаты» выпадают из традиции эпикурейской поэзии в той мере, в какой описание скромной сельской «хижины» поэта является вызовом «вельможным дворцам». «Рухлая скудель» деревенского быта ему дороже, чем «бархатное ложе и вазы богачей». «Добрые друзья» ближе, чем «с наёмною душой развратные счастливцы, придворные друзья и бледны горделивцы, надутые князья». Образ поэта здесь демократизирован: в его бедный дом может смело войти калека-воин, товарищ ратный, солдат, «трикраты уязвлённый на приступе штыком», а его Пенаты и Лары любят звуки двухструнной балалайки.
Батюшков возвышает в своём послании скудный быт поэта, соединяя античных богов домашнего очага с бытовыми приметами запущенной дворянской усадьбы. Это ему удаётся – он лишает античные божества свойственной им в поэзии классицизма статичности. Пенаты, как русские домовые, обретают у Батюшкова живой характер, строптивый нрав. Они у него диковаты, живут в норах и тёмных кельях. И в то же время они домовиты, любят свои норы, отечески пестуют мир домашнего очага. И античные Парки – богини судьбы, прядущие нить человеческой жизни, имеют у Батюшкова довольно картинную внешность: они у него «тощие», как ветхие старухи. С помощью такой «профанации», снижения высоких символов поэзии классицизма, Батюшков вводит их в повседневность, получает возможность соединить с ними простой сельский быт, приобретающий в их присутствии право на поэтичность. Пенаты и Лары поднимают до высот поэзии саму скудость русской деревенской жизни:
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном…
Здесь книги выписные,
Там жёсткая постель —
Всё утвари простые,
Всё рухлая скудель!
«Добрый гений» поэзии посещает этот скромный мирный дом поэта, оценивая его бескорыстие, его способность жить «без злата и честей». С поэтом в хижине убогой живут «весёлые тени» любимых певцов: «парнасский исполин» Ломоносов, «то с лирой, то с трубой» Державин, два баловня природы – Хемницер и Крылов. Не чувственные удовольствия на первом плане в послании Батюшкова, а культ друзей-поэтов, культ высоких наслаждений, свободных дружеских бесед, культ вольнолюбия и независимости.
Тему радости земной жизни сопровождает у Батюшкова ощущение её мимолётности. Но в первый период творчества оптимизм поэта торжествует над памятью о смерти. В «Элегии из Тибулла» (1810–1811) радость жизни продолжается после смерти в античном «раю» – «Элизии»:
Там слышно пенье птиц и шум биющих вод;
Там девы юные, сплетяся в хоровод,
Мелькают меж древес, как лёгки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви, неумолимый рок,
Тот носит на челе из свежих мирт венок…
В «Моих Пенатах» поэт призывает своих друзей, молодых счастливцев, не сетовать по поводу возможной его кончины и просит почтить его мирный прах цветами. Батюшков сознательно противопоставляет своё описание смерти «страшным» картинам Жуковского, у которого в балладе «Двенадцать спящих дев» «И слышен колокола вой, / И теплются кадила…»:
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
Жуковский заметил это и в ответном послании на «Мои Пенаты» «поправил» Батюшкова так:
Всечасно улетаем
Душою к тем краям,
Где ангел твой прелестный:
Твоё блаженство там,
За синевой небесной…
Второй период творчества
Но на «маленький» мирок поэзии весёлого Батюшкова уже надвигались чёрные тени большой истории. Грянула над Россией гроза Отечественной войны. В августе 1812 года Батюшков едет в осаждённую неприятелем Москву. Он вывозит семейство Муравьёвых в Нижний Новгород, а потом трижды проезжает через разорённую врагом, сожжённую русскую столицу.
«Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся, как нарочно, перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я насилу могу собраться с мыслями и часто спрашиваю себя: где я? что я? Не думай, любезный друг, чтобы я по-старому предался моему воображению, нет, я вижу, рассуждаю и страдаю, – пишет он Н. И. Гнедичу. – От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесённые любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и в её окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. <…> При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы сердце моё трепещет, и тысяча воспоминаний, одно другого горестнее, волнуются в моей голове. Мщения! мщения! Варвары! Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии; и мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! Хорошо и они нам заплатили!»
«…Я решился – и твёрдо решился – отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, сердце, лишённое покоя ужасными происшествиями нашего времени, – сообщает поэт Вяземскому. – Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти. Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей! Святыня, мирное убежище наук, всё осквернённое толпою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона!.. Сколько зла!»
Горестные переживания этих лет нашли прямое отражение не только в письмах Батюшкова, но и в его пронзительном послании «К Дашкову» (1813):
Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары;
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных;
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянии рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах её священный
Слезами скорби омочил…
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Вздвигались храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод! …
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Батюшков догоняет наступающую русскую армию и участвует в её заграничном походе. Он служит ординарцем у прославленного героя, генерала Н. Н. Раевского. Поэт сражается отважно, не щадит себя, однажды в стычке с врагом едва не попадает в плен. В «Битве народов» под Лейпцигом у него на глазах тяжело ранят Н. Н. Раевского, а по окончании жестокого боя он, обходя поле сражения, находит среди погибших своего друга И. А. Петина. Оплакав потерю, Батюшков оставляет его могилу на чужой немецкой стороне, но образ милого товарища следует за ним.
Батюшков довершает дело своего друга. Он участвует в последней схватке с неприятелем и входит с победоносными русскими войсками в Париж. Здесь Батюшкова удивляет поведение французского народа. Давно ли он свергал Бурбонов, давно ли восторженно принял власть Наполеона? А теперь те же самые французы хором кричат: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!» В стране, кичившейся своей свободой, утвердился торгаш. «Для нынешних французов ничего нет ни священного, ни святого, кроме денег, разумеется».
Из Парижа Батюшков отправляется в Англию, потом в Швецию. В элегии «На развалинах замка в Швеции» он погружается в горькую думу об исторических судьбах народов Европы. Отвага, мужество, готовность отдать жизнь за отечество – всё это остаётся там в далёком прошлом, «всё время в прах преобратило»:
Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины,
Роальда спутники, на бренных челноках
Протекши дальние пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?
Открытием Батюшкова в этой элегии является соединение традиционных элегических мотивов о бренности земного бытия с мотивами историческими, за которыми скрывается современный подтекст. «Погибли сильные!» – таков горький итог раздумий Батюшкова над судьбою современной Европы. Сначала она покорилась власти тирана, а теперь попала под власть торгаша.
Неотступно преследует Батюшкова память о безвременно погибшем герое, задушевном друге Петине. Он посвятит ему в прозе небольшой очерк «Воспоминание о Петине», а в поэзии – элегию «Тень друга» (1814). В ней отражены конкретные переживания Батюшкова во время морского путешествия из Англии в Швецию:
Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблём вилася Гальциона,
И тихий глас её пловцов увеселял. …
Всё сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
Бесподобна звукопись Батюшкова – эта ласкающая, как мягкое покачивание на морской волне, мелодия из звуков «л» и приглушённого, сонорного «н». Во всём – предчувствие Пушкина с его элегиями «Погасло дневное светило» и «К морю».
Замена прозаической чайки поэтической Гальционой полна у Батюшкова глубокого смысла, открытого читателям, воспитанным на древней мифологии. В основе стихотворения лежит миф о Гальционе – прекрасной царевне, потерявшей друга жизни и превратившейся от тоски в морскую чайку, чтоб вечно сопровождать и вечно оплакивать любимого, утонувшего в морской пучине. Гальциона – это душа поэта, летающая над житейским морем, поглотившим её друга. Воспоминание о Петине сливается у поэта с тоскою о родине, «о небе сладостном отеческой земли».
Альбионом называли Великобританию древние греки и римляне, поэтической культуре которых Батюшков отдал щедрую дань. Имя Альбион носил предводитель саксов в их войнах с Карлом Великим в VIII веке. Тень друга, явившаяся перед поэтом, это ещё и тень героя. Вновь в лирическую элегию Батюшкова и прямо, и косвенно входит грозный гул истории.
События Отечественной войны повлияли на Батюшкова иначе, чем на большинство его современников, охваченных патриотическим пафосом. Жуковский посвятил этой войне героическую песнь «Певец во стане русских воинов», Батюшков – грустную элегию, полную тяжёлых раздумий о судьбах человеческих. Поэта поразила жестокость народа, культурой которого он жил и питался долгие годы. Наступил кризис просветительского мироощущения, отречение от европейской мудрости эпохи XVIII века. В специальном нравственно-философском трактате «Нечто о морали, основанной на философии и религии» Батюшков пришёл к мысли о коренной противоречивости человека и о тщетности всех философских построений, основанных на ничем не оправданной вере в неизменную и добрую его природу.
«Вот почему все системы и древних, и новейших недостаточны! Они ведут человека к блаженству земным путём и никогда не доводят. Систематики забывают, что человек, сей царь, лишённый венца, брошен сюда не для счастья минутного; они забывают о его высоком назначении, о котором вера, одна святая вера ему напоминает».
«Весь запас остроумия, все доводы ума, логики и учёности книжной истощены перед нами; мы видели зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали. Счастливые обитатели обширнейшего края, мы не участвовали в заблуждениях племён просвещённых: мы издали взирали на громы и молнии неверия, раздробляющие и трон царя, и алтарь истинного Бога; мы взирали с ужасом на плоды нечестивого вольнодумства, на вольность, водрузившую своё знамя посреди окровавленных трупов, на человечество, униженное и оскорблённое в священнейших правах своих; с ужасом и с горестию мы взирали на успехи нечестивых легионов, на Москву, дымящуюся в развалинах своих; но мы не теряли надежды на Бога, и фимиам усердия курился не тщетно в кадильнице веры, и слёзы и моления не тщетно проливались перед Небом: мы восторжествовали».
Батюшков ссылается на мудрое предсказание французского писателя-романтика Шатобриана, творчеством которого он теперь увлечён. «Назад тому несколько лет Шатобриан сказал: “Храбрость без веры ничтожна. Посмотрим, что сделают наши вольнодумцы против козаков грубых, непросвещённых, но сильных верою в Бога?” Все журналисты вступились за честь оскорблённой великой нации; но предсказание сбылось».
«Легионы непобедимых затрепетали в свою очередь. Копьё и сабля, окроплённые святою водою на берегах тихого Дона, засверкали в обители нечестия, в виду храмов рассудка, братства и вольности, безбожием сооружённых; и знамя Москвы, веры и чести водружено на месте величайшего преступления против Бога и человечества».
Иногда считают, что разуверение Батюшкова привело к безнадежному, пессимистическому взгляду на мир. Но это не так. Подобно Филалету Карамзина, Батюшков не утратил веры в просвещение. Он решительно выступил против разума, ушедшего из-под нравственного контроля, порвавшего со святыней. «С зарёю наступающего мира, которого мы видим сладостное мерцание на горизонте политическом, просвещение сделает новые шаги в отечестве нашем, – заключает он свой трактат, – снова процветут промышленность, искусства и науки, и все сладостные надежды сбудутся; у нас, может быть, родятся философы, политики и моралисты, и, подобно светильникам эдимбургским, долгом поставят основать учение на истинах Евангелия, кротких, постоянных и незыблемых, достойных великого народа, населяющего страну необозримую; достойных великого человека, им управляющего!»
Историю своих сомнений, глубокого мировоззренческого кризиса и выхода из него Батюшков представил в философской элегии «К другу» (1815). Здесь он называет юношескую «чашу сладострастья», безоблачный взгляд на мир, веру в «мудрость светскую сияющих умов» «обманчивым призраком», исчезнувшим в «буре бед». Поэт советует другу принять мужественный взгляд на мир, который предлагает каждому из нас истина христианской веры:
Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья.
Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой фалерн и розы наши?
Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой;
Но я узнал его; я сердца дань принес
На прах его красноречивый. <…>
Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем,
На крыльях радости летим к своим друзьям —
И что ж?.. их урны обнимаем. <…>
Так всё здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно!
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвьем отвечали.
Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает, —
Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.
Я с страхом вопросил глас совести моей…
И мрак исчез, прозрели вежды:
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.
Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.
Батюшков пишет историческую элегию «Переход через Рейн» (1816), очеловечивая, подобно Жуковскому, историко-патриотическую тему, отказываясь от одического пафоса, соединяя интимно-лирическую интонацию с описанием исторических событий. Он вспоминает вначале далёкое прошлое этого края, битвы римских легионов с варварскими племенами, победу христианства, героические времена рыцарства эпохи средневековья. Он говорит о падении былой немецкой славы в эпоху наполеоновских войн, о завоевании Германии.
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Батюшков говорит о вступлении России в историю Европы в качестве страны-освободительницы, спасающей Германию от власти тирана. Он рисует образ русского ратника, который вспоминает реку любимых мест «и на груди свой медный крест невольно к сердцу прижимает». Поэт подводит читателя к пониманию причин русской храбрости и выносливости:
Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь, и ратники чело склонили в прах:
Поют Владыке вышней силы,
Тебе, Подателю побед,
Тебе, незаходимый Свет!
Дымятся мирные кадилы.
Именно в этот период расцветает талант Батюшкова. В 1817 году выходит первое собрание его сочинений под названием «Опыты в стихах и прозе». «Злодей! – пишет Батюшкову его друг Н. И. Гнедич. – Зачем же ты книгу эту сделал столь любезною, что, например, в Публичной библиотеке от беспрерывного употребления она в самом деле изодрана, засалена, как молитвенник богомольного деда, доставшийся в наследство внуку».
Историческая тема всё более настойчиво вторгается теперь и в прозу писателя. Очерк Батюшкова «Прогулка в Академию Художеств» (1814) послужит Пушкину источником для поэмы «Медный всадник»: «…Что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу – лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн…
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.
И воображение моё представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! – Из крепости Нюсканец ещё гремели шведские пушки; устье Невы ещё покрыто было неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал – и Петербург возник из дикого болота».
Но это была последняя вспышка поэтического гения Батюшкова: тёмное пятно, присутствие которого он чувствовал всю жизнь в своей душе, стремительно превращалось в чёрное облако. Сказалась дурная наследственность, полученная от матери, сказались тяжёлые впечатления от кровавых войн, в которых ему пришлось участвовать. В исторической элегии «Умирающий Тасс» (1817) поэт предчувствовал собственную судьбу и довременный уход:
Земное гибнет всё… и слава, и венец…
Искусств и муз творенья величавы:
Но там всё вечное, как вечен сам Творец,
Податель нам венца небренной славы!
Всё чаще испытывает Батюшков приступы тоски и душевной пустоты, мечется по России с севера на юг и с юга на север. Не помогает и Италия, куда с помощью друзей он определяется чиновником русской дипломатической миссии. В 1822 году его охватывает тяжёлая психическая болезнь. «Я похож на человека, который не дошёл до цели своей, а нёс на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нём было», – признался он в 1821 году своему близкому другу. В тёмном душевном мороке, всеми забытый, Батюшков ещё долго жил в Вологде и умер там 7(19) июля 1855 года.
Историко-литературное значение Батюшкова точно определил Белинский: «Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его произносилось в истории русской литературы с любовию и уважением».
Вопросы и задания
1. В чём видел Батюшков ценность «лёгкой» поэзии?
2. Какие мотивы становятся в лирике Батюшкова главенствующими?
3. Как взаимосвязаны в творчестве Батюшкова чувственные радости с мотивами смерти?
4. Что привлекало Батюшкова в творчестве итальянских поэтов?
5. Какие средства находит Батюшков для совершенствования благозвучия русского поэтического языка? Дайте характеристику поэтического стиля «гармонической точности».
6. Расскажите о становлении Батюшкова-поэта в семье Михаила Никитича Муравьёва и в салоне А. Н. Оленина.
7. Подготовьте сообщение о военной службе Батюшкова.
8. Почему возник разительный контраст между реальным образом поэта Батюшкова и его лирическим героем?
9. Как в поэзии Батюшкова воплотилась тема Отечественной войны 1812 года? В чём суть мировоззренческого кризиса поэта?
10. Покажите кризис просветительского мироощущения Батюшкова, в специальном нравственно-философском трактате «Нечто о морали, основанной на философии и религии» и в философской элегии «К другу» (1815).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































