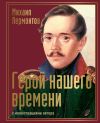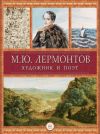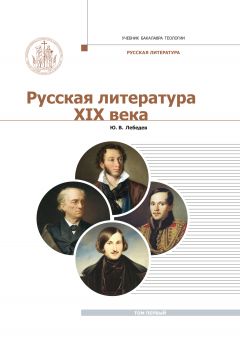
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Уход И. И. Козлова
«Навести Козлова, он в ужасном положении. Пальцы уже одеревенели; и язык начинает неметь. Слух давно ослабел. А душа как будто живёт», – писал Жуковский Вяземскому 30 октября 1837 года. Всей жизненной судьбой своей Козлов подтвердил серьёзность и обоснованность христианских упований на бессмертие души человека. До конца дней Козлов сохранял живой ум, интерес ко всему происходящему в России и в мире и ничем не истребимую, самозабвенную любовь к литературе.
Николай Полевой, навестивший Козлова в конце 20-х годов, с удивлением писал: «Говоря с Козловым, я забыл, что он слепой, что бремя болезни приковало его к одру страдания. Мы говорили о многом, и необыкновенная память, и обширные сведения Козлова изумили меня. С удивлением слушал я, как читал он мне наизусть стихи Пушкина, Боратынского множество стихов Байрона, Мура, говорил о поэзии французской и итальянской. Мир земной не существует для поэта: он живет в мире поэзии и воображения».
Да и музе Козлова свойственны не только тихое уныние и кроткая грусть. Ей, по словам Белинского, «не чужды и звуки радости и роскошные картины жизни, наслаждающейся самой собою». Такова, например, «Венецианская ночь», первая часть которой положена на музыку М. Глинкой:
Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражён волной огнистой
Блеск прозрачных облаков,
И восходит пар душистый
От зелёных берегов.
«Какая роскошная фантазия! Какие гармонические стихи! Что за чудный колорит – полупрозрачный, фантастический!»
Вопросы и задания
1. Какую великую духовную силу открыл Козлову трагический опыт жизни?
2. Какое влияние оказали на Козлова исторические события Отечественной войны 1812 года?
3. Дайте характеристику стихотворных посланий Козлова «К Светлане», «К другу Василию Андреевичу Жуковскому. По возвращении его из путешествия». Что отличает их от аналогичных посланий Жуковского?
4. В чём заключается своеобразие переводческой школы Козлова?
5. Расскажите о сложных отношениях Козлова с декабристами.
6. Покажите, как «очеловечивает» поэт гражданскую лирику.
7. Как в романтических поэмах Козлова совершается утонченная психологическая разработка душевных мук и религиозных прозрений героев?
Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)


О своеобразии художественного мира Батюшкова
«История литературы, как всякая история органического развития, не знает скачков и всегда создаёт связующие звенья между отдельными гениальными деятелями, – писал литературовед С. А. Венгеров. – Батюшков есть одно из таких связующих звеньев между державинской и пушкинской эпохою. Нельзя было прямо перейти от громоподобного и торжественного строя поэзии к ласкающей музыке стихов Пушкина и их «легкомысленному», с точки зрения од и гимнов, содержанию. Вот Батюшков и подготовил этот переход. Посвятив себя “лёгкой поэзии”, он убил вкус к высокопарности, а русский стих освободил от тяжеловесности, придав ему грацию и простоту».
Подобно своим современникам, Карамзину и Жуковскому, Батюшков был озабочен формированием русского литературного языка. «Великие писатели, – говорил он, – образуют язык; они дают ему некоторое направление, они оставляют на нём неизгладимую печать своего гения, – но, обратно, язык имеет влияние на писателей». Процесс формирования русского национального самосознания в эпоху наполеоновских войн увенчался историческим торжеством России. Для Батюшкова, как и для многих его современников, это торжество было доказательством духовной мощи нации, которая должна сказаться и в языке народа-победителя, потому что «язык идёт всегда наравне с успехами оружия и славы народной». «…Совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия», – обращался Батюшков к своим собратьям-писателям.
В своей поэзии Батюшков начал борьбу с высокопарностью и напыщенностью литературы классицизма. В «Речи о влиянии лёгкой поэзии на язык, читанной при вступлении в “Общество любителей российской словесности” в Москве 17 июля 1816» Батюшков стремился вывести поэтическое слово из узких границ высокого стиля. «Важные роды вовсе не исчерпывают собою всей литературы, – говорил он, – даже Ломоносов, сей исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музы». В противоположность торжественной оде, эпической поэме и другим «высоким» жанрам поэзии классицизма, Батюшков отстаивал почётное место под солнцем «лёгкой поэзии» – антологической лирике, элегии, дружескому посланию. Он называл «лёгкую поэзию» «прелестною роскошью» и подчёркивал, что она существовала у всех народов и давала «новую пищу языку стихотворному», что «язык просвещённого народа должен состоять не из одних высокопарных слов и выражений», что в поэзии «все роды хороши, кроме скучного».
Поэзия малых жанров, по мнению Батюшкова, требует гораздо большего труда над словом, так как «язык русский, громкий, сильный, выразительный, сохранил ещё некоторую суровость и упрямство». «В больших родах поэзии (эпос, драма) читатель или зритель, увлечённые сутью происходящего, могут и не заметить погрешностей языка». В лёгкой же поэзии «каждое слово, каждое выражение» поэт «взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. – В лёгком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и соблюдения строжайшего приличия во всех отношениях».
В своей поэзии Батюшков выступал соперником Жуковского и развивал поэтический язык в направлении противоположном. Батюшков не разделял увлечения Жуковского поэзией немецких и английских сентименталистов. Творческий метод Батюшкова ближе к французским классикам XVIII века. Ему чужда тема платонической любви, он скептически относится к мистицизму баллад Жуковского, к воспеванию потустороннего мира. Стиль Жуковского, выражающий текучий и изменчивый мир души, лишающий слово конкретности и предметности, ему противопоказан. Он не принимает эпитет Жуковского, который не уточняет объективное качество предмета, а приглушает, размывает его: «задумчивые небеса», «тихое светило». Батюшков утверждает, напротив, земную страсть, чувственную любовь, яркость, красочность, праздничность мира, а в слове поэта ценит умение схватить объективный признак предмета: «Мутный источник, след яростной бури».
«Направление поэзии Батюшкова совсем противоположно направлению поэзии Жуковского, – говорит В. Г. Белинский. – Если неопределённость и туманность составляют отличительный характер романтизма в духе средних веков, – то Батюшков столько же классик, сколько Жуковский романтик; ибо определённость и ясность – первые и главные свойства его поэзии». По словам Гоголя, Батюшков «весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Всё прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья». Если в лирике Жуковского мы не встречаем портрета возлюбленной, а лишь чувствуем душу «гения чистой красоты», бесплотный, но прекрасный дух её, то у Батюшкова наоборот:
О, память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милой, незабвенной
Повсюду странствует со мной… («Мой гений»)
Однако предметность поэзии Батюшкова всегда окрашивается в романтические, мечтательные тона. Ведь поэзия, с его точки зрения, – «истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который даёт нам то, что мы называем бессмертием на земли – мечту прелестную для душ возвышенных!» Батюшков определяет вдохновение как «порыв крылатых дум», как состояние ясновидения. Поэт – дитя неба. Ему скучно на земле. Всему земному, мгновенному, бренному он противопоставляет «возвышенное» и «небесное».
Батюшков – романтик-христианин. Романтики делали упор на двоемирии в восприятии всего окружающего. Этим двоемирием определена и особая, романтическая природа «эпикуреизма» Батюшкова. Подпочвой его праздничного мировосприятия является чувство бренности и скоротечности всего земного. Его эпикуреизм питается не языческой, а иной, трагической философией жизни: «Жизнь – миг! Недолго веселиться». И потому его лёгкая поэзия далека от жанров салонной, жеманной поэзии классицизма или языческой чувственности поэтов древнего мира. Радость и счастье Батюшков учит понимать и чувствовать по-особому. Что такое «счастье» в скоротечной жизни? Счастье – это идеальное ощущение. Потому эпикуреизм Батюшкова не заземлён, не материализован, и чувственные начала в нём одухотворены. Когда Батюшков зовёт к «беспечности златой», когда он советует «искать веселья и забавы», то не о грубых страстях ведёт он речь, не о плотских наслаждениях. Земное гибнет всё, земное ничего не стоит, если оно не согрето, не пронизано мечтой. Мечта придаёт ему изящество, обаяние, возвышенность и красоту: «Мечтать во сладкой неге будем: / Мечта – прямая счастья мать!» («Совет друзьям»).
В своей статье об итальянском поэте эпохи Возрождения Петрарке Батюшков пишет, имея в виду языческих поэтов античности, что «древние стихотворцы были идолопоклонниками; они не имели и не могли иметь возвышенных и отвлечённых понятий о чистоте душевной, о непорочности, о надежде увидеться в лучшем мире, где нет ничего земного, преходящего, низкого. Они наслаждались и воспевали свои наслаждения». «У них после смерти всему конец». Античным поэтам Батюшков противопоставляет Петрарку-христианина, в юные годы потерявшего Лауру и посвятившего памяти о ней лучшие свои произведения. «Для него Лаура была нечто невещественное, чистейший дух, излившийся из недр божества и облекшийся в прелести земные». У Петрарки «в каждом слове виден христианин, который знает, что ничто земное ему принадлежать не может; что все труды и успехи человека напрасны, что слава земная исчезает, как след облака на небе…»
Здесь Батюшков раскрывает природу своей «эпикурейской» поэзии, своих светлых радостей и печалей. «…Языческая стихия была в душе Батюшкова не единственной и не полновластной, – писал Юлий Айхенвальд. – Она боролась со стихией христианской, и он не сумел и не хотел до конца остаться рапсодом земных пиров и любовной неги. Он не был последователен, и на страницах его небольшой поэтической книги, несмотря на все эти гимны упоённой вакханке, можно заметить, что ему было совестно своего «эвоэ!». Он со страхом вопрошал глас совести своей и после чувственной услады, хмеля и беспокойства мечтал о том, чтобы увидеть спокойный брег, страну желанную отчизны, о том, чтобы земную ризу бросить в прах и обновить существование. Да и то горестное, что он лично видел в жизни, “в Москве опустошённой”, эти бледные матери, эти нищие, эти груды тел и груды сожжённых развалин, – всё это мешало ему беззаветно и безраздельно отдаваться бурной и ликующей песне. Такая песнь замолкала и потому, что вообще с жизнерадостной окрылённостью духа знаменательно сочеталась у Батюшкова его неизменная спутница, временами только отходившая в тень, – искренняя печаль»[9]9
Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Выпуск 1. М., 1906. – С. 2–3.
[Закрыть].
Мы лавр находим там
Иль кипарис печали,
Где счастья роз искали,
Цветущих не для нас. («Ответ Тургеневу»)
Скудные и робкие земные радости он дополнял, усиливал мечтой, грёзой: «Мечтание – душа поэтов и стихов». Даже христианство не обрекает его на жизнь бледную и унылую. Добро – не смирение, добро действенно и страстно: оно – «души прямое сладострастье». У Батюшкова жизнь не перестала быть яркой и тогда, когда вера «пролила спасительный елей в лампаду чистую Надежды».
С Батюшковым в русскую поэзию вошёл стиль «гармонической точности», без которого невозможно представить становление Пушкина. Именно Батюшков разработал язык поэтических символов, придающих жизни эстетическую завершённость и красоту. «Роза» в его стихах – цветок и одновременно символ красоты, «чаша» – сосуд и символ веселья. В элегии «К другу» он говорит: «Где твой фалерн и розы наши?» Фалерн – не только любимое древним поэтом Горацием вино, а розы – не только цветы. Фалерн – это напоминание об исчезнувшей культуре, о поэзии античности с её эпикуреизмом, прославлением земных радостей. Розы – воспоминание о беззаботной юности, о празднике жизни, который отшумел. Такие поэтические формулы далеки от холодных аллегорий классицизма: здесь осуществляется тонкий поэтический синтез конкретно-чувственного образа («роза») и его смысловой интерпретации («праздник жизни»). В аллегории вещественный план начисто отключён, в поэтическом символе Батюшкова он присутствует.
Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
И думал: Парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба[10]10
Эреб (др. – греч. Ἔρεβος, «мрак, тьма»; лат. Erebus) – в греческой мифологии олицетворение вечного мрака.
[Закрыть] мрак густой,
Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось. («Выздоровление»)
В элегии обнажён сам процесс рождения поэтического символа («формулы»): цветок склоняет голову, как человек, а человек вянет, как цветок. В итоге «ландыш» приобретает дополнительный поэтический смысл: это и цветок, и символ молодой, цветущей жизни. Да и «серп убийственный жнеца» в контексте возникающих ассоциаций начинает намекать на смерть с её безжалостной косой, какою она предстаёт в распространённом мифологическом образе-олицетворении. Ведь ландыш – цветок лесной, и серп полевого жнеца не может его коснуться.
Такие «поэтизмы» кочуют у Батюшкова из одного стихотворения в другое, создавая ощущение гармонии, красоты поэтического языка: «пламень любви», «чаша радости», «упоение сердца», «жар сердца», «хлад сердечный», «пить дыхание», «томный взор», «пламенный восторг», «тайны прелести», «дева любви», «ложе роскоши», «память сердца». Происходит очищение, возвышение поэтического стиля: «локоны» (вместо «волосы»), «ланиты» (вместо «щёки»), «пастырь» (вместо «пастух»), «очи» (вместо «глаза»).
Много работает Батюшков и над фонетическим благозвучием русской речи. Разговорный язык своей эпохи он с досадой уподобляет «волынке или балалайке»: «И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы, что за ш, что за щи, при, пры, тры? О, варвары!» А между тем, как утверждает Батюшков, каждый язык, и русский в том числе, имеет свою гармонию, своё эстетическое благозвучие. Надо только раскрыть его с помощью данного от Бога таланта.
Батюшков много трудится, чтобы придать поэтическому языку плавность, мягкость и мелодичность звучания, свойственную, например, итальянской речи. И поэт находит в русском языке не менее выразительные возможности:
Если лилия листами
Ко груди твоей прильнёт,
Если яркими лучами
В камельке огонь блеснёт,
Если пламень потаённый
По ланитам пробежал… («Привидение»)
«Перед нами первая строка “Если лилия листами”. Четырёхкратное ли-ли-ли-ли образует звуковую гармонию строки. Слог ли, и самый звук “л” проходит через строку, как доминирующая нота. Центральное место занимает слово “лилия”, закрепляя возникший музыкальный образ зрительным представлением прекрасного. Ощутимо гармоническим становится и слово “если”, начинающееся к тому же с йотированной гласной (ею оканчивается “лилия”). “Если”, первое слово строки, перекликается также с её последним словом – “листами”. Сложнейший звуковой рисунок очевиден», – так анализирует эти стихи исследовательница русской поэзии начала XIX века И. М. Семенко.
Когда Пушкин в элегии Батюшкова «К другу» прочитал строку: «Любви и очи и ланиты», – он воскликнул: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков!», а впоследствии сказал: «Батюшков… сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского».
Действительно, знание языка поэзии Италии дало Батюшкову многое. Но не надо думать, что поэт механически переносил итальянские созвучия в русскую поэтическую речь. Нет, он искал этих созвучий в самой природе родного языка, выявлял поэзию в русских его звуках. Такова звукопись в первых строках переведённого им отрывка из «Чайльд-Гарольда» Байрона:
Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Отсутствие в четвёртом стихе ударения на второй стопе четырёхстопного ямба не случайно: сочетаясь с плавными свистящими и шипящими звуками («дробящихся») оно живописует обрывающийся бег морской волны. Рокот пронизывающих стихи звуков «р», как бы наталкивающихся периодически на твёрдое как камень «д», рассыпается в шипении финала, как угаснувшая на берегу в брызгах и пене морская волна.
О. Мандельштам в 1932 году написал стихи о своей воображаемой встрече с Батюшковым, в которых создал живой образ русского поэта:
Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живёт.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поёт.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашёл от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы…
И никогда – этот говор валов…
Становление Батюшкова-поэта
Он родился 18 (29) мая 1787 года в Вологде в семье обедневшего, но родовитого дворянина Николая Львовича Батюшкова. Матери своей, Александры Григорьевны, происходившей из вологодских дворян Бердяевых, Батюшков не помнил: она сошла с ума вскоре после рождения сына, была удалена из семьи и в 1795 году умерла.
Мальчик учился в частных французских пансионах Петербурга, откуда вынес хорошее знание европейских языков и особенно итальянского. Родное семейство ему заменил дом двоюродного дяди Михаила Никитича Муравьёва, одного из самых просвещённых людей своего времени, друга Карамзина, попечителя Московского университета, а потом товарища Министра народного просвещения, поэта, знатока классической поэзии античности.
В доме Муравьёвых царила литературная атмосфера, собирались известные писатели – Г. Р. Державин и В. В. Капнист, И. А. Крылов и А. Е. Измайлов, И. И. Дмитриев и В. А. Озеров. Под руководством «дядюшки» Батюшков осваивал в совершенстве латинский язык, читал в подлиннике римских поэтов, из которых ему особенно полюбились Гораций, Овидий, Тибулл, а из поэтов эпохи Возрождения – Петрарка, Тассо (Тасс), Ариосто.
Кроме вступивших тогда в борьбу «шишковистов» и «карамзинистов», в Петербурге возник кружок литераторов, не примыкавших ни к тому, ни к другому лагерю. Центром этого кружка стал литературный салон любителя искусств и художеств А. Н. Оленина, директора Публичной библиотеки, а затем – Академии Художеств. Члены кружка, куда попал и Батюшков, были увлечены классической поэзией античности. Друг Батюшкова Н. И. Гнедич уже задумал перевод «Илиады» Гомера. Здесь окончательно определился интерес Батюшкова к «лёгкой поэзии» античности и её французским и итальянским подражателям – Парни, Грессе, Касти. В «Послании к Н. И. Гнедичу» (1805) юный поэт писал:
Мы сказки любим все, мы – дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта всё в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.
Определившись в 1802 году на службу в Министерство народного просвещения, Батюшков сближается с литераторами «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» (И. П. Пнин, Н. Ф. Остолопов, Н. А. Радищев, Д. И. Языков). Но в 1807 году, вопреки протестам родных и близких, он бросает литературу, вступает в народное ополчение и отправляется в прусские пределы на войну с Наполеоном.
На боевых путях-дорогах поэт находит себе верного друга И. А. Петина, с которым делит тяготы бивачной жизни и радости дружеского общения. 29 мая 1807 года в сражении при Гейльсберге Батюшков тяжело ранен: пуля задевает спинной мозг. С этого момента вся жизнь поэта, по замечанию знатока его жизни и творчества В. А. Кошелева, превращается в непрерывное чередование «маленьких радостей» и «больших несчастий». «Радость» улыбнулась в семье рижского купца Мюгеля, куда его определили на лечение. Батюшков пережил здесь первую любовь к юной дочери хозяина:
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса…
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви ещё прелестнее весна.)… («Воспоминание»)
Отголоски этой любви слышатся в элегии Батюшкова «Мой гений» (1815), в других его стихах. Но радость первой любви омрачается посыпавшимися на голову поэта несчастьями: смерть М. Н. Муравьёва, смерть старшей сестры Анны, ссора с отцом, завершившаяся разделом наследства и переездом в старый дом матери – в сельцо Хантоново неподалёку от уездного города Череповца.
Измотанный несчастьями, судебными хлопотами, Батюшков вновь уходит на военную службу. В 1808–1809 годах он участвует в войне со Швецией, под командованием П. И. Багратиона совершает знаменитый победный марш на Аланские острова по льду Ботанического залива. Но когда войска определяются на зимние квартиры, в провинциальной Финляндии поэта одолевает скука. Летом 1809 года он уходит в отставку и поселяется в Хантонове, думая стать сельским хозяином. Здесь он много читает и продолжает писать стихи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?