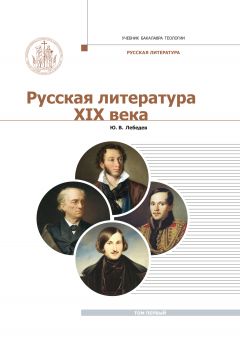
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Молодость. Южный период
Пушкин переживал драматический период своей жизни. Мучили не только неотразимые обиды, которые ему пришлось испытать. Наступил естественный возрастной перелом – кризис перехода от юности к молодости, сопровождающийся мучительными поисками самоопределения. Наступил этап увлечения Пушкина поэзией Байрона. Он изучает английский язык, чтобы читать Байрона в подлиннике. И в то же время это увлечение своеобразно. Оно лишено ученичества. Пушкин относится к Байрону как равноправный участник европейского литературного процесса: он не только осваивает поэзию Байрона, но и вступает с нею в творческий диалог.
К увлечению Байроном подталкивали Пушкина и обстоятельства его жизни. Подобно Байрону, он чувствовал себя изгнанником, разочаровавшимся во всех обольщеньях петербургского света. Он стремился только к личной независимости. И жизнь пошла ему навстречу. В лице И. Н. Инзова он встретил прямодушного, умного и доброго человека, ни в чём не стеснявшего его свободу и относившегося к поэту с отеческой нежностью.
Вскоре по приезде Пушкин искупался в Днепре и схватил горячку. А проезжавшее через Екатеринослав знакомое семейство генерала Николая Николаевича Раевского, героя Отечественной войны, командовавшего прославленной батареей в Бородинском сражении, добилось разрешения у Инзова отпустить Пушкина лечиться на Кавказские минеральные воды.
Об этой поездке на Кавказ, а потом в Крым Пушкин писал брату Льву: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провёл я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нём героя, славу русского войска, я в нём любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Письмо показывает, что чувства Пушкина-изгнанника далеко не исчерпываются байроническими настроениями с их разочарованностью, доходящей до «мировой скорби», до сомнений в благости Творца. Да и свойственный Байрону культ гордой личности как-то не вяжется с пушкинской любовью к тёплым семейным отношениям. Ясно, что байронизм как литературное веяние, коснувшись, души Пушкина, не захватит её глубин.
Элегия «Погасло дневное светило…»
Ночью 19 августа 1820 года по пути в Гурзуф на военном бриге «Мингрелия» Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило…». Главный мотив её – прощание с Петербургом, с отрочеством и юностью – напоминает прощальную песнь Чайльд Гарольда из поэмы Байрона. Однако сразу же бросаются в глаза и отличия. Герой Байрона, опустошённый и разочарованный, покидает берега Англии без всякого сожаления:
Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Не жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.
Элегия Пушкина, напротив, исполнена тоски и печали. Поэт устремляется к отдалённым берегам полуденной земли, упоённый воспоминаниями о былом:
И чувствую: в очах родились слёзы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
Хотя петербургская жизнь и напоила его горькой отравой, она не смогла убить в душе ни поэзию первой любви, ни радость творческих вдохновений, ни сердечное тепло дружеских уз. Разрыв с прошлым у Пушкина не лишён сожалений, а в будущем он хотел бы воскресить всё доброе, что оставил за собой. Обетованная земля, отдалённый берег которой грезится поэту сквозь дымку вечернего тумана, обещает вернуть утраченную надежду, веру и любовь. Потому и торопит он бег корабля, и доверчиво вверяется прихоти волнующегося под ним океана.
«Характерно, – заметил Д. Д. Благой, – что уже начало элегии ведёт нас не к “Паломничеству Чайльд Гарольда”, а к русской народной песне: “На море синее вечерний пал туман” (ср. “Уж как пал туман на синё море”)». Весь образный строй пушкинской элегии питается не Байроном, а мотивами русских народных песен. Вот одна из них, солдатская:
Ах, пал туман на синё море,
Вселилася кручина в ретиво сердце,
Не схаживать туману с синя моря,
Злодейке кручине с ретива сердца!
Вторит ей другая, разбойничья:
Не подняться вам, туманушки,
С синя моря долой,
Не отстать тебе, кручинушка,
От ретива сердца прочь!
Даже образ Петербурга в элегии Пушкина соединяет в себе реалистическую конкретность с фольклорной обобщенностью:
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей…
Объективный образ Петербурга с его туманами и дождями переводится у Пушкина в субъективный план элегических переживаний, близких к народно-песенным мотивам. Печальная родина поэта излучает ту же самую грусть-тоску, какой переполнена через край его душа.
Всё в этой элегии принимает укрупнённый масштаб. «Само “море” в пушкинском стихотворении, – отмечает Н. Н. Скатов, – это то море, что представлено в народном сочетании “окиян-море”, то есть не какое-то там Чёрное море, а по крайней мере Мировой океан…». Глубоко личные, романтические по своей природе чувства и переживания пушкинской элегии питаются родниками народного творчества, из них набирают свою поэтическую силу. Как и у Байрона, они предельно личностны, но, в отличие от Байрона, не эгоистичны: свою романтическую полноту они обретают на общенародной песенной основе.
Поэма «Кавказский пленник»
«Дав в своей элегии глубоко личное, субъективно-лирическое выражение тому настроению, которое овладело им в ссылке, Пушкин почти сразу же испытывает потребность выйти за узко личные пределы, увидеть и показать в личном общее, присущее не ему одному, а целому поколению, хочет поставить перед читателями вместо своего лирического “я” художественный образ героя, в котором это личное-общее нашло бы свое отражение и воплощение. В этом же августе 1820 года, когда была завершена Пушкиным элегия, принимается он за работу над своей поэмой “Кавказский пленник”», – так утверждает Д. Д. Благой, не без основания считающий эту поэму элегией, развернутой в лиро-эпическую повесть. Личный, лирический мотив звучит уже в «Посвящении Н. Н. Раевскому», которое открывает поэму:
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем…
Но и в главном герое поэмы, кавказском пленнике, многое идёт от пушкинской судьбы и пушкинского сердца:
Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах людей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон…
Следуя за опытом романтических поэм Байрона, Пушкин наделяет главного героя чертами автобиографическими, использует «вершинную композицию», выхватывая лишь главные эпизоды из жизни героя и окутывая всё остальное романтической тайной.
Вслед за Байроном Пушкин создаёт идеализированный образ «девы гор», юной черкешенки, воспитанной природой, свободной от внутренних противоречий, свойственных пленнику, человеку цивилизации.
Но, в отличие от Байрона, Пушкин пытается создать объективный образ главного героя, не совпадающий с автором, несущий в своём характере типические черты современников: «Я в нём хотел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века», – говорит Пушкин в одном из писем друзьям.
Душевная пустота героя наиболее ярко проявляется в его любви к черкешенке, натуре цельной, искренней, способной на глубокое чувство. Герою нечем ответить на него: он потерял способность любить – «для нежных чувств окаменел». Эта «преждевременная старость души» не имеет никакого отношения к автору: между героем и автором возникает противоречие, чуждое жанру байронической поэмы. А между тем это противоречие нарастает.
Симпатии читателя по мере развертывания любовного романа начинают всё более склоняться в пользу героини. «Конечно, поэму приличнее было бы назвать “Черкешенкой” – я об этом не подумал», – полушутя отвечает Пушкин своему приятелю В. П. Горчакову, который обратил внимание на странное поведение пленника в финале. Когда черкешенка, не выдержав разлуки, буквально на глазах у пленника бросается в воду и тонет, герой проявляет «окаменелое бесчувствие»:
Всё понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где пленный стадо пас…
Гибель любящей его спасительницы никак не отражается в его холодном сердце. В этом эпизоде уже содержится критическое отношение Пушкина к тому герою, которого «лорд Байрон прихотью удачной / Облёк в унылый романтизм / И безнадежный эгоизм…» («Евгений Онегин»). Поскольку Пушкин отделяет от себя героя поэмы, возвышается над ним, происходят заметные отступления от композиции байронической поэмы. У Байрона всё повествование сконцентрировано на личности героя, Пушкин свободен от такой зависимости и позволяет себе отступления от главной сюжетной линии поэмы. Все обратили внимание на развёрнутое описание Кавказа и его вольного народа. В сущности, Пушкин открыл здесь впервые кавказскую тему, которой суждено занять одно из важных мест у русских писателей от Лермонтова до Льва Толстого.
Пушкин неслучайно остался недовольным реализацией замысла «Кавказского пленника». Он задумал создать независимый от автора характер, но этот замысел вступил в противоречие с формой байронической поэмы, предполагавшей единство героя и автора. Отсюда возникли неясности, противоречия в поведении и поступках героя. «Характер пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения», – признался Пушкин в письме к Горчакову.
Поэма «Бахчисарайский фонтан»
В следующей поэме «Бахчисарайский фонтан» Пушкин использовал крымские впечатления – местную легенду о безответной любви хана Гирея к пленённой им польской княжне Марии. Особенно удачной в поэме оказалась сцена диалога ханской возлюбленной Заремы с Марией. Здесь Пушкин столкнул друг с другом чувства мусульманского Востока с нравами христианского Запада.
Для Заремы любовь – это плотская страсть со всеми её атрибутами: физической красотой, знойной чувственностью:
Но ты любить, как я, не можешь;
Зачем же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Но оказывается, что чувственные чары далеко не исчерпывают смысла любви. В Марии есть то, чего лишена Зарема, – высокая и одухотворённая культура человеческих чувств. Пушкин прямо указывает на её христианский источник:
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой…
И между тем, как всё вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасённый чудом уголок.
Эти высокие чувства берут в плен хана Гирея и вносят смятение в его повседневную жизнь, заставляют усомниться в смысле кровавых набегов:
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остаётся вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слёзы льёт рекой.
Лирика южного периода. Пушкин и декабристы
Из Крыма в сентябре 1820 года Пушкин прибыл в Кишинёв, куда перевели Инзова в качестве наместника Бессарабии. К служебным обязанностям Пушкин относился спустя рукава, а добродушный Инзов смотрел на это сквозь пальцы.
Владею днём моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
(«Чаадаеву», 1821)
Кишинёв в период пребывания в нём Пушкина стал центром готовящегося греческого восстания против турецкого ига. Пушкина захватил свободолюбивый дух древнего народа, он с восторгом приветствовал его вождя, русского подданного и героя Отечественной войны 1812 года Александра Ипсиланти. Предполагалось, что Россия поддержит своих единоверцев. Приятель Пушкина Михаил Фёдорович Орлов, начальник дивизии, квартировавшей в Кишинёве, готовил своих офицеров и солдат к возможным боевым действиям в поддержку восставших греков.
Пушкин мечтал о своем личном участии в этом деле. Он написал цикл стихов, поэтизирующих сражающийся народ и его героев: «Война» (1821), «Гречанке» (1822), «Я твой навек, эллеферия»[24]24
Эллеферия – по-гречески «свобода».
[Закрыть] (1821). Вольнолюбивые надежды, порывы «вольности святой» по-прежнему звучат в его стихах: «Узник» (1822), «Птичка» (1823).
Они поддерживаются и кишинёвским окружением поэта. Пушкин оказался в самом центре Южного общества декабристов. Почему же они, при тесной близости с Пушкиным, не решились предложить поэту вступление в их тайное общество? Ю. М. Лотман так отвечает на этот вопрос: «Играла определённую роль двойная предосторожность: с одной стороны, нежелание подвергать талант поэта опасности, с другой – понимание того, что ссыльный Пушкин – объект усиленного внимания правительства и несдержанный по характеру и темпераменту – может привлечь к Обществу нежелательное внимание властей. Однако приходится отметить и известную узость декабристов в их подходе к искусству и людям искусства. <…> Ставило в тупик богатство и разнообразие его личности. Суровые политические наставники Пушкина чувствовали, что не могут управлять его поведением, что от него можно ожидать неожиданного. Они восхищались поэзией Пушкина, но лишь частично, отвергая определённые её стороны. И в самом поэте они хотели бы больше той односторонности, без которой, по их мнению, нет и гражданского героизма».
Между тем «вольнолюбие» Пушкина именно в эти годы достигает своей вершины и, по русской размашистости, хватает через край. Это видно не только в стихотворении «Кинжал», где поэт «тайным стражем свободы» называет карающий кинжал террориста. Фривольное отношение к христианским догматам проявляется в «Гавриилиаде» – пародии на библейский рассказ о падении Евы и на таинство непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Конечно, в «Гавриилиаде» искуситель поэта далёк от «демона» Байрона, который разгулялся в его мистериях «Каин» и «Манфред». В пушкинской «Гавриилиаде» проказит «бесёнок», «мелкий бес». Повествование ведётся в тоне юродства или скоморошества.
Н. Н. Скатов считает религиозное падение Пушкина в известном смысле закономерным этапом в становлении незаурядной личности, «осанна» которой, говоря словами Достоевского, должна пройти «через великое горнило сомнений». Но в эти же годы Пушкин создает стихотворение «Демон», в котором, объективируя свои сомнения, уже отделывается от них стихами, оставляет их за порогом своего зрелого миросозерцания.
В феврале 1822 года правительство, давно следившее за деятельностью кишинёвского кружка, приступило к его разгрому. М. Ф. Орлов попал под следствие, В. Ф. Раевский был арестован. Положение Пушкина в Кишинёве с каждым днём становилось всё тяжелее. Пришлось согласиться на перевод в Одессу под покровительство нового начальника края Михаила Семёновича Воронцова, в руках которого объединились новороссийское генерал-губернаторство и бессарабское наместничество.
Пройдёт немного времени, и Пушкин об этом сильно пожалеет. Последний год пребывания поэта на юге омрачён глубокими потрясениями: расправа с друзьями в Кишинёве, крах греческого восстания, подавление народно-освободительных движений в Италии и Испании. Всё это оставляло горький след в душе поэта.
Рядом с «Демоном» возникают вариации на демоническую тему. Появляются стихи «Свободы сеятель пустынный…» с глубочайшими сомнениями в творческих силах народов – глухих к дарам свободы:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Пушкин предпосылает этим стихам эпиграф – авторский вариант начальных строк «притчи о сеятеле» из Евангелия от Матфея: «Изыде сеятель сеяти семена своя». Но пушкинские стихи полемичны по отношению к этой притче. Евангельский сеятель верит в плодородную почву для духовного семени и находит её. Сеятель Пушкина в неё не верит и её не находит.
Отсюда – отрицательная характеристика народа как стада. Сравнение народа со «стадом овчим» – традиционно в евангельском повествовании, где оно даётся всегда в положительном смысле: «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит в дом овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их; и когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин. 10: 1–4).
С точки зрения христианских истин пушкинский «сеятель» – не добрый пастырь овчему стаду. Христос говорит: «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10: 14–16).
Пройдёт немного времени, и Пушкин усомнится в правоте своих стихов, усомнится в «святости» той «свободы», которую несли в народ революционеры, мнившие себя «сеятелями». В «Капитанской дочке» Пушкин скажет: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка да и своя шейка копейка».
Пребывание в Одессе осложняется конфликтом с новым начальником. Этот конфликт обостряется тем, что Воронцов замечает неравнодушное отношение влюбчивого Пушкина к своей молодой жене. Видя легкомысленное отношение поэта к обязанностям по службе, Воронцов специально отправляет его в оскорбительную своей бессмысленностью командировку «на саранчу». Возмущённый Пушкин подаёт прошение об отставке, забыв, что в положении ссыльного такое прошение может быть истолковано «как мятеж и дерзость».
Довершает катастрофу неосторожная фраза Пушкина в письме к Вяземскому, которое распечатала московская полиция: «Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пёстрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я ещё встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, что не может быть существа разумного, Творца и Правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная».
Любопытно, что спустя пять лет «учитель» Пушкина, проповедующий атеизм, станет ревностным пастором в Лондоне, а «ученик» будет писать глубоко христианские стихи. Но роковые строки письма прочитаны властью. 8 июля 1824 года Пушкина высочайшим повелением увольняют со службы, а затем ссылают в родовое имение Михайловское под двойной надзор: полицейский и духовный. 1 августа 1824 года поэт выехал из Одессы. В Михайловском он подвёл итог южному периоду своего творчества: в лирике – стихотворением «К морю», в эпосе – романтической поэмой «Цыганы».
Элегия «К морю»
Ещё из Одессы в ответ на предложение Вяземского откликнуться на смерть Байрона Пушкин писал: «Твоя мысль воспеть его смерть в 5-й песни его Героя прелестна – но мне не по силам…» В Михайловском Пушкин нашёл иной, достойный русского гения ход. Элегия «К морю» – финал творческого диалога Пушкина с Байроном. Если начало южного периода – «Погасло дневное светило…» – связано с вариациями на тему прощальной песни Чайльд Гарольда из первой части поэмы Байрона, то элегия «К морю» – соревнование-спор с финалом последней, 4-й песни, где Байрон прощается с «приятелем своим» – так он называет море.
Всё, что пишет Байрон о море, является скрытой формой прославления мятежной личности, не считающейся в гордыне своей с ропотом «дрожащих тварей», «опустошителей земли». Море Байрона, как пуританский Бог, сурово и беспощадно к человеку:
Твоё презренье тот узнает вскоре,
Кто землю в цепи заковать готов.
Сорвав с груди, ты выше облаков
Швырнёшь его, дрожащего от страха,
Молящего о пристани богов,
И, точно камень, пущенный с размаха,
О скалы раздробишь и кинешь горстью праха.
Заметим далее, что отношение Байрона к самовластному морю покровительственное. Романтическая личность оказывается не только равной морю, но ещё и превосходит его:
И, как теперь, в дыханье шумном шквала
По гриве пенистой рука тебя трепала.
Байрон в порыве вдохновения обуздывает море, как лихой наездник. Неукротимый вольнолюбец, он рассекает «руками шумный вал прибоя».
Элегия Пушкина пронизана далёкой от Байрона нежной любовью поэта к стихии, которая родственна ему своим неукротимым движением. В красоте моря он чувствует дыхание Творца, давшего человеку свободу, но сохранившего из любви к творению скрытую власть над ним:
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Если Байрон – властелин моря, то Пушкин видит в море лишь «предел желанный» своей души. Пушкин вспоминает о своих мечтах поэтического побега по хребтам моря в более свободную, как ему тогда казалось, Западную Европу. Теперь Пушкин сознает наивность своих надежд. Что такое земное счастье, слава и успех? Море обнажает их тщету: на скале среди его пучины покоится лишь «гробница» былого человеческого величия. Угас Наполеон,
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Байрон в своем гордом самомнении видел себя властелином моря, но перед величием морской стихии гаснут горделивые претензии земных владык. Тщетны кичливые надежды человека на силу «кесаря» («тиран» – Наполеон) или на силу духа («просвещенье» – Байрон):
Мир опустел… Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
Море у Пушкина не увенчивает земное величие и славу. Его призывный шум напоминает о тщете суетных мирских желаний. Оно учит человека в смирении любить Божественную, нерукотворную красоту и совершенство. В этом заключается «предел желанный» человеческой души; к этому пределу зовут Пушкина морские волны.
Поэма «Цыганы» – завершение спора с Байроном, который наметился в первой южной поэме «Кавказский пленник». Не выходя за рамки романтизма, но превращая его в «романтизм критический», Пушкин показывает в этой поэме, что мечты Байрона и его кумира Руссо о возврате человека в «естественное состояние» утопичны, иллюзорны.
Пушкин на собственном опыте испробовал возможность возврата человека в природу. Будучи в Кишинёве, он несколько недель провёл в цыганском таборе. В «Цыганах» он осудил эту прихоть как слабость, как самодовольство и эгоизм. Алеко, утверждающий свободу для себя среди нетронутых цивилизацией «естественных» людей, не терпит никаких ограничений этой свободы и тем самым становится деспотом по отношению к Земфире и молодому цыгану, её любовнику. Двойное убийство, совершённое Алеко, вызывает осуждение старого цыгана:
Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рождён для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли…
Развенчивая эгоизм Алеко, Пушкин показывает одновременно крах его мечты о возврате на не тронутую «просвещением» первобытную почву. Быт цыган далеко не идилличен. «“Роковые страсти” и связанные с ними “беды” существовали в таборе и до прихода туда Алеко, – замечает Д. Д. Благой. – “Счастья нет” и у носителя простоты, мира и правды в поэме – старика-цыгана, уход от которого Мариулы, охваченной неодолимой любовной страстью к другому, при всей “естественности” этой страсти, с точки зрения самого же старика-цыгана, навсегда разбил его личную жизнь. “Я припоминаю, Алеко, старую печаль”. И эта “старая печаль” живёт в душе цыгана на протяжении всего жизненного пути. Тем самым разбивается иллюзия руссоизма о ничем не омрачаемом счастье “золотого века” – докультурного, дикого человечества».
Так зрелый Пушкин, опережая восторги своих современников, видевших в нём «русского Байрона», решительно одолел искус «байронизма» и вышел к новому, трезвому и реалистическому взгляду на жизнь.









































