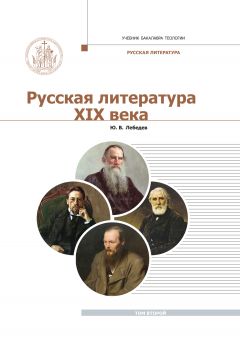
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
В период ссылки, продолжавшейся до конца 1853 года, Тургенев пишет цикл повестей «Два приятеля», «Затишье», «Переписка», в которых с разных сторон исследует психологию культурного дворянина – «лишнего человека». Эти повести явились творческой лабораторией, в которой вызревали мотивы первого романа «Рудин».
Роман «Рудин»
К работе над романом Тургенев приступил в 1855 году, сразу же после неудач Крымской войны, в обстановке назревавшего общественного подъёма. Главный герой романа – это человек тургеневского поколения, который получил философское образование за границей, в Берлинском университете. Что может сделать культурный дворянин в новых условиях, в эпоху «великих реформ». Сначала роман назывался «Гениальная натура». Под «гениальностью» Тургенев понимал способность убеждать и просвещать людей, ум и широкую образованность, а под «натурой» – твёрдость воли, чутьё к насущным потребностям общественной жизни и способность претворять слово в дело. По мере работы над романом это заглавие перестало удовлетворять писателя. Оказалось, что применительно к Рудину оно звучит иронически: «гениальность» в нём была, но «натура» оказалась слабой, был талант будить умы и сердца людей, но не хватало силы воли, вкуса к практическому делу.
«Рудин» открывается контрастным изображением нищей деревни и дворянской усадьбы. Одна утопает в море цветущей ржи, другая омывается водами русской реки. В одной – разорение и нищета, в другой – праздность и призрачность жизненных интересов. Причём невзгоды и беды «забытой деревни» прямо связаны с образом жизни хозяев «дворянских гнёзд». Умирающая в курной избе крестьянка просит не оставить без присмотра свою девочку-сиротку: «Наши-то господа далеко…»
Здесь же читатель встречается с Лежневым и Пандалевским. Первый – сгорбленный и запылённый, погружённый в бесконечные хозяйственные заботы, – напоминает «большой мучной мешок». Второй – воплощение лёгкости и беспочвенности: «молодой человек небольшого роста, в лёгоньком сюртучке нараспашку, лёгоньком галстучке и лёгонькой серой шляпе, с тросточкой в руке». Один спешит в поле, где сеют гречиху, другой – за фортепиано, разучивать новый этюд щеголеватого Тальберга.
Пандалевский – человек-призрак без социальных, национальных и семейных корней. Даже речь его – парадокс. Он «отчётливо» говорит по-русски, но с иностранным акцентом, причём невозможно определить, с каким именно. У него восточные черты лица, но польская фамилия. Он считает своей родиной Одессу, но воспитывался в Белоруссии. Столь же неопределённо и социальное положение героя: при Дарье Михайловне Ласунской он не то приёмыш, не то любовник, но скорее всего – нахлебник и приживал.
Черты «беспочвенности» в Пандалевском абсурдны, но по-своему символичны. Своим присутствием в романе он оттеняет призрачность существования некоторой части состоятельного дворянства. Тургенев искусно подмечает во всех героях, причастных к кружку Дарьи Михайловны, нечто «пандалевское». Хотя Россия народная – на периферии романа, все герои, все события в нём оцениваются с народных позиций.
Есть скрытая ирония в том, что ожидаемого в салоне Дарьи Михайловны барона Муффеля «подменяет» Дмитрий Рудин. Впечатление диссонанса рождает и внешний облик этого героя: «высокий рост», но «некоторая сутуловатость», «тонкий голос», не соответствующий его «широкой груди», – и почти символическая деталь – «жидкий блеск его глаз».
С первых страниц романа Рудин покоряет общество в «салоне» Ласунской блеском своего ума и красноречием. Это талантливый оратор, в своих импровизациях о смысле жизни, о высоком назначении человека он неотразим. Ловкий и остроумный спорщик, он наголову разбивает провинциального скептика Пигасова. Молодой учитель, разночинец Басистов и юная дочь Ласунской Наталья поражены и очарованы музыкой рудинского слова, его мыслями о «вечном значении временной жизни человека».
Но и в красноречии героя есть некоторый изъян. Он говорит увлекательно, но «не совсем ясно», не вполне «определительно и точно». Он плохо чувствует реакцию окружающих, увлекаясь «потоком собственных ощущений» и «не глядя ни на кого в особенности». Он не замечает, например, Басистова, и огорчённому юноше неспроста приходит в голову мысль: «Видно, он на словах только искал чистых и преданных душ».
Крайне узким оказывается и тематический круг его красноречия. Герой превосходно владеет отвлечённым философским языком: его глаза горят, а речи льются рекой. Но когда Дарья Михайловна просит его рассказать что-нибудь о студенческой жизни, талантливый оратор сникает, «в его описаниях недоставало красок. Он не умел смешить».
Не умел Рудин и смеяться: «Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение, глаза ёжились, нос морщился». Лишённый юмора, он не чувствует комичности той роли, которую заставляет его играть в своём салоне Дарья Михайловна, ради барской прихоти «стравливающая» Рудина с Пигасовым. Человеческая глуховатость героя проявляется и в его нечуткости к простой русской речи: «Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротою речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли он имел на это ухо».
Постепенно из множества противоречивых штрихов и деталей возникает целостное представление о сложном характере героя, которого Тургенев подводит, наконец, к главному испытанию – любовью. Полные энтузиазма речи Рудина юная Наталья принимает за его дела. В её глазах Рудин – человек подвига, за которым она готова идти безоглядно на любые жертвы. Но Наталья ошибается: годы отвлечённого философствования иссушили в Рудине живые источники сердца и души. Ещё не отзвучали удаляющиеся шаги Натальи, объяснившейся в любви к Рудину, как герой предается размышлениям: «…я счастлив, – произнёс он вполголоса. – Да, я счастлив, – повторил он, как бы желая убедить самого себя». Перевес головы над сердцем очевиден в этой сцене.
Есть в романе глубокий контраст между утром жизни юной Натальи и безотрадным утром Дмитрия Рудина. Молодому, светлому чувству Натальи отвечает жизнеутверждающая природа: «По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня». Этот пейзаж – развернутая метафора известных пушкинских стихов из «Евгения Онегина», поэтизирующих молодую, окрыляющую человека любовь:
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям…
Совсем другое, невесёлое утро переживает Рудин в период решительного объяснения с Натальей у пересохшего Авдюхина пруда. Он «давно перестал быть прудом. Лет тридцать назад его прорвало, и с тех пор его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, некогда затянутому жирным илом, да по остаткам плотины можно было догадаться, что здесь был пруд… Всё место около старого пруда считалось нечистым; пустое и голое, но глухое и мрачное, даже в солнечный день, оно казалось ещё мрачнее и глуше от близости дряхлого дубового леса, давно вымершего и засохшего». «Солнце уже встало, когда Рудин пришел к Авдюхину пруду; но невеселое было утро. Сплошные тучи молочного цвета покрывали все небо; ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая». Вновь в романе реализуется «формула», данная Пушкиным зрелому возрасту в жизни человека и человечества, поздней его любви:
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Первое препятствие, возникшее на его пути, – отказ Дарьи Михайловны выдать дочь за бедного человека – приводит Рудина в полное замешательство. В ответ на любовный порыв Натальи он говорит упавшим голосом: «Надо покориться». Герой не выдерживает испытания любовью, обнаруживая свою человеческую слабость.
В Рудине отражается трагизм человека тургеневского поколения, воспитанного философским идеализмом. Этот идеализм окрылял, давал ощущение смысла истории, веру в прогресс. Но уход в отвлеченное мышление не мог не повлечь отрицательных последствий: умозрительность, слабое знакомство с практической стороной жизни.
Теоретик, всей душой ненавидевший крепостное право, оказывался совершенно беспомощным в практических шагах по осуществлению своего прекрасного идеала. Покинув усадьбу Ласунской, Рудин-романтик замахивается на заведомо неисполнимые дела: перестроить в одиночку всю систему преподавания в гимназии, сделать судоходной реку, не считаясь с интересами владельцев маленьких мельниц на ней. В русской жизни суждено ему остаться странником.
Спустя несколько лет мы встречаем его в тряской телеге, едущим неизвестно откуда и неведомо куда. «Запылённый плащ», «высокий рост» и «серебряные нити» в волосах Рудина заставляют вспомнить о другом вечном страннике – рыцаре печального образа Дон Кихоте. Его скитальческой судьбе вторит в романе суровый и скорбный пейзаж: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стёкла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть тёплый уголок… И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!»
Рудин гибнет на парижских баррикадах 1848 года. Верный своей «гениальности» без «натуры», он появляется здесь тогда, когда восстание национальных мастерских уже подавлено. Русский Дон Кихот поднимается на баррикаду с красным знаменем в одной руке и с кривой и тупой саблей в другой. Сражённый пулей, он падает замертво, а отступающие рабочие принимают его за поляка.
Один из героев романа говорит: «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится! Космополитизм – чепуха, космополит – нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».
И, тем не менее, жизнь Рудина не бесплодна. Он способен волновать и зажигать словом молодые сердца. Восторженные речи его жадно ловит молодой учитель Басистов. Да и гибелью своей, несмотря на видимую её бессмысленность, Рудин отстаивает ценность вечного поиска истины, высоту героического порыва.
Повести о трагическом смысле любви и природы
Мысль Тургенева о трагичности человеческого существования усиливается в повести «Поездка в Полесье». Она открывается рассуждением о ничтожестве человека перед властью всемогущей природы, отпускающей каждому время жить до боли мгновенное в сравнении с вечностью. Уже в «Рудине» отчетливо прозвучала мысль Тургенева о трагизме человеческого существования, о мимолетности молодых лет, о роковой психологической несовместимости людей разных возрастов. Тургенев и в этом романе смотрел на жизнь не только с исторической, но и с философской точки зрения. Жизнь человека, считает Тургенев, определяется не только общественными обстоятельствами, не только всей совокупностью национального и общечеловеческого опыта, она находится ещё под властью неумолимых законов природы, отпускающих человеку время жить и время умирать. Находясь во власти природы, человек чувствует свою обречённость, свою беззащитность, своё одиночество. Корни лучших минут и высших окрылений человека уходят далеко за пределы несовершенного природного круга, и служение им исключает надежду на полноту земной правды, красоты и счастья. В природном мире человек не может быть свободным, ибо чувство свободы превосходит возможности земной жизни, подчинённой слепым законам смерти и увядания, целиком зависимой от них. Чтобы сохранить чистоту и благородство высших помыслов, чтобы остаться верным служителем высоких истин, нужно уметь смиряться с земным несовершенством, не уповая на него и самоотвергаясь. Сохранить себя в этом мире человек может лишь на путях служения Высшим нравственным законам, требующим отречения от чрезмерных земных упований и надежд.
Эта мудрость жизни доступна, по Тургеневу, тем людям, которые живут в единстве с природой Полесья. Таков его спутник Егор, человек неторопливый и сдержанный. От постоянного пребывания наедине с природой «во всех его движениях замечалась какая-то скромная важность – важность старого оленя». У этого молчальника «тихая улыбка» и «большие глаза».
Общение с лесной стихией и с людьми из народа открывает одинокому интеллигенту-рассказчику скрытый смысл земной жизни, который природа внушает человеку. В финале повести наступает умиротворение. Охотник наблюдает за поведением стрекозы, застывшей в ласкающих лучах заходящего солнца: «Всё отдыхало, погружённое в успокоительную прохладу; ничего ещё не заснуло, но уже всё готовилось к целебным усыпленьям вечера и ночи. Всё, казалось, говорило человеку: “Отдохни, брат наш; дыши легко и не горюй и ты перед близким сном”. Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают “девицами”, а наш бесхитростный народ прозвал “коромыслами”. Долго, более часа не отводил я от неё глаз. Насквозь пропечённая солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками… вот и всё. Глядя на неё, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял её несомненный и явный, хотя для многих ещё таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе – вот самая её основа, её неизменный закон, вот на чём она стоит и держится. Всё, что выходит из-под этого уровня – кверху ли, книзу ли, всё равно, – выбрасывается ею вон, как негодное».
Так формируется тургеневская концепция русского национального характера: недоверие к бурным страстям и порывам, мудрое спокойствие, сдержанное проявление духовных и физических сил. Чтобы сохранить душевную красоту и благородство высших помыслов, чтобы остаться верным служителем высоких истин, нужно уметь смиряться с земным несовершенством. Сохранить себя в этом мире человек может лишь на путях служения Высшим нравственным законам, требующим отречения от чрезмерных земных упований и надежд. Именно так понимает Тургенев мысль Гёте, великого творца «Фауста», которую он берёт эпиграфом к своей собственной повести «Фауст»: «Entbehrensollstdu, sollstentbehren» («Отречься должен ты, отречься»).
В «Фаусте» и «Асе» Тургенев развивает тему трагического смысла любви. Любовь приоткрывает человеку высшие тайны и загадки, не поддающиеся земным разгадкам и объяснениям. Она сильнее смерти, потому что выводит влюблённого человека за грани слепых законов «равнодушной природы». Но поэтому любовь способна надломить в человеке его хрупкий природный состав. Это чувство трагично своей могущественной властью над слабой и смертной стороною человеческого существа. Буквально сгорает в любви героиня повести «Фауст» Вера Ельцова, а рассказчик получает неизлечимую душевную рану.
Чернышевский, посвятивший разбору повести «Ася» статью «Русский человек на rendez-vous», в споре с Тургеневым хотел доказать, что в несчастной любви повинны не роковые законы, а главный герой повести, типичный «лишний человек», пасующий перед любым сильным чувством. Разумеется, Тургенев был далёк от такого понимания смысла своей повести. У него герой невиновен в своём несчастье. Его погубила не душевная дряблость, а своенравная сила любви, перед властью которой беззащитен любой человек. В момент свидания герой ещё не был готов к решительному признанию. Любовь к Асе вспыхнула в нём с неудержимой силой несколько мгновений спустя. Она запоздала – и счастье оказалось недостижимым, а жизнь разбитой: «Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне ещё не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с её братом в бессмысленном и тягостном молчании… оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать её… но уж тогда было поздно. “Да это невозможно!” – скажут мне; не знаю, возможно ли это, – знаю, что это правда».
Любовь напоминает человеку о силах, стоящих над ним, и предостерегает от чрезмерной самоуверенности и безоглядного самодовольства. Она учит человека готовности к самоотречению, мудрой сдержанности ощущений и сил. В повестях о трагическом значении любви и природы зреет мысль Тургенева о нравственном долге, которая получит социально-историческое обоснование в романе «Дворянское гнездо». В погоне за призраком личного счастья человек не должен упускать из виду требований нравственного долга, забвение которого уводит личность в пучины индивидуализма и влечет за собою неминуемое возмездие тех высших сил, которые стоят на страже мировой гармонии.
«Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение, – скажет Тургенев в повести «Фауст», – жизнь – тяжёлый труд. Отречение, отречение постоянное – вот её тайный смысл, её разгадка; не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы возвышенны они ни были, – исполнение долга, вот о чём следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща».
В годы работы над романом «Дворянское гнездо» Тургенев вплотную подходит к великим истинам христианства. Не случайно в письме к Е. Е. Ламберт он скажет тогда: «Жестокий этот год, в течение которого Вы испытали столько горя, послужил и для меня доказательством тщеты всего житейского: да, земное всё прах и тлен – и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру – имеет всё и ничего потерять не может; а кто её не имеет – тот ничего не имеет, – и это я чувствую тем глубже, что сам принадлежу к неимущим! Но я ещё не теряю надежды…»
«Дворянское гнездо»
Роман создавался в 1858 году, когда революционеры-демократы и либералы ещё выступали вместе. Но симптомы предстоящего раскола, который произошел в 1859 году, глубоко тревожили чуткого Тургенева. Эта тревога нашла отражение в романе. Тургенев понимал: дворянство подошло к роковому историческому рубежу, жизнь послала ему суровое испытание. Способно ли оно удержать позицию ведущей исторической силы, искупив многовековую вину перед крепостным мужиком?
Лаврецкий – герой, вобравший в себя лучшие качества русского дворянства. Он входит в роман не один: за ним тянется предыстория дворянского рода, укрупняющая проблематику романа. Речь идёт не только о личности Лаврецкого, но и об исторических судьбах сословия, последним отпрыском которого является герой. Тургенев обличает дворянскую беспочвенность – отрыв от родной культуры, от народа, от русских корней. Таков отец Лаврецкого – то галломан, то англоман.
Тургенев опасается, что эта беспочвенность может причинить России много бед. В современных условиях она порождает бюрократов-западников, каким является в романе соперник Лаврецкого, петербургский чиновник Паншин. Для Паншина Россия – пустырь, на котором можно осуществлять любые эксперименты. Лаврецкий разбивает Паншина и крайних западников по всем пунктам их деспотических программ. Он предостерегает об опасности «надменных переделок» России с высоты «чиновничьего самосознания», говорит о катастрофических последствиях тех реформ, которые «не оправданы ни знанием родной земли, ни верой в идеал».
Начало жизненного пути Лаврецкого типично для людей его круга. Лучшие годы он тратит на светские развлечения, на женскую любовь, на заграничные скитания. Как потом Пьер Безухов у Толстого, Лаврецкий втягивается в этот омут и попадает в сети светской красавицы Варвары Павловны, скрывающей за внешним блеском холодный эгоизм.
Обманутый женой, разочарованный, Лаврецкий круто меняет жизнь и возвращается домой. Опустошенная душа его вбирает впечатления забытой родины: длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной, свежую, степную, тучную голь и глушь, длинные холмы, овраги, серые деревни, ветхий дом с закрытыми ставнями и кривым крылечком, сад с бурьяном и лопухами, крыжовником и малиной.
Погружаясь в тёплую глубину деревенской, русской глуши, Лаврецкий исцеляется от парижской суеты: «“Вот когда я попал на самое дно реки”, – сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к теченью тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар всё пищит; сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжанье мух раздаётся гуденье толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне скрыпят ворота. “Чего?” – задребезжал вдруг бабий голос. “Ох ты, мой сударик”, – говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. “Квас неси”, – повторяет тот же бабий голос, – и вдруг находит тишина мёртвая; ничто не стукнет, не шелохнётся; ветер листком не шевельнёт; ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налёта. “Вот когда я на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает он, – кто входит в её круг – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицыны слёзки ещё выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овёс уже пошёл в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своём стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, – продолжает думать Лаврецкий, – пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело”. И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая – и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то; тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нём; кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и – странное дело! – никогда не было в нём так глубоко и сильно чувство родины».
Под стать этой величавой, неспешной жизни лучшие характеры людей из дворян и крестьян, выросшие на её основе. Такова Марфа Тимофеевна, старая патриархальная дворянка, тётушка Лизы Калитиной. Её правдолюбие заставляет вспомнить о непокорных боярах эпохи Ивана Грозного. Такие люди не падки на модное и новое, никакие общественные вихри не способны их сломать.
Живым олицетворением родины, народной России, является центральная героиня романа Лиза Калитина. Эта дворянская девушка, как пушкинская Татьяна, впитала в себя лучшие соки народной культуры. Её воспитывала нянюшка, простая русская крестьянка Агафья. Книгами её детства были жития святых. Лизу покоряла самоотверженность отшельников, святых угодников и мучениц, их готовность пострадать и даже умереть за правду.
«Бывало, Агафья, вся в чёрном, с тёмным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но всё ещё прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног её, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили, и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. “Желтофиоли?” – спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы…
Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза её слушала – и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в её душу, наполнял её чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться её выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо её одевала и уводила тайком к заутрене; Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша; холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, – вся эта смесь запрещённого, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь её существа».
Лиза религиозна в духе народных верований: её привлекает в религии пронзительная совестливость, терпеливость и готовность безоговорочно подчиняться требованиям сурового нравственного долга. Лиза считает, что Лаврецкий слишком сурово отнёсся к измене своей жены. Она даже решается поговорить с ним об этом: «Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами… но как могли вы… отчего вы расстались с вашей женой? Я знаю, она перед вами виновата, я не хочу её оправдывать; но как же можно разлучать то, что Бог соединил?»
Возрождающийся к новой жизни Лаврецкий в одной из французских газет получает известие о смерти жены. Он свободен. Вместе с заново обретаемым чувством родины к нему приходит новое чувство чистой, одухотворённой любви. Лиза является перед ним как продолжение глубоко пережитого, сыновнего слияния с животворной тишиной деревенской Руси. «Тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нём». Ту же самую исцеляющую тишину ловит Лаврецкий в «тихом движении Лизиных глаз», когда «красноватый камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода и разговор у них шёл тихий». И когда Лиза усердно молилась, «тихо светились её глаза, тихо склонялась и поднималась её голова».
Под сводами сельского храма Лаврецкий почувствовал, что Лиза «молилась и за него, – и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов – всё говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу; он и теперь не произнёс никаких молитвенных слов, – он без слов даже не молился, – но хотя на мгновенье если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу… “Ты меня сюда привела, – подумал он, – коснись же меня, коснись моей души”. Она всё так же тихо молилась; лицо её показалось ему радостным, и он умилился вновь, он попросил другой душе – покоя, своей – прощенья…»
Тургенев тонко схватывает здесь самые сокровенные качества русской духовности. «Профессор Н. С. Арсеньев нашёл очень удачное выражение для определения общего впечатления, производящегося русскими святыми. Он это называет “молчанием духа”. Простота, спокойствие, сердечная чистота и умеренность, порождаемая внутренней уравновешенностью, светлая духовная трезвость, кротость, приветливое и глубокое смирение. К этому добавляется искренняя любовь к бедности, принципиальной и фактической, отрешённость от всех земных благ, отвращение от всего излишнего»[6]6
См.: Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Сиракузы, 1991. – С. 410.
[Закрыть].
Любовь Лизы и Лаврецкого глубоко одухотворённа и поэтична. С нею заодно и свет лучистых звёзд в ласковой тишине майской ночи, и божественные звуки музыки, сочинённой старым музыкантом Леммом. «Вечер стоял тёплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы – он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади – и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала; девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась вперёд; только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щёки. Ей было хорошо. Рука её опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он нёсся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шёпоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи; он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: “Ведь мы друзья теперь, не правда ли?” Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя; Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи охватило его; всё вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали, – а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, – всё покоилось; молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень её шла с ней рядом; было что-то таинственно приятное в топоте её копыт, что-то весёлое и чудное в гремящем крике перепелов. Звёзды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный месяц блестел твёрдым блеском; свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть воздуха вызывала лёгкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольною струёю в грудь».
Но что-то настораживает читателя, какие-то роковые предчувствия омрачают его. Лизе тоже кажется, что такое счастье непростительно, что за него последует расплата. Она стыдится той радости, той жизненной полноты, какую обещает ей любовь. Как верующая девушка, истинная христианка, Лиза знает, что счастье на земле не зависит от человека, да и не может земная жизнь дать нам почувствовать и пережить всю его полноту. Всякое стремление к личному счастью, всякая погоня за ним греховна в своей основе. Утончённым нравственным чутьем Лиза оценивает и недостойную реакцию Лаврецкого на известие о смерти жены, вызвавшее не боль, не сострадание, а скорее чувство облегчения и тайной радости. Лиза упрекает его за это: «Мне всё мерещится ваша покойная жена, и вы мне страшны». Порой и сам Лаврецкий, нравственно прозревая, чувствует страх за себя. «Иногда он сам себе становился гадок: “Что это я, – думал он, – жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены!”» И «в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства». Ведь получается, что его счастье как бы куплено жестокой ценой смерти некогда близкого ему человека.









































