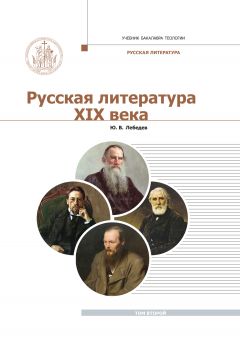
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Отцы и дети» в русской критике
Современная Тургеневу критика, за исключением статьи Н. Н. Страхова, не учитывала качественной природы конфликта и впадала в ту или иную односторонность. Раз «отцы» у Тургенева оставались до известной степени правыми, появлялась возможность сосредоточить внимание на доказательстве их правоты, упуская из виду её относительность. Так читала роман либеральная и консервативная критика. Демократы, в свою очередь, обращали внимание на слабости «аристократии» и утверждали, что Тургенев «выпорол отцов».
При оценке характера главного героя, Базарова, произошел раскол в лагере самой революционной демократии. Критик «Современника» Антонович обратил внимание на относительно слабые стороны характера Базарова. Абсолютизируя их, он написал критический памфлет «Асмодей нашего времени», в котором назвал героя карикатурой на молодое поколение.
Критик «Русского слова» Д. И. Писарев в статье «Базаров», напротив, восславил торжествующего нигилиста, не обратив никакого внимания на внутренний трагизм его характера. По мнению критика, смерть Базарова от пореза пальца – чистая случайность, никак не связанная с общим ходом романа и с существом переживаемой Базаровым духовной драмы. «В конце романа Базаров умирает; его смерть – случайность; он умирает от хирургического отравления, т. е. от небольшого пореза, сделанного во время рассечения трупа. Это событие не находится в связи с общей нитью романа; оно не вытекает из предыдущих событий, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характер своего героя».
Писарев смотрит на Базарова, как ученик на учителя: для него непререкаем и свят именно базаровский «нигилизм». А потому и трагедию Базарова он видит в том, что его богатым нигилистическим силам в современной России не нашлось места. Что же оставалось сделать автору? «Не имея возможности показать нам, как живёт и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами». Источник силы Базарова перед лицом смерти Писарев усматривает в прочности и непоколебимости его нигилистических убеждений. По его мнению, Базаров остается верен себе до последней минуты. И эта верность превращает смерть его в «великий подвиг», истраченный, правда, не на «блестящее и полезное дело», а «на простой физиологический процесс».
Долгие годы именно писаревская точка зрения рассматривалась как самая авторитетная и непререкаемая: считалось, что только он почувствовал по-настоящему героическое начало в характере умирающего Базарова.
Однако совершенно иначе воспринимал финал романа Н. Н. Страхов. «Когда Базаров заболевает, когда заживо гниёт и непреклонно выдерживает жестокую борьбу с болезнью, жизнь, его окружающая, становится тем напряжённее, чем мрачнее сам Базаров. Одинцова приезжает проститься с Базаровым; вероятно, ничего великодушнее она не сделала и не сделает во всю жизнь. Что же касается до отца и матери, то трудно найти что-нибудь более трогательное. Их любовь вспыхивает какими-то молниями, мгновенно потрясающими читателя; из их простых сердец как будто вырываются бесконечно жалобные гимны, какие-то беспредельно глубокие и нежные вопли, неотразимо хватающие за душу.
Среди этого света и этой теплоты умирает Базаров. На минуту в душе его отца закипает буря, страшнее которой ничего быть не может. Но она быстро затихает, и снова всё становится светло. Самая могила Базарова озарена светом и миром, над нею поют птицы, и на неё льются слёзы… Итак, вот оно, вот то таинственное нравоучение, которое вложил Тургенев в своё произведение. Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не корит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате. Базаров отрицает тесные связи между родителями и детьми; не упрекает его за это автор, а только развёртывает перед нами картину родительской любви. Базаров чуждается жизни; не выставляет его автор за это злодеем, а только показывает нам жизнь во всей её красоте. Базаров отвергает поэзию; Тургенев не делает его за это дураком, а только изображает его самого со всею роскошью и проницательностью поэзии».
Пафос романа и движение авторской мысли в нём Н. Н. Страхов уловил проницательно. Однако он не обратил внимания на то, что борьба «мрачных» и «светлых» начал идёт ещё и внутри самого Базарова. А потому фигура центрального героя у него несколько помрачнела и потускнела, получилась однолинейной и обеднённой. У Писарева Базаров – нигилист со знаком плюс, у Страхова – нигилист со знаком минус.
Сам же автор «Отцов и детей» оказался жертвой разгоравшейся в русском обществе борьбы, спровоцированной его романом. С недоумением и горечью он останавливался, опуская руки, перед хаосом противоречивых суждений: приветствий врагов и пощёчин друзей. В письме Достоевскому, который наиболее глубоко понял роман, Тургенев с огорчением писал: «…Никто, кажется, не подозревает, что я попытался в нем представить трагическое лицо – а все толкуют: – зачем он так дурен? или – зачем он так хорош?»
Тургенев писал «Отцов и детей» с тайной надеждой, что русское общество прислушается к его предупреждениям, что «правые» и «левые» одумаются и прекратят братоубийственные споры, грозящие трагедией как им самим, так и судьбе России. Он ещё верил, что роман послужит делу сплочения общественных сил. Расчёт не оправдался: разбилась мечта Тургенева о едином и дружном всероссийском культурном слое общества. Появление романа лишь ускорило процесс идейного размежевания, вызвав эффект, обратный ожидаемому. Назревал мучительный разрыв Тургенева с русским читателем, отражавший крах надежд на союз всех антикрепостнических сил.
Идейное бездорожье
Драматизм усугублялся разочарованием Тургенева в ходе реформ «сверху». В 1861 году писатель восторженно принял «Манифест». Ему казалось, что сбывается, наконец, давняя мечта: крепостное право уходит в прошлое, устраняется вопиющая несправедливость в общественных отношениях. Но к 1863 году Тургенев понял, что надежды его не оправдались. «Время, в которое мы живём, – замечал он, – сквернее того, в котором прошла наша молодость. Тогда мы стояли перед наглухо заколоченной дверью, теперь дверь как будто несколько приотворена, но пройти в неё ещё труднее». В современной России Тургенев не видел серьёзной общественной силы, которая способна возглавить и повести дело реформ вперёд. В правительственной партии он разочаровался, не оправдали надежд и либерально настроенные слои культурного дворянства: после 19 февраля они круто повернули вправо. К революционному движению Тургенев относился скептически.
В 1862 году началась его полемика с Герценом, Огарёвым и Бакуниным. Тургенев был не согласен с основным положением народнического социализма – с верой Герцена в крестьянскую общину и социалистические инстинкты русского мужика. В споре с издателями «Колокола» писатель высказал немало трезвых мыслей и точных наблюдений. Он указал на естественный в пореформенных условиях распад крестьянской общины, на обезземеливание, бедной части крестьянства и обогащение кулачества – «буржуазии в дублёном тулупе». Эти трезвые мысли и наблюдения Тургенев использовал в качестве аргумента против революционных настроений. Он предлагал свою программу постепенного, реформаторского пути общественного развития. Творческие силы он предпочитал искать не в народе, а в просвещённой части русского общества, в среде интеллигенции.
Наступление после 1863 года реакционной полосы в жизни России наводило Тургенева на грустные мысли, отчётливо прозвучавшие в двух повестях этих лет – «Призраки» (1864) и «Довольно» (1865). В «Довольно» Тургенев оценивает человеческую судьбу с чувством глубокого пессимизма: «Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась… Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознаньем, отведав этой полыни, никакой уже мёд не покажется сладким – и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности – даже оно теряет всё своё обаяние; всё его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. <…> Так, поздней осенью, в морозный день, когда всё безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнажённого леса, – стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю – тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в тёплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга… Солнце скроется – мошки валятся слабым дождём – и конец их мгновенной жизни».
Этот неизбывный пессимизм распространяется у Тургенева на все дела рук человеческих, на весь ход исторического процесса, в котором есть лишь видимость движения, но сумма добра и зла остаётся неизменной. «Но разве нет великих представлений, великих утешительных слов: “Народность, право, свобода, человечество, искусство?” Да; эти слова существуют, и много людей живёт ими и для них, – пишет он в повести “Довольно”. – Но всё-таки мне сдаётся, что если бы вновь народился Шекспир, ему не из чего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира. Его проницательный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту: всё та же пёстрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своём тревожном однообразии. То же легковерие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страданья во имя… ну хоть во имя того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном, те же самые грубые приманки, на которые так же легко попадается многоголовый зверь – людская толпа, те же ухватки власти, те же привычки рабства, та же естественность неправды – словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже не подновлённом колесе…»
Роман «Дым»
В трудные дни духовного бездорожья, на закате молодости вновь вспыхнула ярким догорающим пламенем любовь Тургенева к Полине Виардо, всегда спасавшая его в критических ситуациях. Он познакомился с гениальной певицей 1 ноября 1843 года во время гастролей в Петербурге Итальянской оперы и отныне называл это событие «священным днём» своей жизни. Любовь, которую испытывал Тургенев к Полине Виардо, была необычной, романтической. Средневековое рыцарство со священным культом «прекрасной дамы» светилось в ней. В демократическом кружке Некрасова и Белинского, а потом и Чернышевского с Добролюбовым приземлённее и проще смотрели на «таинственные отношения» между мужчиной и женщиной и к романтическому чувству Тургенева относились с иронической улыбкой. Тем не менее, до самой старости Тургенев любил избранницу своего сердца свежо и молодо, весенним чувством первой любви, в которой чувственность поднималась до чистейшего духовного огня.
Весной 1863 года Полина Виардо простилась с парижской публикой и переехала с семьей в немецкий город Баден-Баден. Тургенев приобрел здесь участок земли, прилегавший к вилле Виардо, и построил дом. Связи писателя с Россией ослабевали. Если раньше его, как перелётную птицу, с наступлением весенних дней неудержимо тянуло в Россию, то теперь наезды в Москву и Петербург стали торопливыми.
Духовная бесприютность, идейная смута, овладевшие Тургеневым в связи с крахом либеральных надежд, ещё сильнее прибивали писателя к чужой семье, которую он считал своею и в которой его все любили. В России же он видел теперь лишь брожение, отсутствие всего твёрдого и определившегося. «Все наши так называемые направления – словно пена на квасу: смотришь – вся поверхность покрыта, – а там и ничего нет, и след простыл…» «Говорят иные астрономы, что кометы становятся планетами, переходя из газообразного состояния в твёрдое; всеобщая газообразность России меня смущает – и заставляет думать, что мы ещё далеки от планетарного состояния. Нигде ничего крепкого, твёрдого – нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях – в самом народе этого нет».
В таком настроении Тургенев и начал работу над романом «Дым», который был опубликован в мартовском номере «Русского вестника» за 1867 год. Исполненный глубоких сомнений и слабо теплящихся надежд, «Дым» резко отличается от всех предшествующих романов писателя. В нём отсутствует типичный герой, вокруг которого организуется сюжет. Литвинов далёк от своих предшественников – Рудина, Лаврецкого, Инсарова и Базарова. Это человек не выдающийся, не претендующий на роль общественного деятеля первой величины. Он стремится к скромной и тихой хозяйственной деятельности в одном из отдалённых уголков России. Мы встречаем его за границей, где он совершенствовал свои агрономические и экономические знания, готовясь стать грамотным землевладельцем.
Рядом с Литвиновым – Потугин. Его устами как будто бы высказывает свои идеи автор. Но не случайно у героя такая фамилия: он потерял веру и в себя, и в мир вокруг. Его жизнь разбита безответной, несчастной любовью.
Наконец, в романе отсутствует и типичная тургеневская героиня, способная на глубокую и сильную любовь, склонная к самоотвержению и самопожертвованию. Ирина развращена светским обществом и глубоко несчастна: жизнь людей своего круга она презирает, но в то же время не может от неё освободиться.
Роман необычен и в основной своей тональности. В нём играют существенную роль не очень свойственные Тургеневу сатирические мотивы. В тонах памфлета, например, рисуется в «Дыме» русская революционная эмиграция. Сатирически изображается придворная среда в сцене пикника генералов в Баден-Бадене.
Непривычен и сюжет романа. Разросшиеся в нём сатирические картины, на первый взгляд, сбиваются на отступления, слабо связанные с сюжетной линией Литвинова. Монологи Потугина выпадают из основного сюжетного русла романа.
После выхода «Дыма» в свет критика самых разных направлений отнеслась к нему холодно: её не удовлетворила ни идеологическая, ни художественная сторона романа. Говорили о нечёткости авторской позиции, называли «Дым» романом антипатий, в котором Тургенев выступил в роли пассивного, ко всему равнодушного человека. Либералы были недовольны сатирическим изображением «верхов». «Почвенники» (Достоевский, Страхов) возмущались «западническими» монологами Потугина. Отождествляя героя с автором, они упрекали Тургенева в презрительном отношении к России, в клевете на русский народ и его историю. Говорили, что талант Тургенева иссяк, что его роман лишён художественного единства.
Тезис о падении романного творчества Тургенева оспорен и отвергнут в работах Г. А. Бялого и А. Б. Муратова, которые предпочитают говорить об особом характере этого романа, о новых принципах его организации. И действительно, «Дым» – роман по-новому цельный, с особой художественной организацией сюжета. Он создавался в эпоху кризиса общественного движения 1860-х годов, в период идейного бездорожья, когда старое разрушается, а новое ещё не нарождается.
В романе «Дым» люди потеряли ясную, освещавшую их жизнь цель, смысл жизни заволокло туманом. Герои живут и действуют впотьмах: спорят, ссорятся, суетятся, бросаются в крайности. Им кажется, что они попали во власть каких-то тёмных стихийных сил. Как отчаявшиеся путники, сбившиеся с дороги, они мечутся в поисках её, натыкаясь друг на друга и разбегаясь в стороны. Их жизнью правит слепой случай. В лихорадочной скачке мыслей одна сменяет другую, но никто не знает, куда примкнуть, на чём укрепиться, где бросить якорь.
В этой сутолоке человек теряет уверенность в себе, мельчает, тускнеет. Гаснут яркие личности, глохнут духовные порывы. Образ «дыма» – беспорядочного людского клубления, бессмысленной духовной круговерти – проходит через весь роман и объединяет все его эпизоды в симфоническое художественное целое. Развернутая его метафора даётся к концу романа, когда Литвинов, покидающий Баден-Баден, наблюдает из окна вагона за беспорядочным кружением дыма и пара: «День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман ещё держался и низкие облака заволокли всё небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более тёмными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же… Однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда ветер менялся, дорога уклонялась – вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление… Он сидел один в вагоне: никто не мешал ему. “Дым, дым”, – повторил он несколько раз; и всё вдруг показалось ему дымом, всё, собственная жизнь, русская жизнь – всё людское, особенно всё русское. Всё дым и пар, думал он; всё как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности всё то же да то же; всё торопится, спешит куда-то – и всё исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул – и бросилось всё в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и – ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы. Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарёва, у других, высоко– и низкопоставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей… Дым, повторял он, дым и пар. Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей – и даже всё то, что проповедовал Потугин… дым, дым, и больше ничего. А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул».
В романе действительно ослаблена единая сюжетная линия. От неё в разные стороны разбегается несколько художественных ответвлений: кружок Губарёва, пикник генералов, история Потугина и его беседы с Литвиновым. Но эта сюжетная рыхлость по-своему содержательна. Вроде бы уходя в стороны, Тургенев добивается широкого охвата жизни в романе. Единство же книги держится не на фабуле, а на внутренних перекличках разных сюжетных мотивов. Везде проявляется ключевой образ «дыма», образ жизни, потерявшей смысл.
Отступления от основного сюжета, значимые сами по себе, отнюдь не нейтральны по отношению к нему: они многое объясняют в любовной истории Литвинова и Ирины. В жизни, охваченной беспорядочным, хаотическим движением, трудно человеку быть последовательным, сохранить свою целостность, не потерять себя.
Сначала мы видим Литвинова уверенным в себе и достаточно твёрдым. Он определил для себя скромную жизненную цель – стать культурным сельским хозяином. У него есть невеста Татьяна, девушка добрая и честная, из небогатой дворянской семьи. Но закружившись в баденском вихре, Литвинов быстро теряет себя, попадает во власть неотвязных людей с их противоречивыми мнениями, с их душевной сутолокой и метаниями. Тургенев добивается почти физического ощущения того, как «дым» заволакивает сознание Литвинова: «С самого утра комната Литвинова наполнилась соотечественниками: Бамбаев, Ворошилов. Пищалкин, два офицера, два гейдельбергские студента, все привалили разом…» (Здесь и далее курсив мой – Ю. Л.). И когда после бесцельной и бессвязной болтовни Литвинов остался один и «хотел было заняться» делом, «ему точно копоти в голову напустили». И вот герой с ужасом замечает, «что будущность, его почти завоёванная будущность, опять заволоклось мраком». Литвинов начинает задыхаться в окружающем его и проникающем в него «дыме». «С некоторых пор и с каждым днём чувства Литвинова становились всё сложнее и запутаннее; эта путаница мучила, раздражала его, он терялся в этом хаосе. Он жаждал одного: выйти наконец на дорогу, на какую бы то ни было, лишь бы не кружиться более в этой бестолковой полутьме».
Именно в состоянии потерянности герой и попадает во власть любовной страсти к Ирине. Она налетает как вихрь и берёт в плен всего человека. И для Литвинова, и для Ирины в этой страсти – единственный живой исход и спасение от духоты окружающей жизни. Ирина признаётся, что ей «стало уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете», что, встретив «живого человека посреди этих мёртвых кукол», она обрадовалась ему, «как источнику в пустыне».
Сама катастрофичность, безрассудность и разрушительность этого чувства – не только следствие трагической природы любви, но ещё и порождение особой общественной атмосферы, этот трагизм усугубляющей. Неслучайно, по-видимому, Л. Н. Толстой в «Анне Карениной» подхватил этот мотив: объяснение Анны и Вронского сопровождает свист метельной круговерти, порывы снежной бури в Бологом. Да и портрет Анны при первой встрече её с Вронским напоминает портрет Ирины. На Ирине Ратмировой «было чёрное креповое платье с едва заметными золотыми украшениями; её плечи белели матовою белизной, а лицо, тоже бледное под мгновенною алою волной, по нём разлитою, дышало торжеством красоты, и не одной только красоты: затаённая, почти насмешливая радость светилась в полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей».
Тот же преизбыток душевных сил, вырывающихся из-под контроля, ловит Вронский в портрете Анны Карениной: «Блестящие, казавшиеся тёмными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживлённость, которая играла в её лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею её румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял её существо, что мимо её воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против её воли в чуть заметной улыбке».
Мы видим среду, в которой живёт Ирина: придворный генералитет, цвет правящей страной партии. В сцене пикника генералов Тургенев показывает политическую и человеческую ничтожность этих людей. Пошлые, трусливые и растерянные, они открыто выступают против реформ, ратуя за возвращение России назад, и чем дальше, тем лучше. Их лозунг: «Вежливо, но в зубы!»
В атмосфере всеобщего «задымления» роман Литвинова и Ирины прекрасен своей порывистостью, безоглядностью и какой-то огненной, разрушительной, опьяняющей красотой. Нo с первых страниц понимаешь, что эта связь – на мгновение, что она тоже плод клубящейся бессмыслицы, царящей вокруг. Литвинов смутно сознаёт, что его предложение начать с Ириной новую жизнь и безрассудно, и утопично: оно продиктовано не трезвым умом, а безотчётным порывом. Ирина тоже понимает, что в её характере произошли необратимые перемены. «Ах! мне ужасно тяжело! – воскликнула она вдруг и приложилась лицом к краю картона. Слёзы снова закапали из её глаз… Она отвернулась: слёзы могли попасть на кружева».
Ясно, что светский образ жизни стал второй её натурой. И эта вторая натура берёт верх над живым чувством любви в решительную минуту, когда Ирина отказывается бежать с Литвиновым. Обречённость этой любви подчёркивает в романе дважды повторяющийся образ пленённой бабочки. В момент любовного объяснения Литвинова и Ирины она тщетно бьётся между занавесом и окном:
«– Ах! я люблю вас! – вырвалось наконец глухим стоном из груди Литвинова, и он отвернулся, как бы желая спрятать своё лицо.
– Как, Григорий Михайлыч, вы… – Ирина тоже не могла докончить речь и, прислонившись к спинке кресла, поднесла к глазам обе руки. Вы… меня любите?
– Да… да… да, – повторил он с ожесточением, всё более и более отворачивая своё лицо.
Всё смолкло в комнате; залетевшая бабочка трепетала крыльями и билась между занавесом и окном.
Первый заговорил Литвинов.
– Вот, Ирина Павловна, – начал он, – вот то несчастье, которое меня… поразило, которое я должен бы был предвидеть и избежать, если б, как и тогда, как в то московское время, я не попал тотчас в водоворот. <…>
Литвинов опять умолк; бабочка по-прежнему билась и трепетала. Ирина не отнимала рук от лица».
Сатирическими красками рисует Тургенев в романе русскую революционную эмиграцию во главе с Губарёвым. На новом материале писатель развивает здесь тему грибоедовской «репетиловщины» – «шумим, братец, шумим!». Устами Потугина Тургенев даёт ей нелицеприятную характеристику, в чём-то перекликающуюся с той оценкой «молодой эмиграции», которую дал Герцен в седьмой части «Былого и дум»:
«Г-н Губарёв захотел быть начальником, и все его начальником признали. Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; нескоро мы от них отделаемся. Нам во всём и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет… теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались… <…> Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился – старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки! Мы толкуем об отрицании как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да ещё, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу».
Западнические идеи Потугина Тургенев пытается представить как развитие идей В. Г. Белинского, который в 1848 году в рецензии на четвертый выпуск «Сельского чтения» утверждал, что «народ – сила охранительная, консервативная». Спасение России критик видел в успехах «цивилизации и просвещения»: «Путь мирный и спокойный, ручающийся за достижение великой цели общего благосостояния! Пётр Великий направил Россию на этот путь и указал ей её цель…» Белинский считал, что «во всякой коренной реформе, касающейся всего государства, только то действительно, что проникает в народ». Но народ «своею инстинктивною преданностью обычаю, привычке противится всякому движению вперёд, всякому успеху и медленно, с упорством поддаётся натиску врывающихся к нему сверху нововведений». Этот «натиск нововведений» и призвана осуществлять русская интеллигенция.
В спорах с радикалами Тургенев часто опирался на эти мысли своего учителя. «Начиная с греков, родоначальников европейской цивилизации, – утверждал Белинский, – у всех европейских народов высшие сословия были представителями образования и просвещения, по крайней мере, везде то и другое начиналось с них и от них шло к народу. <…> Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно уравновешивается другим. Народ – почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность – цвет и плод этой почвы. Развитие всегда и везде совершалось через личности, и потому-то история всякого народа так похожа на ряд биографий нескольких лиц. История показывает, как часто случалось, что один человек видел дальше и понимал лучше всего народа то, что нужно было народу, один боролся с ним и побеждал его сопротивление, и самим народом причислялся потом за это к числу его героев».
Подхватывая эти мысли Белинского, в чём-то схожие с теорией Родиона Раскольникова у Достоевского, Потугин считает, что Россия – глубоко отставшая европейская страна, нуждающаяся в разумном перенесении плодов западной цивилизации на свою почву: «Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берёте не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов – так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок её переварит по-своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Пётр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ; не мудрствуя, не церемонясь, Пётр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва – точно вышло нечто чудовищное, а потом – началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашёл, чем их заменить – и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берётся перевести любую страницу из Гегеля… да-с, да-с, из Гегеля… не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдёт и в других сферах. Весь вопрос в том – крепка ли натура? а наша натура – ничего, выдержит: не в таких была передрягах. <…> Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, – цивилизации, – да, да, это слово ещё лучше, – и люблю её всем сердцем, и верю в неё, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци…ви…ли…зация (Потугин отчетливо, с ударением произнёс каждый слог) – и понятно, и чисто, и свято…»
Тургеневский Потугин неспроста возбудил всеобщее недовольство современников, которые склонны были полностью отождествлять его с автором. Действительно, в своих речах Потугин во многом декларирует убеждения Тургенева. Но с другой стороны, Потугин лишён идеализации: он велеречив и болтлив под стать всем другим героям романа. Это человек неловкий, неустроенный в жизни, диковатый и бесприютный. Даже юмор его уныл, а обличительные речи отзываются не столько желчью, сколько печалью. В своих критических «потугах» герой часто хватает через край, впадает в шарж и карикатуру. Есть в его речах нигилистическая бравада русского либерального западника. Некоторые его высказывания оскорбительны для национального достоинства русского человека, хотя Тургенев и хочет внушить читателю, что сам Потугин страдает от своей желчности и ворчливости, что его выпады – жест отчаяния, порождённый внутренним бессилием потерянного человека.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































