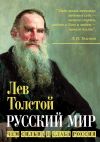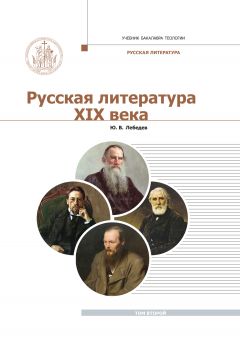
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Катерина как трагический характер
Определяя сущность трагического характера, Белинский сказал: «Что такое коллизия? – безусловное требование судьбою жертвы себе. Победи герой трагедии естественное влечение сердца… – прости счастье, простите радости и обаяния жизни!.. Последуй герой трагедии естественному влечению своего сердца – он преступник в собственных глазах, он жертва собственной совести…»
В душе Катерины сталкиваются друг с другом два этих равновеликих и равнозаконных побуждения. В доме Кабановых, где вянет и иссыхает всё живое, Катерину одолевает тоска по утраченной гармонии. Её любовь сродни желанию поднять руки и полететь. От неё героине нужно слишком много. Любовь к Борису, конечно, её тоску не утолит. Не потому ли Островский усиливает контраст между высоким любовным полётом Катерины и бескрылым увлечением Бориса?
Судьба сводит друг с другом людей, несоизмеримых по глубине и нравственной чуткости. Борис живёт одним днём и едва ли способен всерьёз задумываться о нравственных последствиях своих поступков. Ему сейчас весело – и этого достаточно: «Надолго ль муж-то уехал?.. О, так мы погуляем! Время-то довольно… Никто и не узнает про нашу любовь…» – «Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю!.. Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?» Какой контраст! Какая полнота свободной любви в противоположность робкому Борису!
Душевная дряблость героя и самоотверженность героини наиболее очевидны в сцене последнего их свидания. Тщетны надежды Катерины: «Ещё кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела». «Кабы», «может быть», «какую-нибудь»… Слабое утешение! Но и тут она находит силы думать не о себе. Это Катерина просит у любимого прощения за причинённые ему тревоги. Борису же и в голову такое прийти не может. Где уж там спасти, даже пожалеть Катерину он толком не сумеет.
Добролюбов проникновенно увидел в конфликте «Грозы» эпохальный смысл, а в характере Катерины – «новую фазу нашей народной жизни». Но, идеализируя в духе популярных тогда идей женской эмансипации свободную любовь, он обеднил нравственную глубину Катерины. Колебания её в знаменитой сцене с ключом, горение её совести, покаяние Добролюбов счёл «невежеством бедной женщины, не получившей теоретического образования».
Объясняя причины всенародного покаяния героини, не будем повторять вслед за Добролюбовым слова о «суеверии», «невежестве», «религиозных предрассудках». Не увидим в «страхе» Катерины трусость и боязнь внешнего наказания. Подлинный источник покаяния героини в другом: в её совестливости. «Какая совесть!.. Какая могучая славянская совесть!.. Какая нравственная сила… Какие огромные, возвышенные стремления, полные могущества и красоты», – писал В. М. Дорошевич о Катерине в исполнении актрисы П. А Стрепетовой.
С. В. Максимов рассказывал, как ему довелось сидеть рядом с Островским во время первого представления «Грозы» с Л. П. Никулиной-Косицкой в роли Катерины. Островский смотрел драму молча, углубленный в себя. Но в той «патетической сцене, когда Катерина, терзаемая угрызениями совести, бросается в ноги мужу и свекрови, каясь в своём грехе, Островский весь бледный шептал: “Это не я, не я: это – Бог!” Островский, очевидно, сам не верил, что он смог написать такую потрясающую сцену».
Пройдя через грозовые испытания, героиня нравственно очищается и покидает этот греховный мир с сознанием своей правоты: «Кто любит, тот будет молиться». «Смерть по грехам страшна», – говорят в народе. И если Катерина смерти не боится, то грехи искуплены. Её уход возвращает нас к началу трагедии. Смерть освящается той же полнокровной и жизнелюбивой религиозностью, которая с детских лет вошла в душу героини. «Под деревцем могилушка… Солнышко её греет… птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут…». Её смерть – это последняя вспышка одухотворённой любви к Божьему миру: к деревьям, птицам, цветам и травам. Монолог о могилушке – проснувшиеся метафоры, народная мифология с её верой в бессмертие. Человек, умирая, превращается в дерево, растущее на могиле, или в птицу, вьющую гнездо в его ветвях, или в цветок, дарящий улыбку прохожим, – таковы постоянные мотивы народных песен о смерти. Уходя, Катерина сохраняет все признаки, которые, согласно народному поверью, отличали святого: она и мёртвая, как живая. «А точно, ребяты, как живая! Только на виске маленькая такая ранка, и одна только, как есть одна, капелька крови». Гибель Катерины в народном восприятии – это смерть праведницы. «Вот вам ваша Катерина, – говорит Кулигин. – Делайте с ней, что хотите! Тело её здесь, возьмите его: а душа теперь не ваша: она теперь перед Тем Судией, Который милосерднее вас».
О том, что «народное православие» прощало людям при особых обстоятельствах даже грех самоубийства, а порой даже причисляло таких людей к числу святых великомучеников, свидетельствуют не только факты массового самосожжения старообрядцев, но и то, что один из вологодских страдальцев XVI века Кирилл Вельский, утопившийся в реке, был причислен к лику святых и попал в православные святцы. Он был слугой у жестокого новгородского наместника. Однажды, спасаясь от его гнева, Кирилл утопился в реке Ваге. Его, сочтя самоубийцей, предали земле не на православном кладбище, а на берегу реки. Но вскоре на могиле Кирилла стали совершаться чудеса. Тело его нашли нетленным, перенесли в специально выстроенную часовню и установили местное празднование 9 июня.
Симпатии Островского склоняются к «народному православию», отцы города предстают у него лишёнными какого бы то ни было авторского сочувствия. Ведь «мироотречные» крайности органичны для столпов города Калинова именно в той мере, в какой они, беззастенчиво обирая малого и слабого, пытаются остановить ропот и возмущение, затормозить и даже «прекратить» живую жизнь. Цепляясь за букву, за обряд, они предают сам дух православия. Они-то в первую очередь и несут ответственность за «грозу», они-то и провоцируют трагедию Катерины.
В то же время полного тождества между древним язычеством и христианством быть не могло. Отталкивание от несовершенных проявлений христианства исторического всегда порождало опасность выхода народного сознания из круга догматических православно-христианских представлений, опасность уклона в сектантство или в поэтизацию древних фольклорных формул, в обольщение поэтической стороною славянской мифологии. Художественно одарённая натура Катерины как раз и впадает в этот «соблазн». Островский не мыслит, однако, русской души без этой мощной и плодотворной поэтической первоосновы, являющейся неисчерпаемым источником художественной фантазии и художественной одарённости народа.
Драмы Островского второй половины 1860-х годов
После «Грозы» «шекспировскую трагедию страстей на русской почве» Островский представил в пьесе «Грех да беда на кого не живёт» (1862). Мотив супружеской измены в ней осмыслен по-новому. Купец Лев Краснов, натура сильная, честная и страстная, глубоко любит свою Татьяну, дочь отставного приказного, вышедшую за «лавочника» замуж не по любви. Краснов боготворит жену и делает всё возможное, чтобы заслужить её ответную любовь. Но Татьяна увлекается заезжим дворянином Бабаевым, который ухаживал за ней в девичестве, а теперь от нечего делать решил завести «лёгкую интрижку». «От мужа только в гроб, больше никуда!»– кричит в порыве отчаяния Краснов и убивает жену.
Однако из этой трагедии читатель и зритель не выносят мрачного и безотрадного чувства. Слова осуждения произносит над преступником православный христианин дедушка Архип: «Что ты сделал? Кто тебе волю дал! Нешто она перед тобой одним виновата? Она прежде всего перед Богом виновата, а ты, гордый, самовольный человек, ты сам своим судом судить захотел. Не захотел ты подождать милосердного суда Божьего, так и сам ступай теперь на суд человеческий! Вяжите его!»
Обращаясь к болезненному внуку Афоне, которому ничего в этой жизни не мило, дед Архип говорит: «Оттого тебе и не мило, что ты сердцем не покоен. А ты гляди чаще да больше на Божий мир, а на людей-то меньше смотри; вот тебе на сердце и легче станет. И ночи будешь спать, и сны тебе хорошие будут сниться <…> Красен, Афоня, красен Божий мир! Вот теперь роса будет падать, от всякого цвета дух пойдёт; а там звёздочки зажгутся, а над звёздочками, Афоня, наш Творец милосердный. Кабы мы получше помнили, что Он милосерд, сами были бы милосерднее».
Драма «Грех да беда на кого не живёт» была опубликована в журнале Достоевского «Время» (1863, № 1) и оказала заметное влияние на его роман «Подросток» (1875), в котором европейскому «цивилизатору» Версилову, так и не преодолевшему муки раздвоения, противопоставляется человек из народа – Макар Долгорукий. С этим героем связано завершение религиозного и художественного замысла романа. Макар Долгорукий во внешнем и внутреннем, духовном облике воплощает то благообразие, которое утрачено высшим сословием и по которому так томится душа подростка. Душа Макара, как и душа дедушки Архипа, – весёлая, безгрешная. Она вся выражается в его беззлобном, радостном смехе.
Вместе с тем нельзя не прислушаться к мнению театрального критика начала ХХ века А. Р. Кугеля, проводившего жёсткую разграничительную черту между христианством Островского и христианством Достоевского: «Казалось бы, на первый взгляд, между духом Достоевского и Островского есть то общее, что первый считал себя и многими по сей день считается проповедником христианства, а во втором, при желании, так же легко найти “евангельский дух”. И тем не менее нельзя себе представить более яркого противоположения темпераментов и душ, какое имеется между Достоевским и Островским. Достоевский стремился проповедовать Евангелие – но по-евангельски ли? Островский же и не думал в своих произведениях заниматься учительством и апостольством, однако в произведениях его светятся кротость и радость любви. Достоевский, если и христианин, то буйствующий. Он скорее клирик на художественной подкладке, и притом отменно требовательный и заражённый гордыней, подобно “великому инквизитору”, в себе ощущавшему полноту истины. Островский же – мирянин, напоминающий те легендарные, чистые времена, когда клира не было, а всякий верующий, глядя на мир детскими глазами, не мудрствуя, излагал своё учение без всякой заботы о законченном круге познания. Поэтому, когда Достоевский творит героев своих, то так и чувствуется, что он себя видит высоко – высоко над ними, как пастырь, стоящий на горе над паствой. А Островский, человек мирской, пишет своих героев, едя с ними одну и ту же кашу, теснясь спинами и стукаясь затылками. Он общинник жизни, живёт с людьми и о людях рассказывает. И потому его театр есть настоящее и подлинное учение о добре, нежной снисходительности и высшем сострадании. Требовательность христианства у Достоевского переходит в деспотизм, в слепую озлобленность и ожесточение, и это не в одних его националистических писаниях публициста, но и в романах, где всегда чувствуется присутствие карающего, мстительного Бога. “Вынуждаю быть христианином, ибо вне – нет спасения”, – вот основной лейтмотив Достоевского. У Островского нет ни понуждения, ни трагических угроз; он лишь рисует радостную жизнь, если она проникнута добротой и незлобием»[14]14
Кугель А. Р. Русские драматурги. Очерки театрального критика. М., 1934. – С. 55–56.
[Закрыть].
В «Шутниках» (1864) Островский выводит на сцену характеры и коллизии, близкие творчеству Достоевского. Бедный отставной чиновник Оброшенов вынужден играть роль шута у богатых самодуров, чтобы прокормить своих дочерей. В аналогичной ситуации оказывается провинциальный учитель Корпелов в «сценах из жизни захолустья» «Трудовой хлеб» (1874).
Но, в отличие от героев Достоевского, эти люди сохраняют у Островского жизнерадостное мироощущение. Критик А. М. Скабичевский обратил внимание, что «Островский заставляет проповедовать свою жизнерадостность таких убогих людей, от которых менее всего можно было бы ожидать этого. <…> Нищий пропойца и неудачник Корпелов после того, как потерял единственную радость и утешение своё в лице Наташи, которая, выйдя замуж, сделалась уже чужая ему, и ничего ему более не остаётся, как шататься из города в город, прося подаяния, вдруг разражается целым гимном во славу жизни хотя бы самой что ни на есть нищенской: “Да разве жизнь-то мила только деньгами, разве только и радости, что в деньгах? А птичка-то поёт – чему она рада, деньгам, что ли? Нет, тому она рада, что на свете живёт. Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь – и бедная, и горькая – всё радость. Озяб да согрелся – вот и радость! Голоден да накормили – вот и радость. Вот я теперь бедную племянницу замуж отдаю, на бедной свадьбе пировать буду, – разве это не радость! Потом пойду по белу свету бродить, от города до города, по морозцу, по курным избам ночевать… (Поёт и пляшет.)
Пойду ли я по городу гулять,
Пойду ли я по Бежецкому.
Куплю ли я покупку себе…”
Это мировоззрение жизнерадостное, всепрощающее и примиряющее вас со всеми частными злами и напастями, во имя веры в вековечную премудрость, ведущую мир ко всеобщему благу, составляет глубоко народную черту произведений Островского, и одно это ставит его на недосягаемую высоту».
В финале «Шутников» шестидесятилетний самодур Хрюков после неудачной попытки сделать содержанкой старшую дочь Оброшенова Анну Павловну решает жениться на ней. Отец умоляет её принять это предложение: «Злодей твой не станет того просить, что отец просить будет». И она даёт согласие на брак ради отца и сестры: «Я умереть за вас готова, только бы вы были счастливы!»
Столь же горестна судьба Кисельникова в драме «Пучина» (1865). Пьеса состоит их четырёх сцен, в каждой из которых герой последовательно предстаёт в разных возрастных стадиях. В первой сцене ему 22 года, во второй – 29, в третьей – 34, а в последней – 39. Даётся одна из версий судьбы молодого интеллигента. Он старится на глазах у зрителей. В начале герой полон радужных надежд, влюблён без памяти, потом он раздражителен, удручён бедностью. В третьей сцене Кисельников уже раздавлен судьбой и стоит «на волос от каторги». А в последней перед нами полупомешанный человек. В минуту просветления герой говорит: «Мы всё продали: себя, совесть, я было дочь продал…»
Но отказываясь стать содержанкой богатого барина Грознова, Лиза Кисельникова даёт согласие на брак с честным человеком, однокашником отца Погуляевым. Такой «счастливый» финал, как всегда у Островского, несёт в себе дозу горечи. Погуляев говорит Лизе: «Ведь вы меня не любите, вы от нужды за меня идёте». А Лиза отвечает: «Всё равно, ведь я никого не люблю».
Не менее драматичен «счастливый» финал комедии «На бойком месте» (1865). Аннушка, бесправная сестра Вукола Бессудного, богатого и вороватого содержателя постоялого двора, влюблена в помещика Миловидова, проводящего жизнь в кутежах и любовных шашнях. Простушке Аннушке он кажется блестящим барином: «А по мне, хоть бы в работницы взял, так я бы рада была».
Молодая жена Бессудного Евгения уверяет Миловидова, что Аннушка ему неверна. Жертва клеветы хочет отравиться. Лишь по счастливой случайности ей удаётся убедить Миловидова в своей невинности. Растроганный барин берёт девушку к себе. «Ты, стало быть, жениться хочешь?» – ревниво спрашивает его Евгения. «Моё дело!» – отвечает Миловидов. Ясно, что впереди у Аннушки нелёгкая судьба.
И всё же в пьесах второй половины 1860-х годов в женских характерах, страдающих от самодурства, появляются новые черты. Анна Оброшенова, Лиза Кисельникова, Аннушка Бессудная сами вершат свою судьбу. Они не смиряются, а принимают горькие и подчас драматические решения с вызовом, с сознанием всей их тяжести и всей их ответственности. Ими движет или искреннее чувство любви, или желание спасти ближних от неминуемой катастрофы. В их решениях уже нет той покорности, с какой вели под венец, как на заклание, бедную невесту из одноимённой ранней пьесы Островского.
Историческая драматургия Островского
За конкретными купеческими характерами в «Грозе» таится у Островского неисчерпаемая глубина, дышит тысячелетняя история. Интерес к ней возник у писателя давно. Его питали непосредственные жизненные впечатления. Многое давали поездки из Москвы в Щелыково по древнему русскому пути. Вот Троице-Сергиева лавра, где великий подвижник Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву, а потом, во времена смуты, Лавра выдержала осаду польско-литовских захватчиков. Сюда пришли в 1612 году с ополчением Минин и Пожарский и одержали победу над неприятелями, восстановили целостность русской земли.
Вот Переславль-Залесский, где Островский впервые услышал поэтическую легенду о берендеях. Неподалёку от города, на Берендеевом болоте, в центре его, сохранялись остатки какого-то древнего городища. В народной легенде рассказывалось, что в доисторические времена здесь существовало счастливое Берендеево царство с мудрым и добрым царём.
Вот Кострома, гостеприимный дом дядюшки, Павла Фёдоровича, ключаря кафедрального собора, известного книгочея и историка, знатока костромских древностей. Вместе с ним ходили не раз в Ипатьевский монастырь, осматривали комнаты Михаила Фёдоровича, первого царя из Дома Романовых. Сюда, после разгрома поляков народным ополчением Минина и Пожарского, прибыли московские послы с целью объявить Михаилу решение Земского собора и венчать его на царство. Здесь же, на центральной площади города, памятник спасителю царя, патриоту земли русской, костромскому крестьянину Ивану Сусанину.
Путешествие по Волге ещё более укрепило исторические чувства Островского. Да и пореформенное время, кризисное, переходное, взывало к исторической памяти и пробуждало к прошлому живой интерес. Значительных успехов достигла тогда историческая наука в двух её направлениях. Сторонники государственной школы, шедшие за С. М. Соловьёвым, считали высшим выражением исторической жизни нации сильное государство. Учёные демократической ориентации, вслед за Н. И. Костомаровым, говорили о необходимости децентрализации, о решающей роли антиправительственных народных движений и бунтов.
Историческая тема заняла тогда одно из ведущих мест и в русской драматургии у А. К. Толстого, Н. А. Чаева, Л. А. Мея, Д. В. Аверкиева и др. Русских драматургов привлекали, в основном, две эпохи отечественной истории: конец XVI века, период царствования Ивана Грозного с его неограниченным самовластием, и начало XVII века – время мятежей и смут, нашествия иноземцев на Русь и патриотических народных движений.
В исторических хрониках («Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино»), созданных в 1861–1866 годах, Островский обратился к эпохе смуты начала XVII века. Тщательно изучив все исторические документы, он вступил в полемику как с «государственниками», так и с «демократами». Первые утверждали, что историю творили русские цари, вторые видели смысл истории в нараставшей борьбе народа с царями, идеализируя вечевой строй и сепаратизм древнего Новгорода. Островский же в своих хрониках показал, что в смутные для России времена народ не бунтовал, а восстанавливал попранную Российскую государственность.
Хроника «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» открывается беседой двух нижегородских купцов Петра Аксёнова и Василия Лыткина. В этой беседе, являющейся экспозицией драмы, Островский передаёт общую атмосферу действия, знакомит нас с «мнением народным». Пётр Аксёнов, обращаясь к Лыткину, говорит: «…Сам ты знаешь, / Что вера гибнет, что ругатель-враг / Нас одолел, что православным тесно, / Что стон и плач сирот и горьких вдов, / Как дымный столб, на небеса восходит. / Вот, глупый человек, мы и толкуем, / Что легче смерть от острия меча, / Чем видеть, как ругаются святыней; /Вот и толкуем, как бы ополчиться / Да либо помереть уж, либо Русь / От иноземцев и воров очистить…» Не социальный протест, а инстинкт государственного единения и жгучая обида за осквернённые религиозные святыни увлекают простого новгородского купца Минина на великий патриотический подвиг:
Друзья и братья! Русь святая гибнет!
Друзья и братья! Православной вере,
В которой мы родились и крестились,
Конечная погибель предстоит.
Святители, молитвенники наши
О помощи взывают, молят слёзно,
Вы слышали их слёзное прошенье!
Поможем, братья, родине святой!
В смутное время, когда светские авторитеты падают окончательно, путеводным ориентиром для народа остаётся власть иная, не мирская, а духовная. Послания опального Патриарха Гермогена пробуждают национальное самосознание народа. Минин так говорит о шаткости мирской власти и о крепости духовной:
И те, которые за Патриарха,
Стоят не явственно, беды боятся.
А на него-то наша вся надежда,
Он наше утверждение и столп,
Он твёрдый адамант в шатаньи общем,
Он Златоуст второй, громит бесстрашно
Предателей. От нашей стороны
Он ждёт спасенья русскому народу,
И из темницы умоляет нас
Стоять за веру крепко, неподвижно.
Островский показывает, что в судьбах России участвуют не только живые, но и усопшие её праведники. В тонком сне является Минину преподобный Сергий, направляя его на патриотический подвиг:
…Сегодня поздней ночью,
Уж к утру близко, сном я позабылся,
Да и не помню хорошенько, спал я
Или не спал. Вдруг вижу: образница
Вся облилася светом; в изголовьи
Перед иконами явился муж
В одежде схимника, весь в херувимах,
Благословляющую поднял руку
И рек: «Кузьма! Иди спасать Москву!..»
Как и у Пушкина в «Борисе Годунове», помимо воли человеческой, в хронике действует высшая Воля, по-своему направляющая развитие действия. Эта Воля невидима, но Она принимает решительное участие в центральном событии пьесы. В исторических хрониках Она более открыта, чем в пьесах, посвящённых событиям современности. Островский историчен в передаче характеров русских людей начала XVII столетия: в то время все значительные национальные события принимали в сознании людей ярко выраженное религиозное осмысление. В драмах на современные темы эта Воля, как правило, почти не осознаётся людьми. Но она, тем не менее, проявляет себя. Над всеми героями и событиями царит у Островского не подвластный им полностью ход живой жизни, вносящий неожиданные и непредвиденные коррективы в действия и поступки героев его драм.
Исторические хроники не получили той оценки, какой они заслуживали, так как Островский не угодил в них господствующим настроениям эпохи. «Неуспех “Минина”, – писал он, – я предвидел и не боялся этого: теперь овладело всеми вечевое бешенство, и в Минине хотят видеть демагога (вождя, возглавившего бунтующий народ. – Ю. Л.). Этого ничего не было, и лгать я не согласен. Подняло Россию в то время не земство, а боязнь костёла, и Минин видел в земстве не цель, а средство. Он собирал деньги на великое дело, как собирают их на церковное строение… Нашим критикам подавай бунтующую земщину; да что же делать, коли негде взять? Теоретикам можно раздувать идейки и врать: у них нет конкретной поверки; а художникам нельзя: перед ними – образы… врать только можно в теории, а в искусстве – нельзя».
В исторических хрониках, следуя традиции пушкинского «Бориса Годунова», Островский проник в сам дух народа, достигая высшего историзма не только в точном следовании фактам, но и в самом художественном вымысле. И. С. Тургенев, познакомившись с историческими драмами Островского, писал: «Эдаким славным, вкусным, чистым русским языком никто не писал до него!.. Какая местами пахучая, как наша русская роща летом, поэзия!.. Ах, мастер, мастер этот бородач!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?