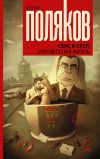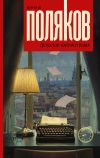Текст книги "Совдетство"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
28. Бабушка-троечница
А Вовка Петрыкин, уверенно шедший на серебряную медаль, срезался на выпускном экзамене по физике, да еще в присутствии инспектора РОНО, и вот уже второй месяц он лежит носом к стенке, ни с кем не разговаривает, не хочет учиться, говорит: «Пойду в армию и брошусь на амбразуру!»
Мне его жалко! Он так старался! И все ему в этом помогали. Дядя Витя, чтобы не мешать будущему медалисту готовить уроки, приделал к телевизору специальный наушник и смотрел футбол с выключенным звуком, беззвучно крича: «Г-о-о-о-о-л!» Другие передачи тетя Валя вообще запретила, мол, Володеньке мелькание экрана мешает сосредоточиться. Мой друг Мишка бегал на мультики к нам или к Петьке Коровякову. А вот мне все нипочем, я, например, способен одновременно кушать, делать уроки, коситься в телевизор, читать Жюля Верна и думать о Шуре Казаковой. Тимофеич может орать «Сапожники! Судью на мыло!», даже швырять тапочки в экран, мне и это нисколько не мешает. Но Вовка Петрыкин, несмотря на такие тепличные условия и вечную зубрежку, схватил «пару» по физике и скис. Слабак!
…Под букварем лежала тонкая (за две копейки) тетрадка для письма ученицы 1-го класса «Б» 348-й школы Анны Полуяковой, моей бабушки. Теплея сердцем, я перелистал страницы. Сначала шли, как и положено, неумелые палочки, крючочки, петельки, кружочки… За ними следовали детские каракули, отдаленно напоминающие русские буквы: перекошенное «А» с кривой перекладиной, уродливое «Б», похожее на объевшегося бегемотика, чудовищное «В», смахивающее на волдыри, а «Г» можно было принять за охромевшее «П»… С чем сравнить букву «Я», даже и не знаю… Головастик с двумя хвостиками, пожалуй…

Потом на страницах замелькали слова: «Мама», «Папа», «Миша», «Аня», «Клава», «Юра»… Неровные, корявые, не совпадающие по наклону с частыми линейками, буквы то и дело заезжали за поля или утопали в кляксах. Как результат внизу каждой страницы стояли: красная «тройка» с минусом и моя старательная подпись с завитушкой, как у Ольги Владимировны. Двоек бабушке я не ставил из уважения к возрасту.
…В 4 классе на уроке истории СССР Ольга Владимировна рассказывала, что при царе Россия была самой темной, необразованной страной, мало кто из народа умел читать и писать. Зато после революции сразу началась массовая ликвидация безграмотности – ликбез. Народным учителям по призыву партии всячески помогали комсомольцы и пионеры, в результате Советский Союз стал самой передовой страной всеобщей грамотности. Теперь даже в любой отдаленной избе при свете лампочки Ильича колхозники с интересом читают газеты, журналы и книги, переворачивая страницы не холеными барскими ноготками, а суровыми пальцами, покрытыми трудовыми мозолями, как выразился писатель Паустовский. Понятно?
Я поднял руку.
– Юра, ты хочешь спросить? – удивилась Ольга Владимировна. – По-моему, все и так ясно.
– Нет, не все.
– Ну, спрашивай!
– Если у нас всеобщая грамотность, почему тогда мои бабушки не умеют читать и писать?
– Обе?
– Обе.
– Странно. Где они живут?
– В Москве.
– Вот как?!
Класс обидно захихикал и стал перешептываться. Вовка Соловьев покрутил пальцем у виска, явно намекая на слабоумие всего нашего семейства, а Шура Казакова глянула на меня с томным разочарованием.
– И ничего смешного тут нет! – одернула хохотунов Ольга Владимировна. – Да, в данном конкретном случае мы имеем дело с пережитками прошлого, а они еще цепко держатся за нашу действительность. Думаю, Юра, не только твои бабушки остались неграмотными…
– Но вы же сказали, «всеобщая грамотность»!
– Всеобщая, Юра, не значит поголовная, – чуть покраснев, не сразу ответила учительница. – Ребята, у кого еще бабушки с дедушками неграмотные?
Стало тихо, потом послышались перешептывания, одноклассники смущенно переглядывались, не решаясь признаться в семейной отсталости. Наконец поднялись три осторожные руки.
– Вот видите, ребята! И ничего тут стыдного нет. Объясняется все просто: при царе бедному человеку получить образование было трудно и некогда, он работал с утра до вечера. А потом все силы на борьбу уходили. Революция. Гражданская война. Восстановление. Опять война. Опять восстановление…
– А потом? – спросил кто-то.
– Потом муж, семья, дети, хозяйство… Не до учебы, – тяжело вздохнула Ольга Владимировна. – Думаете, легко в сорок лет за парту садиться? Я вот тоже хотела после техникума педвуз окончить, но так и не собралась… Ладно! Поднимите еще раз руки, у кого есть в семье неграмотные!
Рук оказалось даже больше, чем прежде. Ольга Владимировна внимательно пересчитала и записала на бумажке, а потом торжественно к нам обратилась:
– Но вы, ребята, как пионеры, должны помочь своим неграмотным бабушкам и дедушкам! Научите их хотя бы читать по складам и писать. Стыдно ведь! Наши герои Землю облетели, а кто-то из советских людей даже элементарной грамоты до сих пор не знает, вместо подписи ставит крестик! Считайте, это вам задание на летние каникулы!
Вернувшись домой, я отыскал в письменном столе свой букварь и чистые тетрадки с частыми линейками, оставшиеся с 1-го класса. Начать «ликбез» я решил с бабушки Мани, которая ни в чем мне никогда не отказывала, даже разрешала в раннем детстве играть ее янтарным ожерельем. Когда мы в очередной раз приехали в гости на Овчинниковскую набережную, я увязался за бабушкой на кухню, дождался, пока она посадит в жаркую духовку «чудо» с кексом, и заявил:
– Ты должна научиться читать и писать!
– Зачем, внучок?
– Как зачем? – опешил я. – Космонавт Леонов в космос вышел, а ты вместо подписи крестик ставишь!
– Почему крестик? За пенсию я всегда сама расписываюсь. Меня еще Илья Васильевич, царствие ему небесное, выучил.
– А читать?
– Не успел. Потом Лида с Валей приставали, буквы показывали, да без толку. Если Господь памяти хорошей не дал, где же ее взять?
– Бог тут ни при чем! Давай еще раз попробуем! Станешь грамотной, будешь газеты и книги читать!
– Газеты мне Жоржик читает, а книжки по радио каждый день передают. Я носочек тебе вяжу и слушаю… Ну-ка, Юрочка, отойди, кекс посмотрю, не пригорел бы!
Зато бабушка Аня, услыхав мое предложение, аж подпрыгнула от радости:
– Ой, давай, давай!
– Мам, не смеши народ! – насупилась тетя Клава.
Но старушка, нацепив на нос мутные очки, уже рассматривала принесенный букварь.
– Глянь, козлик ну точно как у нас в Деменщине был. Яшкой звали. Я же так в школу хотела пойти, плакала, просилась… А как от хозяйства отлучишься? Мать с утра до ночи в поле, у соседа батрачила, весь дом с младшими на мне… А зимой – одни валенки на троих, по снегу босиком за семь верст не добежишь!
– Как это – одни валенки?
– Да вот так…
– И как же вы жили?
– Хорошо жили. Корова была, козы, куры… А в лаптях все, кроме старосты, почитай, ходили.
– А после революции?
– После революции другое дело! Как с голоду припухли, в Москву подались. Когда я на заводе работала, звали меня в школу. А тут сначала Мишка, потом и Клавка родились. Куда там учиться! Да еще Тимофея Дмитриевича, сердечного, трамвай зарезал…
– Как?
– А вот так: он же в деревне привык спьяну куражиться – ляжет посреди села, песни горланит, а телеги его объезжают со всем уважением. Драчун был тот еще! Как наши парни с фабричными стенка на стенку сходились, его всегда наперед выставляли. Разбаловался. А у трамвая рельсы – вот и не объехал…
– Мам, и охота вам на старости лет дурью маяться курам на смех! – надулась тетя Клава. – Помирать же скоро!
– А вот помру грамотной, глядишь, на том свете и зачтется!
Бабушка Аня на удивление быстро запомнила все буквы, к тому же многие она знала по вывескам «Хлеб», «Мясо», «Вино», «Продукты», «Хозтовары», «Одежда»… И уже скоро мы читали с ней по складам: «Луша мала», «Мама ушла», «У Муры усы», «У Мары трусы…» За чтение я ставил бабушке четверки и даже пятерки, которыми она особенно гордилась и показывала тете Клаве, но та, наоборот, почему-то сердилась и называла наши занятия «цирком шапито». Однако я упорно ходил в Рубцов переулок два раза в неделю. Вскоре бабушка читала по складам, не отдельные слова, а целые предложения и даже стихи. Путалась, конечно, запиналась, но сама себя тут же поправляла:
Котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит…
Как-то заглянула в комнату, чтобы занять пшена, Лия Давыдовна. Увидев, как мы с бабушкой, голова к голове, склонились над букварем и читаем по складам, соседка рассмеялась от удовольствия:
– Ах, какой же ты, Юрик, молодец! Бабушку на буксир взял. Тянешь к знаниям. Ну, просто пионер-герой. Чистой воды – Павлик Морозов!
Когда он вышла с пшеном, тетя Клава, сузив без того маленькие глазки и подозрительно глянув ей вслед, проскрипела:
– Мам, ты поняла?
– Что, Клавк?
– Глумится она над тобой.
– С чего это ты взяла?
– А с того! При чем тут Павлик Морозов?
– Его кулаки убили, – напомнил я.
– Во-от! Надсмехается она над тобой!
– Отстань! Не мешай учиться:
И лапочкой котик
Моет свой ротик,
А козлик седою
Трясет бородою.
Только вот с письмом у нас сразу не задалось. Во-первых, бабушка решила, что рисовать по линейкам буквы еще легче, чем читать букварь, она торопилась, брызгала чернилами, ставила кляксы и сердилась на перья, которые вместо прямой волосяной линии выводили толстую, как сарделька, загогулину. А усидчивостью бабушка не отличалась, сколько помню, всегда сновала между кухней и комнатой.
Во-вторых, у нее не гнулись два пальца на правой руке – средний и указательный. Когда ей было лет десять, она в поле порезалась серпом, а йода и зеленки тогда ни у кого не было. Начался антонов огонь – по-нашему, заражение крови. Отвезли бабушку в соседнее село к фельдшеру, но тот закричал на них: поздно, ничего нельзя сделать, зовите попа – соборовать! Но позвали знахарку-мордовку. Она сначала обмазала воспаленную руку теплым коровьим навозом, обернула мешковиной, дала выпить горького травяного отвара и велела так лежать два дня, пока от пота тюфяк не наволгнет. Потом старуха потребовала белой муки и свежих яиц. Их принесли прямо из-под кур. А за крупчаткой пришлось к соседу-мироеду бежать. Замесила мордовка тесто, как будто на лапшу, обмазала им бабушку с ног до головы да и запекла…
– Как это так – запекла? – обалдел я.
– А как хлеб запекают! Истопила печь, вымела угли с золой да и в под меня всю запихнула.
– Куд-а-а?
– В печку.
– Я думал, так только в сказках бывает. Разве человек в печку влезет?
– Эге! Еще и место останется. Мылись-то раньше в печи. Это тебе не ванна! Смоешь золу и как заново родился!
Потом знахарка отколупала с тела хлебную корочку, завязала в тряпицу, велела отнести на кладбище и зарыть, а бабушке дала сладкий травяной отвар, после которого она беспробудно спала два дня, и когда встала, жар прошел, рука не болела, только два пальца скрючились навсегда.
– Но зато я с того света вернулась!
– Ну, это понятно: мне гайморит тоже в поликлинике теплом лечили, – согласился я. – А вот зачем корку на кладбище закапывать?
– Чтобы смерть обмануть… Внучек, ты мне двойку не ставь, я буду стараться!
– Хорошо, так и быть – «тройка» с минусом.
– Поставь старой дуре тройку с плюсом! – приказала тетя Клава, когда бабушка снова метнулась на кухню. – Жалко тебе, что ли?
– Не могу. Оценка должна соответствовать знаниям, – твердо ответил я в точности как Ольга Владимировна.
Но потом у «первоклассницы» резко испортилось зрение, в глазах замелькали мушки. Одна, крупная, как слепень, норовила усесться как раз на те буквы, которые нужно было прочитать. И стало не до учебы.
…Я положил тетрадку на этажерку, глянул на ходики, обомлел и вскочил, чтобы бежать в парикмахерскую, но тут в комнату влетела со скворчащей сковородкой бабушка Аня: масло в чугуне еще пузырилось, чуть шевеля ноздреватые ломти жареного хлеба, искрящегося сахарной посыпью.
– На-кась, только не обварись! Присядь – подавишься!
– Я опаздываю!
– Стой, я тебе с собой заверну.
…Обжигая язык хрустящим сладким хлебом с молочной мякотью внутри, я прыгал через ступеньку, понимая, что могу безнадежно опоздать и тогда очередь придется занимать заново. Ногой открыв дверь, я выскочил на улицу и в ужасе застыл: на старушечьей лавочке у подъезда как ни в чем не бывало сидели давешние хулиганы. «Морячок» также крутил в пальцах финку, а «второгодник» наматывал на кулак ремень. И снова вокруг ни души: хоть кто бы вышел прогуляться… Нет, работает страна, план дает, коммунизм строит, а железнозубый участковый Антонов на своем мотоцикле ищет преступность в другом месте.
– Ну, как там бабушка? – ласково спросил Корень.
– Хорошо… – давясь хлебом, прохрипел я.
– Прожуй! – участливо посоветовал он. – А что это у тебя там? – он кивнул на газетный сверток, промокший масляными пятнами.
– Ситник жареный.
– На молоке?
– Угу.
– С сахаром?
– Угу.
– Оставишь!
– Причаливай, внучек! Разговор есть! – усмехнулся «морячок», подвинулся, освобождая для меня место, и ткнул в лавку финкой, чтобы я сел между ними.
– Я в парик-кмахерскую оп-паздываю…
– Не волнуйся, американец! В морге тебя подстригут!

29. Как меня оболванили
…В парикмахерскую я все-таки успел, хотя очередь свою чуть не пропустил, вбежав в зал в тот самый момент, когда потный папаша, занимавший за мной, пытался оторвать от коня вождя краснокожих, но тот намертво вцепился в лошадиную шею.
– Сынок, пойдем, кресло освободилось! Ну, пожалуйста!
– Не-ет! – отвечал парень утробным рыком.
– Мама сейчас из магазина придет и тебя налупит!
– Тебя она налупит!
Общественность наблюдали за этой неравной схваткой с молчаливым интересом, взрослые явно сочувствовали несчастному отцу, а дети смотрели с пугливым восхищением, не веря, что можно вот так роскошно изгаляться над родителем. Немолодая парикмахерша в белом, как у медсестры, халате стояла у входа в зал. Поджав густые лиловые губы, она нетерпеливо похлопывала узкой металлической расческой по ладони. На голове у нее возвышалось затейливое черноволосое сооружение, которое Лида называет «халой». Это такие плетеные булки. Наконец парикмахерша не выдержала:
– Гражданин, задерживаете обслуживание! Люди сидят-ждут, и у меня план, между прочим, горит. Или вы со своим собственным ребенком справиться не можете?
– Не могу!
– Тогда извините-подвиньтесь! Чья следующая очередь?
– Моя!
Народ с удивлением посмотрел на меня, мол, а это еще кто такой? В глазах общественности я выглядел самозванцем, нагло лезущим туда, где не стоял, а это для советского человека – явление недопустимое. Понять их можно: они пришли в парикмахерскую, когда я уже умчался к бабушке, и не подозревают, что я честно занимал за мамашей с самосвалом.
– А это еще кто такой вырядился? – строго спросил ветеран с газетой.
– Стань в конец, парень! – потребовал грузин в большой кепке.
Очередь помрачнела, словно грозовая туча, наползшая давеча на Москву.
– Я занимал… Я погулять выходил… Я только…
– Вот и гулял бы дальше, умник! И где вас только врать учат?
– Скажите им! – с мольбой обратился я к потному папаше.
– Правильно… Он перед нами стоял! – подтвердил бедный отец: ему удалось оторвать сына от конской шеи, но тот, изловчившись, намертво обнял ноги деревянного скакуна.
– Ну, тогда другое дело! Тогда конечно… – закивали ожидающие, буквально посветлев лицами. – Мальчик совершенно не врет! Очень приличный и хорошо одетый ребенок!
– Молодец, – похвалил ветеран. – Если прав – не уступай!
– Значит, говоришь, твоя очередь? – уточнила мастерица, смерив меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего.
– Моя.
– Тогда пошли, модник! Курточку сними. На крючок повесь. Не бойся – не украдут. Авоську свою туда же. В Сухуме брали?
– Ага.
Она усадила меня в кресло, похожее на зубоврачебное, и чуть опустила подставку для ног, очевидно, до меня стригся какой-то малолетний карапет. На полированной полке перед креслом были разложены инструменты: железные расчески с зубьями разной частоты, ножницы трех видов, опасная бритва и лохматый помазок, совсем неуместный в детской парикмахерской. Отдельно стоял пузырек, обмотанный резиновой трубкой с «грушей» на конце. Казалось, этот оранжевый удавчик уже проглотил один пузатый флакон с одеколоном и теперь обвился вокруг второго, чтобы сожрать и его. Сбоку, на стене, висела крупная фотография по-взрослому причесанного мальчика (такие поют по телевизору в детском хоре), а рядом – треугольный вымпел с золотой бахромой – «За победу в социалистическом соревновании».
В большом овальном зеркале я увидел себя, лохматого, испуганного, в глупой абстрактной рубахе – и затосковал. С малых лет, едва сажусь в парикмахерское кресло, меня охватывает чувство какой-то беспомощной покорности, ибо еще никогда стрижка ничем хорошим не заканчивалось. Наоборот, сбывались самые мрачные предчувствия. Не зря же ни один нормальный человек не спросит: «Где стригся?» Нет, он поинтересуется: «Где же это тебя так оболванили?»
Лукавая Лида обычно уверяет, будто я посвежел и стал похож на «хорошего мальчика». В крайнем случае, когда уж совсем обкорнают, она вздохнет: «Веселенькая прическа получилась…» Но стричься все равно надо. Я же не Робинзон Крузо, чтобы ходить косматым. Даже граф Монте-Кристо, едва сбежав из замка Иф, еще не выкопав клад, сразу постригся и сбрил бороду…
– Не бойся, – успокоила парикмахерша, заметив мое горькое томление. – Больно не будет!
– Я и не боюсь.
– Вижу. Чик-чик, и всё! – она накинула мне на плечи видавшую виды простынку и взъерошила мои волосы. – Как будем стричься? Опять «под скобку»? А может, пофасоним? Ты паренек модный! Хочешь так же? – мастерица показала на фотографию хорового мальчика.
– Нет, под полубокс.
– Тебе не пойдет!
– Так надо…
– Боксер, что ли?
– Угу.
– У нас тут, в церкви, тренируешься? – Она железной расческой, больно дергая, стала распрямлять мои волосы, которые в последнее время начали виться.
– Угу… – морщась, соврал я. – Второй юношеский.
– Хорошее дело! Мужчина должен уметь постоять за себя. Хулиганья у нас тут развелось. Домой с работы идешь и оглядываешься.
– А вы где живете?
– На Хапиловке. Жила. Улучшились. Теперь час до работы еду.
Парикмахерша взяла с полки черную электрическую машинку и поменяла насадку, как зубной врач меняет сверла в бормашине.
– Знаешь Хапиловку?
– Еще бы… Только что оттуда! А это не ваши дома заколоченные стоят?
– Наши, – вздохнула она, примериваясь к моему заросшему затылку.
– Пес тоже ваш?
– Нет, соседский. Дружок. Так и сидит?
– Лежит.
– Воет?
– Молчит.
– Видно, уже осип. Вот беда! Жалко бедолагу. Но и соседей понять можно. Как его в новую квартиру взять? Он же дворовый. Может, все-таки «под скобку»? У тебя лицо круглое, как у Колобка, полубокс не твой стиль.
– Полубокс. Мы на юг едем.
– Ну, смотри – я предупредила! – и она включила машинку, завывшую, точно отцовская электробритва «Харьков». – Не тряси ногами! За тобой черти, что ли, гнались?
«Хуже!» – подумал я, вспоминая, как сел на лавку, едва втиснувшись между двумя хулиганами, все-таки выследившими меня.
Корень отобрал мой газетный сверток, размотал и достал оттуда еще теплые жареные ломти. Один протянул «морячку», а другим захрустел сам, жмурясь от удовольствия.
– Вкусно! Моя бабка пересушивает, а твоя в самый раз делает! С мякишем, – громко чавкая, признался он. – Как тебе, Серый?
– Да, шамовка ништяк! – согласился «морячок», он нанизал хлеб на финку и равномерно обкусывал его с разных сторон. – Тебя как, внучек, звать-то?
– Юра.
– Хорошее имя. Ну, и про что тебя, Юра, легавый спрашивал?
– Про разное… Про вас спрашивал… Кто вы такие и чего от меня хотели.
– И что ты ответил?
– Ответил: ничего… Сказал, мы просто разговаривали…
– Не раскололся?
– Нет.
– Точно?
– Точно.
– А откуда ты этого мильтона знаешь?
– Он наш участковый. В общежитие к нам ходит.
– Молодец! – вдруг хлопнул меня по плечу «второгодник». – Надежный ты пацан! Мы видели, как он тебя колол. А ты кремень! И запомни, если к тебе тут кто-нибудь подвалит, говори: «Отзынь! А то будете иметь дело с Корнем и Серым». Сразу отвянут. Понял? Хлебушка тебе оставить?
– Не надо, я наелся.
– Молоток, скоро кувалдой станешь! Только не коси под американца! Не любим, – душевно попросил «морячок», доедая ситник.
– Под какого американца?
– В Буденновке бугры живут. На черных «тачках» катаются. Пацанята у них с гонором, как фирмачи. Мы их «американцами» зовем. Если попадаются, учим жизни. Понял? Мы-то думали сначала, ты оттуда! – Серый махнул в сторону поселка.
– Нет, я в Рыкунове переулке живу, в маргариновом общежитии.
– Значит, Сашку Сталина знаешь?
– Конечно, он в моем классе учится.
– Сталин – наш кореш! Привет ему с кисточкой! А чего ты дергаешься?
– Я же говорю… в парикмахерскую очередь занял.
– Так чего ж ты молчал? Дуй!
Выбегая из бабушкиного двора, я увидел, что курилка забита учениками школы шоферов, все они жадно дымили, пользуясь перерывом в занятиях, и шумная толпа тонула в сизом мареве.
…Треск машинки оборвался. Парикмахерша раскрыла лезвие и, скрежеща по волосам, подбрила мне затылок и виски.
– Вполне! Думала, будет хуже, – сама себя похвалила она.
Я глянул в зеркало и обомлел: на меня глядел какой-то незнакомый круглолицый парубок с кружком волос на самой макушке, как у кузнеца Вакулы в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ужас! По-всякому меня в жизни оболванивали, но таким идиотом я еще никогда не выглядел! Пока я приходил в себя, прикидывая, как, вернувшись домой, срежу ножницами эту волосяную тюбетейку на голове, парикмахерша схватила пульверизатор, пискнула несколько раз «грушей» и пустила в меня удушливое одеколонное облако.
– Не-ет… – взмолился я чуть не плача, но было поздно.
– В чем дело? – удивилась она, продолжая орошать мою несчастную голову.
– У меня только шестнадцать копеек!
– Ничего страшного! Четыре копейки в следующий раз отдашь. От такого красавца должно хорошо пахнуть. Женщина носом любит!
И это они называют «хорошо пахнуть»? Карбид, пузырящийся в луже, воняет гораздо приятнее. Срочно в душ, на Маргариновый завод, смыть с себя всю это гадость соапстоком!
Мастерица движением фокусника – рывком сняла с меня простынку и сухим помазком вымела, шекоча шею, мелкие колющиеся волосы из-под воротника.
– Вот и все! Будь здоров – не кашляй!
Я встал с кресла, вокруг на полу клочками лежали мои опавшие кудри, словно здесь насмерть подрались две болонки.
– Ну, шагай! Не грусти! Все девчонки теперь твои!
Что она понимает? Когда Шура Казакова лечилась в «лесной школе», Андрюха Калгашников позвал меня как-то к себе во двор, что за кинотеатром «Новатор». Мы играли в казаки-разбойники. Среди «разбойниц» была девочка по имени Мила, и мне сразу захотелось поймать именно ее, что я вскоре и сделал. Стараясь вырваться, она смахнула с меня ушанку и громко, обидно засмеялась. Я не придал этому значения, хотя тоже накануне постригся. Дня через два на перемене мы обсуждали с Андрюхой поход в «Новатор» на «Седьмое путешествие Синдбада-морехода», и я словно бы невзначай спросил:
– Как там Мила?
– Нормально.
– Про меня ничего не говорила?
– Говорила. Сказала: когда сняла с тебя шапку, сразу поняла, что ты дурак…
Я покорно положил на полку шестнадцать копеек, встал и побрел к выходу.
– Курточку с авоськой не забудь, боксер! – вдогонку крикнула парикмахерша. – Следующий!
Навстречу, чтобы сменить меня в кресле, двигался тихий покорный мальчуган, он шел почти военным шагом, как суворовец, даже с отмашкой, будто на отрядном смотре. Его веснушчатое лицо выражало ту высшую степень послушания, после которой следует летаргический сон. И только по клетчатым штанишкам да кудрям я узнал в этом механизированном ребенке недавнего буйного вождя краснокожих. Ребенка конвоировала рослая мамаша, улыбчивая особа с безжалостным взглядом Анидаг из «Королевства кривых зеркал».
– Будешь озорничать, Котик, тебя так же подстригут, как этого дурачка с чердачка! – проворковала она сыну, а на мастерицу рявкнула: – Немедленно проветрить помещение! Это у вас тут что – «Шипр» или иприт?
– Так точно! – испугалась парикмахерша.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.