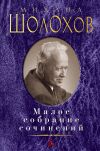Текст книги "Шолохов. Незаконный"

Автор книги: Захар Прилепин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Михей Павлов и Георгий Журавлёв под своими именами появляются в «Тихом Доне». Первого на страницах романа упоминает сам Фомин: «Военкомом там Михей Павлов, парень он боевой, но силёнок у него маловато, и он едва ли пойдёт встречать нас». Второй появляется в схожем контексте: «Фомин знал, что командует конной группой Егор Журавлёв – напористый и понимающий в военном деле казак Букановской станицы».
Сами формулировки оставляют ощущение, что Шолохов на страницах романа как бы благодарит Павлова и Журавлёва – за свою букановскую молодость, за рассказы, которые так пригодились во время работы над последним томом романа.
Павлов был, между прочим, человеком читающим. Младшая его дочь, Роза Михеевна, рассказывала: «…однажды Шолохов приходит к папе и говорит: “Ты же любишь читать, давай я тебе рассказ прочитаю!”
Михей Нестерович: “Какой, Миш?”
Шолохов: “Вот слушай” (и прочитал вслух свой рассказ).
“Ты когда его написал?”
“Ночью сегодня! Посидел и написал!”».
Что в Букановской сочинял Шолохов – неизвестно. Едва ли это наброски к «Донским рассказам», скорее юмористические зарисовки, наподобие первых опубликованных им фельетонов.
* * *
17 июня Шолохов сделал первый доклад окрпродкомиссару Верхнее-Донского округа Шаповалову. С точки зрения профессиональной, работу он свою знал: в Каргинской так или иначе занимался схожими делами. Не знал он только того, что первый же месяц его работы окажется сущим ужасом.
Начинается доклад бодро: «С момента назначения меня Букановским станналоговым инспектором и с приездом своим к месту службы, мною был немедленно в 2-х дневный срок созван съезд хуторских советов совместно с мобилизованными к тому времени статистиками, на котором были выяснены взаимоотношения со статистиками и хуторскими советами и те обязанности, кои возлагаются как на тех, так и на других… На следующий же день по всем хуторам ст. Букановской уже шла работа по проведению объектов обложения. С самого начала работы твёрдо помня то, что все действия хуторских Советов и статистиков должны проходить под неусыпным наблюдением и контролем инспектора, я немедленно отправился по своему району, собирая собрания граждан по хуторам».
Шолохов отладил работу статистов, дважды посетил все хутора станицы и «во избежание… злонамеренных укрытий» лично следил за тем, «чтоб домохозяева являлись для дачи сведений не по одиночке, а группами по десять человек и давали сведения за круговой порукой».
«К 26 мая, т. е. через пять дней работа уже была окончена… После того, как были представлены списки, пересмотрев их совместно с станисполкомом, выяснилось, что, несмотря на все ранее принятые меры, граждане чуть ли не поголовно скрыли посев».
В силу того что связи с окружкомом не было никакой, – любой запрос возвращался обратно недели через две, – приходилось, пишет Шолохов, «под свою личную ответственность принимать… решительные меры по борьбе с массовым сокрытием посева».
Собрав комиссию из четырёх человек, сам-пятый, Шолохов совершил ещё один объезд всех хуторов. Где-то агитировали, где-то проводили повторные обмеры, где-то давили на совесть. Насилия не применяли. «По окончании проверки результаты были получены более чем блестящие. Количество фактического посева увеличилось чуть ли не в два раза против прежнего… Смогу с твёрдой уверенностью сказать, что в моей станице укрытого посева нет, а если и есть, то в таком минимальном размере, что не поддаётся учёту».
На этом месте реляция вдруг меняла тональность:
«Если же цифра задания обязательного посева на ст-цу Букановскую слишком резко расходится с настоящим фактическим посевом, то на это можно сказать только одно, что ст. Букановская, по сравнению с другими станицами округа, в экономически-материальном положении стоит самой последней. Семена на посев никем не получались, а прошлогодний урожай, как это Вам известно, дал выжженные, песчаные степи».
И далее: «В настоящее время смертность, на почве голода по станице и хуторам, особенно поражённых прошлогодним недородом, доходит до колоссальных размеров. Ежедневно умирают десятки людей. Съедены все коренья и единственным предметом питания является трава и древесная кора. Вот та причина, благодаря которой задание не сходится с цифрой фактического посева».
Вот в какую ситуацию он угодил! Надо собирать налог – забирая и скот, и часть урожая, – а люди не просто голодают, а мрут.
И вся изначальная победительность интонации скрывала на самом деле одно: он так и не смог собрать соразмерный запросам окружного комиссариата объём налога.
Впечатления тех месяцев легли в основу, пожалуй, самого страшного из числа ранних шолоховских рассказов – «Алёшкино сердце»:
«…жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремлённые на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слёзы. Следом шагал голод. Алёшка представлял себе его большущим безглазым человеком: идёт он бездорожно, шарит руками по посёлкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот чёрствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.
У Алёшки большой, обвислый живот, ноги пухлые… Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.
Уши Алёшки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа – как сохлая вишнёвая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алёшке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алёшка пятый месяц. Алёшка пухнет с голоду».
Он насмотрелся всего этого на целую жизнь вперёд.
* * *
С 25 июля 1922 года продовольственные работники были переведены в разряд военнослужащих. Продкомиссар Михаил Александрович Шолохов получил военную форму: гимнастёрка, галифе, сапоги. Она ему очень шла. Подтянутый, обаятельный, крепкий. На ношение оружия он теперь тоже имел право. Однако главная опасность его подстерегала вовсе не со стороны кружащих по Дону банд.
Вести работу в те дни и месяцы, когда в одном курене ещё держатся, в трёх других люди от голода доходят, а в иной зайдёшь, а там все умерли, – то ещё испытание.
В письме к своей доброй знакомой Евгении Левицкой от 22 июля 1929 года Шолохов писал: «Я вёл крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти…»
Мария Петровна отмахивалась, когда у неё спрашивали – было ли такое: «…выдумщик. Никогда и ничего не превышал. Я же с ним ходила по дворам. И не раз. Зайдём в курень, а там ребятишек, как цыплят, мал мала меньше. Он, не раздумывая, говорил сразу: “Тут брать нечего”…».
На веру мы не можем принять ни слов Шолохова – он вполне мог чуть драматизировать и без того драматические события, – ни оправдательных речей его жены: жёны тоже не всё знают.
Продкомиссару Шаповалову был направлен анонимный донос о самовольных действиях Шолохова. Ему вменялось в вину «преступное отношение к политике налогообложения». В основание доноса лёг ряд случаев, когда Шолохов позволил себе действовать сообразно своим представлениям, а не «политике налогообложения». Судя по всему, в одном дворе он мог «шибко комиссарить», а в другом – самолично решить, что эта семья налогом не облагается. Переругался с собственными подчинёнными из станичной тройки, слушать никого не хотел, в итоге 31 августа 1922 года был отстранён от занимаемой должности и арестован.
Его забрали со съёмной квартиры – мелкий провожатый тыкал штыком в спину. Препроводили в подвал ждать решения ревтрибунала. Пока сидел, мысли к нему могли прийти какие угодно: а вот возьмут и к стенке поставят товарищи – что тогда, Мишка?
Писателю Анатолию Софронову в 1961 году так и сказал: «Два дня ждал смерти… Жить очень хотелось…»
Суд признал семнадцатилетнего комиссара виновным в «превышении власти». Шолохов получил год условно, который, впрочем, то ли не был толком оформлен, то ли составленные бумаги затерялись. Вся эта история обещала неприятности огромные, а обернулась на тот момент стремительным обрушением только-только начавшейся советской карьеры.
Покомиссарил, и хватит.
Галифе и сапоги сдал. Даже не успел к Анастасии Даниловне в Ясеновку в таком виде заявиться. А так хотел: может, передумала бы и пошла замуж за него…
* * *
Что же в итоге? Четыре месяца работы продинспектором, часть этого срока – в составе станичной тройки, которая могла принять любое решение, вплоть до расстрела, месяц – в составе Красной армии: вот трудовая и боевая биография Шолохова.
Немного – но и немало.
Для будущей и главной его работы – летописца казачьего Дона, русской жизни, Гражданской войны – вполне хватило.
В литературе далеко не всегда автор лично испытывает сам всё то, что испытывают его герои. Пожалуй, и необходимости такой нет. Непосредственные участники книг не пишут. А если и пишут, то проходят эти книги по разряду «человеческого документа» – записок, мемуаров, воспоминаний.
Вместе с тем никакой литературы не делается, если автор, обладая нулевыми знаниями, вульгарно и огульно подменяет опыт – фантазией.
У Шолохова знание эпохи и быта сложилось подетальное: он там был, он рисковал юной головой, он принимал решения, он носил форму, он ложился спать, еженощно ожидая выстрела в окно. Никаких поблажек от судьбы он не имел. Он, наконец, знал, видел, слышал всех, о ком будет писать. Был не соглядатаем со стороны – а одним из гущи людской.
Ему ещё предстояло и военную форму надеть, и воинские звания получить, и работать в государственных учреждениях – но много позже и совсем в ином статусе. А теперь судьба его, имевшая столь лихой зачин, разом утеряла колесо и завалилась на бок.
Букановскую он покинул с позором. В тот день, в Каргинскую возвращаясь, мог сказать себе: «…зато лишнего греха на душу не возьму и у детей последний хлеб не придётся отнимать…»
Но как теперь ему было жить?
Он – виновный, он – осуждённый, его, как контру, под прицелом водили и в подвале держали.
Столько лет ушло на то, чтоб вырваться из той западни, куда попал с рождения – как незаконный, поперечный, нахалёнок, бесправный сын беспутных родителей, – и на тебе, снова начинай сначала, татарчук.
* * *
Явился к родителям. Сказал: всё, отслужил своё.
Три года шёл к тому, чтоб стать полноправным бойцом Красной армии; но жизнь оказалась беспощадной и привередливой – взяла и выпихнула на обочину.
И вот ты снова никто; бери вон удочки и дуй за рыбой на Чир, может, поймаешь чего.
Мать – измордованная трудом, надрывающаяся на всех работах, какие только подворачивались, поглядывала с затаённой тоской, – должно быть, как отца, потащит судьба волоком Мишу, обивая о все углы. А такой славный мальчишка рос, такой головастый. Вот ведь шолоховская судьба – на отцовский круг выводит опять сына.
К Александру Михайловичу заходил брат Пётр, два года как вдовец, тоже работавший то на одной, то на другой советской должности при исполкомах и налоговых службах. В анкетах он записывал, что прежняя его работа: «мыловар». А Пётр ведь, напомним, был у купца Лёвочкина правой рукой, и десятками, а то и сотнями тысяч рублей распоряжался. А теперь его потолок был – помощник делопроизводителя.
Пётр приносил бутылку за пазухой. Анастасия Даниловна не скандалила – накрывала им скудной закуски, сама уходила: осень близилась, работы невпроворот – соленья заготовить, соседям, за ведро картошки, собрать урожай, да мало ли – были бы бабьи руки, а тяжесть им отыщется.
Братья усаживались за стол, закуривали и с той минуты дымили без устали едким табаком, понемногу исчезая в клубах дыма. Разливали по одной, второй, третьей – и теплели у них сердца, начинали что-то вспоминать, смеяться, – и приходило тихое ощущение, что всё ещё поправимо.
Возвращалась мать; прибирала со стола.
Сына ни в чём не попрекала: он и сам себе места не находил.
Все попрёки Анастасия Даниловна давно извела на отца – ну и толку? С утра, снова хворый, еле бродил Александр Михайлович по двору. Работник из отца был никакой. Да и сын, признаться, тоже был не помощник. В силу объективных причин ни казачьего, ни крестьянского труда Михаил толком не знал. Он просто им не занимался никогда: с детства кружил по гимназиям, дома жил наездами, редко.
Отец то держал собственную лавку, то в чужой работал приказчиком – толкового хозяйства у них не было. Да, мельница имелась, но и та недолго, а работали там знающие своё дело мужики. Потом началась Гражданская и все эти бесконечные переезды, скитания – один день под своей крышей, месяц под чужой, – так что, не сложилось у Шолоховых с мужицкими делами.
Ну, лошадь он, конечно, умел запрячь и распрячь: в Плешакове и в Рубежном у них были свои лошади. Однако пахать и сеять ему не приходилось, и ремёсел Михаил никаких не знал. Просто некому и некогда было его обучать этому. Да и не искал он себе дела ни в крестьянской жизни, ни в ремесленной – другие пути смутно виделись ему впереди.
Глава пятая
Москва бездомная
На семейном совете сказал: в Москву поеду – поступать на рабфак.
В постановлении Наркомпроса РСФСР от 11 сентября 1919 года рабфак был определён как учебное учреждение, где готовили рабочих для поступления в вузы. Длительность обучения составляла 1–2 года, оно было бесплатным, более того – учащиеся получали стипендию.
В октябре Михаил тронулся в путь. Одет был не по зиме: но надеялся к холодам заработать на добрые валенки и на шарф.
Бричка, 160 вёрст до железнодорожной станции – тот же самый путь несколько раз проделывали герои «Тихого Дона», – время подумать, надышаться степным ветром.
…Поселился он в Москве там же, откуда уезжал когда-то – у родственника по отцовской линии Александра Павловича Ермолова – в Долгом переулке на Плющихе, где жил, когда учился в Шелапутинской гимназии.
Михаил сразу дал понять, что при первой же возможности съедет: годы были тяжёлые. Однако встретили его тепло – и с этой семьёй он будет дружить ещё долгие-долгие годы.
На рабфаке спросили: из каких будете, товарищ?
Ответил: продкомиссар – сам в папахе, в шинели, в сапогах. Грешным делом верил: подействует.
Не подействовало.
Принимались по большей части выходцы из рабочих, желательно с производственным или фабричным стажем, а главное – по направлению комсомола. А он не комсомолец и вообще с условным сроком. В судимости своей он, конечно, не признался, но в любом случае ему присоветовали ехать за направлением и уже с ним возвращаться. А то много тут таких желающих – забесплатно учиться и стипендию получать…
Жизнь скользила, как мокрый камень под ногой.
Шолохов отправился на биржу труда – улица Большая Бронная.
Но и надежды на хоть сколько-нибудь пристойную должность оказались тщетны: образования-то нет. В Москве на тот момент насчитывалось более ста тысяч безработных.
В «секции чернорабочих» пристроили его грузчиком на Ярославском вокзале. Потом устроился каменщиком – укладывал мостовые в проулочках, ведущих к храму Христа Спасителя.
В автобиографии скажет: «Жил на скудные средства».
Проще говоря: ничего не жрал целыми днями.
В декабре, поняв, что московскую зиму может и не осилить в своей шинельке, вернулся в Каргинскую.
* * *
Если бы из Шолохова получился отличный продинспектор и пошёл бы он по служебной, по военной линии вверх, – когда б он ещё остановился и задумался: а не рассказать ли о том, что знаю?
Могла б работа его увлечь, затянуть. Хоть и примерялся он к сочинительству, как было сказано, давно. В богучарской школе – раз. В кружилинском театре – два. В Букановской исхитрился меж объездами хуторов написать первый свой фельетон. А тут у него образовалась целая зима с 1922-го на 1923-й.
Читал всё, что попадалось в руки – газеты, книги, старые журналы, а по ночам карябал что-то на клочках бумаги. Написал несколько абзацев и не столько смотрел, сколько прислушивался к листу бумаги: отзывается ли написанное хоть где-то.
Надо было научиться составлять слова со словами.
Ничего у него ещё толком не получилось тогда.
Первых шолоховских набросков не сохранилось, но, думается, он по-прежнему пробовал себя в юмористических жанрах – писал «сценки», «случаи». К большим темам ещё не решался подступаться.
Кажется, он даже не догадывался ещё, что казачья жизнь, казачий быт могут быть истинным предметом литературы. Книги – они же обычно про «другое». Да, была, конечно же, повесть «Казаки» у Льва Толстого, но даже там в центре повествования – барин, аристократ, с городскими своими рефлексиями явившийся в казачий, – правда, не донской, а терский – мир.
Революция не только совершила неслыханный переворот в государственности и сознании миллионов. Благодаря революции на литературную авансцену вышло простонародье – мужики, рабочие, батраки, жители имперских окраин – и вывело в свет неслыханное количество персонажей, совсем недавно не имевших никакого представительства ни в прозе, ни в поэзии.
Оптика перевернулась.
Ранее в народную гущу окунался городской человек, с бо`льшим или меньшим успехом пытаясь осознать – с чем столкнулся он, кто здесь обитает. Теперь же повествователем начал выступать тот, кому ещё вчера слова не давали.
Да, был Горький – с его бродягами, работягами, жителями дна, среди которых он был именно что свой, – просто обретший голос, сумевший заговорить так, чтоб стать услышанным. Именно поэтому Горький по праву занял место отца-основателя советской литературы: вообразить себе в подобном качестве Мережковского, Бунина, Леонида Андреева или Бориса Зайцева невозможно.
Но даже огромный опыт Горького не предполагал того аномального разнообразия типажей, что вот-вот явятся в русскую словесность со всех концов страны. Сибиряки Всеволода Иванова, дальневосточные партизаны Александра Фадеева, архангельское простонародье и «барсуки» Леонида Леонова, будённовцы, одесситы, обитатели еврейских местечек Исаака Бабеля, арзамасские, ушедшие в свой поход мальчишки Аркадия Гайдара, и так далее, и тому подобное. В литературу хлынет народ: корявый, великий, огромный.
Все вышеназванные авторы были молоды или очень молоды.
Все они начали главные свои прозаические вещи почти одновременно.
Совместное вхождение их в литературу – история беспрецедентная.
Аркадий Гайдар начинает повесть «В дни поражений и побед» в 18 лет и закончит в 20. В 23 он уже напишет классическую свою повесть «Школа». Когда Гайдар говорил о себе, что у него обыкновенная биография в необыкновенное время, он мог иметь в виду как беспримерно раннюю военную карьеру, так и карьеру литературную – характерную для ряда его сверстников.
Был, скажем, такой знаменитый в своё время писатель Григорий Мирошниченко, тоже 1904 года рождения. Как и Гайдар – в 16 лет командовал кавалерийским полком, писать начал в 19, в 24 года привёз Горькому свою повесть «Юнармия», которая наряду с повестями Гайдара вошла в канон советской классики для подростков.
Артём Весёлый впервые опубликовался в 18 лет, в 21 год начал работу над самой главной своей, великой книгой – «Россия, кровью умытая».
Весной 1918 года состоялась первая публикация Андрея Платонова как прозаика: ему тоже тогда было всего 18 лет.
Александр Фадеев начал повесть «Разлив» в 21 год, и в 22 завершил. В 25 лет он уже автор классической повести «Разгром».
Первый рассказ Исаак Бабель опубликует в 19 лет. Он уже будет совершенно бабелевский, со всеми приметами авторского стиля. В 26 Бабель начнёт свои «Одесские рассказы».
Юрий Олеша публиковался с 16 лет. В 25 он – автор романа-сказки «Три толстяка». В 27 – романа «Зависть». Больше ничего соразмерного за последующие 33 года Олеша не напишет.
Вениамин Каверин напишет первые рассказы в 20 лет, в 23 выпустит первый роман – «Девять десятых судьбы».
Всеволод Иванов публикует первые рассказы в 22 года, в последующие четыре года он сочинит повести «Партизаны», «Цветные ветра», «Бронепоезд 14–69». Ничего лучше, чем эти вещи, Иванов уже не создаст никогда. Молодым по сути человеком он пережил поразительный расцвет дара.
В 23 года Леонид Леонов пишет целую россыпь шедевральных рассказов и повестей – от «Бурыги» до «Петушихинского пролома». В 24 – он автор романа «Барсуки», который войдёт в советский литературный канон.
Николай Островский первую свою повесть пишет в 23 года, а в 26 создаёт культовый роман «Как закалялась сталь».
Почти в каждом из этих случаев наблюдался необъяснимый, немыслимый рывок – вчера ещё косноязычный подросток, который еле сводил расползающиеся слова в предложения, не слишком учёный, – никто из перечисленных не имел к началу литературной деятельности высшего образования, – никаких, строго говоря, надежд не подававший вдруг возносился на такую высоту, что вставал в один ряд с титанами мировых литератур.
Впрочем, не «вдруг» – череда революций и войн выплавила небывалое поколение.
Шолохов вступил в 1923-й: именно в этом году он начнётся как писатель. Ему идёт девятнадцатый год – он приступит к литературной работе чуть позже, чем Гайдар и Артём Весёлый, в том же возрасте, что Андрей Платонов, и чуть раньше, чем Фадеев с Леоновым. Но, в сущности, все они были сверстниками – потому что отсчёт шёл по Гражданской. Они взрослели в эти клокочущие годы. Родившиеся на десять лет позже Гайдара и Шолохова уже не имели подобного опыта и восполнить его не могли. Родившиеся на десять лет раньше Леонова или Бабеля пришли к революции уже сложившимися людьми, не умея её принять как форму существования.
У этих же юность мира совпала с их собственной юностью.
Перед нами наделённое неслыханным опытом поколение, родившиеся плюс-минус в десятилетие с 1895-го по 1905-й. Шолохов заскочил в последний вагон.
Впрочем, в истории советской литературы имеется даже более обескураживающий пример: мы говорим о самом младшем прозаике того призыва – Юрии Германе. Он родился в 1910 году, и попасть в число литераторов, шагнувших в литературу в двадцатые вроде бы никак не мог. Но так сложилось, что отец Германа был офицером, а мать – сестрой милосердия. С четырёх лет ребёнок жил, как сам признавался, среди пушек и солдат, ну и – по госпиталям. Он детским зрением застал и Первую мировую, и Гражданскую: будущий писатель едва не погиб при переправе через Збруч.
Итог стремительного взросления: в 17 лет Герман написал роман «Рафаэль из парикмахерской», тут же опубликованный, в 20 – второй роман «Вступление», принесший ему успех и признание. В 22 года в числе виднейших советских литераторов он уже присутствовал на знаменитой встрече со Сталиным, состоявшейся у Горького дома.
В этом смысле шолоховский пример вовсе не исключителен – а скорее типичен.
* * *
В январе 1923-го ничего не предвещало, что у Шолохова хоть что-то получится. Он промыкался в Каргинском до конца весны. Пытался по комсомольской линии добыть направление на рабфак, но не вышло. Весна вынудила принимать решение: двое безработных – отец и сын – на шее у одной Анастасии Даниловны – ну ни в какие ворота. Отец к тому же постоянно болел.
В мае Михаил Шолохов снова в столице. Поселился по адресу: Георгиевский переулок, дом 2, квартира 5. Снова грузил, мешки таскал, камни ворочал: худенький, на самом деле подросток – и роста малого, и сложения никак не богатырского, только характер поразительной крепости.
Впрочем, вопреки внешним данным Шолохов с ранней молодости отличался ещё и удивительной физической силой. В донских краях проводили особое соревнование – поднять зубами двухпудовую гирю. Требовалось взять гирю зубами за обмотанную тряпкой рукоять и поднять над головой так, чтобы она встала вертикально. Он это проделывал!
В августе получил первую не чернорабочую должность – счетовод в жилищном управлении № 803 на Красной Пресне, 23-й дом. В каргинских конторах, спасибо Александру Михайловичу, обучился всяким бумажным работам. Все эти месяцы он читает, пытается что-то писать, снова читает, снова пишет; им уже овладел этот зуд – сказать своё слово.
Шолохов понемногу догадывался, что увиденного им к 18 годам может хватить не то чтоб для литературы, но хотя бы на разовое выступление: чтобы люди узнали, как там у них было – на Верхнем Дону. Там в те годы не оказалось больше никого, кто был готов стать летописцем страшных событий. Он один такой сыскался – от Богучара до Каргинской, от Вёшенской – до Букановской.
Высший замысел в том просматривается: свидетелей Гражданской войны не ссыпали в одно место – где-нибудь под Тулой, – а высадили, взрастили по всей стране, чтоб отовсюду донесли весть. И у Шолохова имелось своё донесение, пусть и не сформулированное ещё.
Первое, о чём должно задуматься пишущему человеку – поиском себе подобных. Шолохов мог попытаться примкнуть к самым разным литературным группировкам: их тогда существовало немыслимое количество, особенно поэтических. Но, кажется, он заранее определился, куда ему надо. В комсомольский круг! Ничего другого, скорее всего, он и не знал толком.
Здесь стоит проговорить очевидное: ни донские трагедии Гражданской войны, ни разорение отца, ни отказ принять его в комсомол и в ЧОН, ни жесточайшие неудачи в Букановской, – ничто из перечисленного не озлобило Шолохова и не сделало его врагом большевизма. Он с муравьиным упрямством двигался в сторону новой власти, чтоб выучиться у неё писать, работать, выживать. Быть может, этот урок он усвоил ещё в те месяцы, когда полыхало Вёшенское восстание: большевиков не сломить, не переупрямить – с ними надо жить.
Ещё в октябре 1922 года по инициативе ЦК РКСМ было создано объединение молодых комсомольских писателей под названием «Молодая гвардия». Открылось издательство с тем же названием, начался и выпуск одноимённого журнала. Первоначально в группу входили поэты Александр Безыменский, Александр Жаров, Михаил Голодный. Компания была небольшая, но хваткая – практически все первые «молодогвардейцы» выбились в советскую комсомольскую классику. Поэзия первой начала осваивать Гражданскую войну и неслыханную постреволюционную новь. Прозе всегда нужен чуть более долгий разбег.
Писатель и ответственный секретарь «Молодой гвардии» Виктор Светозаров – как и все вокруг тогда, совсем юный, 20-летний, но успевший повоевать в Гражданскую, – запомнил: сентябрь, дождь – и вот первый выход Шолохова: «На приступках каменной лестницы писательского общежития, что располагалось на Покровке, 3, появился невысокого роста, белокурый, кудреватый паренёк, с крутолобым веснушчатым лицом. На пареньке сапоги со стоптанными каблуками, солдатская вылинявшая шинель, барашковая шапка времён мировой войны.
На втором этаже общежития в коридоре поэты читают стихи. Звучит едва слышный задушевный голос Михаила Светлова…
– Шолохов! – рекомендуется светлоглазый паренёк. – Слышал, что в этом доме живут поэты. Сам пишу рассказы. Вот пришёл познакомиться».
В общежитии том жили тогда участники Гражданской, писатели Артём Весёлый, Александр Фадеев, Юрий Либединский и множество иных «молодогвардейцев», чьи имена ныне забыты.
В общежитие Шолохова не взяли, но предложили посещать на общих основаниях литературные занятия. Что ж – и то неплохо.
К «молодогвардейцам» к тому времени прибился ещё один начинающий автор, на четыре года старше Шолохова – Василий Кудашёв. Из Рязанской губернии, до 17 лет жил в деревне, в 1919-м перебрался в Москву, работал на том же Александровском вокзале, где и Шолохов, чернорабочим, потом, как и Шолохов, вынужден был вернуться в свою деревню, но в 1922 году получил направление на рабфак и приступил к учёбе. Писатель Василий Ряховский запомнил Кудашёва как «несколько чудаковатого, милого и смешного, беспредельно преданного своей родине» человека.
Они с Шолоховым друг друга сразу опознали – и судьба зеркальная, и рязанские корни никто не отменял. После второго же занятия разговорились, сошлись, задружились. Почти всякому русскому гению судьба дарит дружбу человека, наделённого отдельными ангельскими полномочиями. Для Шолохова таким человеком стал Кудашёв – скромный, лишённый зависти, безотказный помощник в сотнях самых разных дел. Будто бы одной из жизненных задач Кудашёва была не только забота о семье и развитие своего малого, но честного дара, – но и пожизненная помощь одному знакомому гению в достижении заданной Господом высоты.
* * *
19 сентября 1923 года в газете «Юношеская правда» за подписью «М. Шолох» (Мелехов понемногу просматривается уже) был опубликован фельетон «Испытание». Нечто под Чехова, с говорящими фамилиями, только в новых реалиях: бывший партиец Тютиков получает поручение от секретаря уездного комитета комсомола проверить главу волостной комсомольской ячейки Покусаева. (Реальный, как мы помним, человек, с которым Шолохов и его отец работали в заготконторе № 32 – Шолохов сразу обозначит писательскую привычку использовать настоящие имена.)
Они вместе едут на подводе до станции, и Тютиков провоцирует (приказали же!) Покусаева, разводя всякую антисоветчину. Покусаев, разозлившись, начинает Тютикова бить-колотить. Еле выживший, весь в синяках и ушибах, Тютиков пишет отчёт: «Парень, несомненно, благонадёжный».
Не шедевр, хотя для газетной рубрики вполне себе ничего; ну так и Чехов не с шедевров начинал – и фельетонов этих накатал огромный том. Шолохов ограничился всего тремя, и если там имеется предмет разговора – то вот он. Одна из главных примет шолоховской прозы – органическая смесь комического и трагического: от первых рассказов, через десятки коллизий и множество персонажей «Тихого Дона» и «Поднятой целины» до самых последних глав из романа «Они сражались за родину».
Умение разыскать, услышать, прочувствовать комическое, но не унижающее человека начало – важнейшая психотипическая черта Шолохова. И, думается, не только его сочинений, но и самой личности: вспомните это его часто улыбающееся лицо, лукавые глаза – словно только что с дедом Щукарём перешучивался…
Чувство юмора на самом деле такая же уникальная черта человека, как отпечаток пальцев или сетчатка глаза. Лесков, Чехов, Зощенко, Бабель схожи в одном – они умели видеть смешное, но при этом спутать их невозможно. Юмор шолоховской прозы – интонационно, стилистически, сюжетно – никаких аналогов не имеет, он порождён казачьей средой, казачьей речью, казачьей мифологией.
В «Испытании» этого почти ещё нет, однако будущая шолоховская манера уже просматривается: не ходить за сюжетами далеко, брать – где родился и живёшь.
* * *
В начале ноября Шолохов, в числе остальных, получил задание что-нибудь к следующему занятию сочинить.
К своим годам он, как мы помним, не раз и не два ходил под смертью, сидел за одним столом с казачьими атаманами, для которых человека убить – плёвое дело, а потом с такими же большевистскими комиссарами общую работу делал, а потом излишки изымал в казачьих домах, а потом в подвале томился в ожидании суда, – и, между прочим, на сцене выступал, и агитировать мог, и пропагандировать, – но первое своё прилюдное литературное выступление, как вспоминают, переживал волнительно.