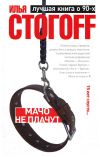Текст книги "Побежденный. Барселона, 1714"
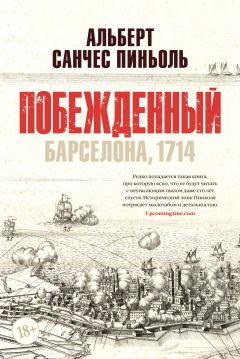
Автор книги: Альберт Санчес Пиньоль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Перет прикрикнул на него:
– Дурак! И когда ты только поймешь, что это слово для людей – самое страшное оскорбление? Если бы не Марти, микелеты бы сейчас тебя поджаривали живьем на костре. Дурак ты эдакий!
Я окончательно решился, когда Нан, который сидел на стуле, качая ногами и глядя в пол, произнес:
– Дурак.
– Я тебя накажу, – заявил я.
Потом я отправился в свою спальню, вернулся оттуда с хлыстом Бальестера, сел на стул и сказал Анфану:
– Иди-ка сюда.
Человеческое существо, которое понимает, что его предали, смотрит на обидчика совершенно особым взглядом. После целого года, проведенного под одной крышей, после того как мы столько времени спали в одной постели, я собирался совершить над ним насилие. Мальчишка подошел, делая вид, что ему это безразлично. Когда он преодолел расстояние, разделявшее нас, сделав четыре шага, на его лице была только скука.
Я вложил в его руку хлыст и протянул ему открытую ладонь.
– Бей меня.
Поначалу он не понял.
– Бей меня! – повторил я.
Он легонько стегнул меня по пальцам.
– Сильнее!
Анфан смущенно обернулся, ища совета у остальных, но я взял его за подбородок и заставил смотреть мне в глаза.
Хлыст обрушился на мою руку.
– И это все, на что ты способен? Сильнее!
Мальчишка хлестнул меня сильнее, и кожа на моей ладони лопнула. Увидев кровь, он испуганно отступил на шаг.
– Мы еще не кончили. Бей меня еще.
Я снова раскрыл перед ним окровавленную ладонь. Он снова стегнул меня. Удар хлыста пришелся по ране, и мне не удалось скрыть гримасу боли.
– Довольно, – взмолилась Амелис.
– Замолчи! – крикнул я и, не спуская глаз с Анфана, приказал: – Бей еще или проваливай отсюда на все четыре стороны!
Он поднял хлыст. Я поднес ему прямо к носу свою раненую руку, из которой текла кровь:
– У тебя есть хлыст. Действуй!
Анфан разрыдался – слезы рекой потекли из его глаз. Никогда раньше он так не плакал. Когда микелеты поймали его, мальчишка испугался, но сейчас в этом потоке слез из него изливалось все зло этого мира, вся желчь, которая скопилась в нем за эти проклятые годы. Амелис его обняла.
– Тебе понятно? – прошептал я ему на ухо. – Теперь ты все понял?
В тот вечер Анфан понял, что его боль была нашей, а наша боль – его. И когда он освоил этот урок, мне открылась другая истина: четыре человека могут быть не просто суммой индивидов – они могут превратиться в некий любовный союз. Той ночью я иными глазами взглянул на нашу кровать, где нам, как всегда, было тесно. Теперь я не видел ни этого локтя, ни острой воронки, ни пряди чужих волос, которая лезла в лицо и мешала спать. Все это составляло единое целое, подобно тому как Сферический зал был чем-то большим, нежели сумма собранных в нем предметов. Я заставил себя увидеть нашу комнату так, как меня учили в Базоше, – отрешившись от чувств, которые являются не чем иным, как облаками, застилающими небосвод разума. И тем не менее уже не впервые с удивлением убедился, что пристальное наблюдение вызывает в нас нежность. Я прислушался к тихому похрапыванию Анфана, присмотрелся к гримасам Нана, которому снился какой-то сон, увидел сомкнутые веки Амелис и сказал себе, что эта кровать, этот крошечный прямоугольник, вне всякого сомнения, самое драгоценное светило всей нашей Вселенной.

4
И это необычное семейное гнездышко мне пришлось покинуть на довольно долгое время в середине 1710 года. Почему мне пришлось это сделать? Сейчас я должен вам кое-что рассказать о ситуации на фронте, сложившейся к тому времени.
Несмотря на беспечность барселонцев, которые продолжали жить так, словно война шла на берегах Рейна, фронт приближался к городу с каждым днем. Можно сказать, что к 1710 году мы уже жили в осаде. Территория, которую контролировал Австрияк, ограничивалась треугольником Каталонии с Барселоной посередине. К 1710 году, таким образом, практически вся Испания оказалась в руках Бурбончика. Войска Двух Корон всегда действовали с дьявольски размеренной точностью, а союзная армия, напротив, то совершала рывки, то надолго замирала на занятых позициях.
Военная кампания велась из рук вон плохо, и поэтому ястребы союзных держав решили, что необходимо предпринять решительные шаги. Каждый раз, когда на испанском театре военных действий что-то не клеилось, союзники поступали одинаково: посылали в Испанию очередного генерала, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. К этому времени последним подарочком стал англичанин Джеймс Стэнхоуп. Было бы куда лучше, если бы нам достался какой-нибудь другой Джимми, похожий на Джеймса Бервика, а не этот мальчишка Стэнхоуп. Столь же высокомерный, сколь непредсказуемый, Стэнхоуп был живым воплощением фразы: «Я мигом все вам налажу – раз и готово!» Разве может научиться чему-нибудь человек, который воображает, будто знает все? Наш генерал «Раз-и-готово»! Под этим именем следовало бы ему остаться в истории!
Стэнхоуп приехал в Барселону с четкими указаниями от своего правительства. Англии эта война чертовски надоела, и генеральская миссия состояла в том, чтобы как можно скорее ее закончить. Это было последнее усилие, которое Лондон готов был предпринять, чтобы завершить дело победой, поэтому вместе со Стэнхоупом прибыли новые воинские подразделения: голландская и австрийская пехота и английский кавалерийский полк, которым командовал он сам. Эти подкрепления вместе с войсками союзников, которые еще оставались в Каталонии, должны были обеспечить мощное наступление, отомстить за Альмансу и короновать Австрияка в Мадриде, сделав его королем всех земель испанских. Раз и готово!
В преддверии наступления жизнь в Барселоне неожиданно забурлила. Исторические трактаты обычно не упоминают об огромном количестве людей, которые следуют за войском во время кампаний. И поскольку число гражданских лиц, двигающихся в хвосте армии, нередко превышает численность самих солдат, нетрудно понять, что подобная забывчивость непростительна. С одной стороны, это были люди, предлагавшие военным свои услуги, от цирюльников до сапожников, – все ремесла, необходимые для жизни такого огромного количества людей были здесь представлены. Но с другой стороны, следует учесть и тот факт, что наступление 1710 года представлялось всем как решающий удар. Сотни и тысячи испанцев, сторонников Австрийского дома, вынужденных покинуть родину и переехать в Каталонию, присоединились к колоннам военных с энтузиазмом людей, которые наконец видели перед собой возможность вернуться домой с победой. И этим дело не ограничивалось, ибо за ремесленниками, торговцами и изгнанниками потянулись толпы приспособленцев. Как-никак Каталония всегда стояла на стороне Австрияка, и теперь, после коронации в Мадриде, он, естественно, должен был наградить ее жителей чинами и прочими благами. Догадываетесь, кто оказался в первых рядах этих проходимцев? Да, вы не ошиблись: ваш добрый знакомый Суви. Амелис я объяснил, что такая возможность выдается нечасто и что, если мне повезет, я сорву приличный куш и мы сможем расплатиться с долгами.
Однако на самом деле совсем не деньги побудили меня записаться в союзную армию. Естественно, об этом я Амелис ничего не сказал. Она бы никогда не поняла, как я могу рисковать жизнью из-за Слова.
Сундук Вобана был для меня посланием с того света, словно маркиз говорил мне: «Разве для такой жизни, какую ты сейчас ведешь, воспитали тебя твои учителя?» Я сказал себе, что не могу принять подарок маркиза, если не сделаю последнюю попытку найти слово, то самое Слово.
Вобан попросил меня изложить «основы совершенной обороны». Войска доброй половины Европы собирались напасть на ядро Испанской империи. Чтобы короновать Австрияка, они должны были занять ее столицу, Мадрид. Испания и Франция, естественно, будут сопротивляться этому до последнего. Лучшие стратеги будут меряться силами на равнинах Кастилии, и гвоздем кампании неизбежно станет оборона Мадрида. Зрелище обещало быть столь же трагическим, сколь грандиозным: мне предстояло увидеть битву гигантов. На этой сцене мне, возможно, удастся найти учителя, который продолжит дело Вобана, и с его помощью, вероятно, мне откроется Слово. Упреки Амелис меня порадовали: если она старалась удержать меня, значит любила, но меня влекла вперед любовь столь же сильная.
Я был в долгу перед Вобаном.
* * *
Мне надо было изобрести какой-то способ следовать за войском, поэтому я договорился с одним из торговцев. Он собирался ехать за колоннами на повозке, запряженной двумя лошадьми и нагруженной бочонками отвратительного зелья. Он рассчитывал, что, когда войска окажутся на выжженных солнцем пустынных равнинах Кастилии, где нельзя пополнить запасы вина, цены на спиртное поднимутся до небес.
Мы пришли к взаимовыгодному договору. Мне нужен был транспорт, а над его повозкой была натянута полотняная крыша, под которой можно было спокойно проводить ночи. Вместе с торговцем ехал его полоумный сын, который соображал не больше, чем дворовый пес. По ночам хозяин повозки и этот паренек спали в ее передней части, прямо за козлами, а мы с другим пассажиром спали сзади, защищая дверцу.
Второго пассажира звали Суньига, Диего де Суньига. Прошло восемьдесят лет, а я до сих пор вспоминаю о нем как о человеке особенном. Чем же отличался Суньига от других представителей рода человеческого? Какими бы странными ни показались вам мои слова, в нем не было абсолютно ничего примечательного. Он не имел обыкновения молчать, но говорил немного, не скупился, но и денег лишних не тратил, ростом не выделялся – не высокий, но и не коротышка; не то чтобы любил веселиться, но и не грустил. У каждого человека есть какая-нибудь отличительная привычка: один прищелкивает пальцами как-то по-особенному, другой странно смеется, третий необычно наклоняет голову, когда плюет. Суньига не плевался, его смех всегда терялся в хохоте других, а пальцы свои он предпочитал никому не показывать. Окажись рядом с ним какой-нибудь призрак, вы бы скорее заметили не Суньигу, а это привидение. Он был из тех людей, о которых мы тут же забываем, стоит им исчезнуть из нашего поля зрения. На самом деле, сколько я ни стараюсь восстановить в памяти лицо Суньиги, мне это не удается: образ расплывается и тает.
Из его слов я понял, что он отпрыск семейства средней руки, которое разорила война. Поскольку его отец оказался среди редких кастильцев, вставших на сторону Австрияка, приверженцы Бурбонов экспроприировали все семейное имущество. Родитель Суньиги, человек уже далеко не молодой, этого не перенес и умер от горя. Родом Диего был из Мадрида.
Мы быстро установили приятельские отношения, потому что у нас оказалось много общего. Начать хотя бы с того, что наши семьи занимали приблизительно одинаковое положение в свете – не богачи, но и не бедняки, а нас жизнь заставила опуститься на несколько ступенек ниже по общественной лестнице. Мы оказались почти ровесниками, и даже наши фамилии начинались одинаково. Нам пришлось спать рядом в повозке, и с первого же дня само собой сложилось так, что мы делили хлеб и вино. Жаль только, что Суньига был так неразговорчив.
Не доезжая до Лериды, мы догнали хвост огромной змеи, в которую превратилось союзное войско. В то время оно состояло из множества английских, голландских и португальских солдат; к ним присоединился даже каталонский полк (сборище безумных фанатиков, можете мне поверить), и все эти разноперые силы возглавляло не менее пестрое командование. Мы подъехали к основной колонне по тропинке, которая вливалась в широкую дорогу под прямым углом, и нам пришлось ждать несколько долгих часов, пока мимо нас проходили пешие части и продвигались повозки с боеприпасами, пушками, войсковым имуществом и провиантом. Замыкали процессию наши собратья: тысячи людей следовали за армией, словно чайки за кормой рыболовецкого судна.
Я отдавал себе отчет в том, что мне предстоит долгий путь, а мой испанский оставлял желать много лучшего, и поэтому прихватил с собой самую толстую книгу, какую только мне удалось найти. Я читал ее по вечерам при свете костра и даже во время наших переездов. Повозку трясло, а меня одолевал хохот, потому что история была хитроумно построена и радовала душу. И теперь я расскажу вам об одном незначительном эпизоде, который по неизвестной мне причине запечатлелся у меня в памяти.
Мы остановились где-то на одной из расстилавшихся за городком Балагер[68]68
Балагер – город в каталонской провинции Льейда (она же, в испанском произношении, Лерида).
[Закрыть] равнин, которые служат прелюдией к пустынным испанским землям, и, чтобы хоть как-то убить время, я взялся за книгу. С первой же строчки меня одолел смех, и на каждой странице я хохотал не меньше пяти раз. Подобное веселье привлекло внимание Суньиги.
– Интересно, что ты читаешь? – Он посмотрел на обложку и сказал недовольно и разочарованно: – А, вижу.
Не понимая его досады, я воскликнул с улыбкой:
– Я уже давно так не смеялся!
– Ирония божественна, а сарказм – от дьявола, – заметил Суньига. – А ты не можешь со мной не согласиться, что эта книга пронизана сарказмом.
– Если автор заставляет меня смеяться, – ответил циничный Суви, – меня мало заботит, как он этого добивается.
– Меня уязвляет то, – продолжил он, – что автор насмехается над подвигами, умаляет их значение. А если мы хотим выиграть эту войну, нам надо настаивать на эпике, а не высмеивать ее.
– Не понимаю, чем тебя не устраивает такая занимательная и потешная история. Как раз сейчас я прочитал главу, в которой герой нападает на конвой и освобождает каторжников. Ход его мыслей ясен как день: человек рождается свободным существом, а потому, если одни люди сковывают цепями других, любая благородная душа должна воспротивиться этой несправедливости. Оказавшись на свободе, преступники, как и следовало ожидать, забрасывают беднягу камнями. – Я схватился за живот от смеха. – Это грустно, забавно и умно!
Суньига, однако, оставался совершенно серьезным.
– Ты не разубедил меня, а еще больше укрепил в моем мнении. Ибо смысл существования литераторов состоит в том, чтобы распространять возвышенные мысли и использовать для этого стиль, способствующий возвышению языка. А это произведение – пример обратного: его страницы изобилуют драками и глупой болтовней. Разве такова задача искусства в его письменной форме?
– Литература может – и должна – преподавать нам истины, ибо только она располагает для этого необходимыми средствами. Если кто-нибудь скажет: «В безумии заключена ясность разума!» – столь мудрые слова прозвучат лишь пустой бездоказательной сентенцией. Однако, когда та же самая мысль преподносится нам в форме искусно построенной истории, мне остается только согласиться с автором. – Тут я двумя руками потряс перед ним толстым томом. – Да. Вот великая истина, которая заключена в этой книге: разум заключен в безумии.
На следующий день после нашего литературного спора Стэнхоуп и его лошадки оказались главными действующими лицами истории. Мы располагались неподалеку от городишки, который назывался Альменар[69]69
Альменар – небольшой город в провинции Льейда, недалеко от границ Арагона.
[Закрыть]. День клонился к закату, и мы уже собирались заночевать в его окрестностях, когда до нас долетели новости о том, что союзное войско вступило в схватку с армией Двух Корон. Я предложил Суньиге пойти вперед и посмотреть, что происходит. Мы обогнули караван гражданского населения, сопровождавшего войска, и в тылу армии встретили больных солдат, которых везли куда-то на повозке. Когда мы спросили их, что происходит, те указали на восток:
– Говорят, будто Стэнхоуп застал бурбонскую армию врасплох.
Я предложил Суньиге подняться на небольшой холм неподалеку, потому что оттуда было удобнее наблюдать за событиями.
Путь оказался неблизким. Честно говоря, мы решили совершить эту прогулку, потому что больше нам нечем было заняться. Солнце уже садилось, и мы поднимались по склону довольно споро. На красноватой земле тут и там росли кустики розмарина. В воздухе разливался приятный аромат.
Холм наш был не слишком высоким, но панорама с него открывалась прекрасная. У наших ног лежала прямоугольная равнина, слева обрамленная горами, а справа рекой. По одну короткую сторону прямоугольника располагался Стэнхоуп со своими кавалеристами. Один полк мог закрывать позицию длиной в шестьдесят метров, а Раз-и-готово Стэнхоуп прибыл в Испанию с четырьмя тысячами отборных молодцов, самых что ни на есть горячих. Когда они не скакали верхом и не пили, то мочились своим «биром» (на их языке пиво называется beer), поэтому каталонцы прозвали их pixabirs, то есть «пивописцами». На противоположной стороне прямоугольника расположилась бурбонская армия. Пехота была спешно выстроена на позициях с примкнутыми штыками. Боже мой, какую величественную картину являет собой построение тысяч бойцов перед битвой! И, несмотря на это, мои чувства, отточенные на уроках военного искусства в Базоше, позволяли мне увидеть нечто большее, чем мундиры солдат или их плоть. В скоплении этого множества людей, построенных побатальонно, мои глаза различали их души, подобные тысячам свечей, дрожащих под дуновением приближающегося урагана.
Мне вспоминается, что Суньига не удержался и произнес:
– О господи, чем все это кончится?
В мое время теоретики тактики кавалерийских подразделений вели споры, подобные тем, которые занимали инженеров. Можно сказать, что они тоже делились на приверженцев Вобана и сторонников Кегорна. И Кегорном их был герцог Мальборо. Да-да, двоюродный брат Джимми, тот самый «Мальбрук в поход собрался, миронтон, миронтон, миронтэн»[70]70
Первые строчки народной французской песни «Marlbrough s’en va-t-en guerre», которую, вероятно, сочинили французские солдаты, чтобы посмеяться над генералом противника.
[Закрыть].
До него кавалерия всегда вела себя осторожно. Всадники приближались к позициям пехоты неприятеля, выстраивались на расстоянии пистолетного выстрела и разряжали свое оружие. Беспрестанный огонь мог заставить солдат пехоты занервничать и пуститься бежать. Тогда – и только тогда – кавалеристы выхватывали сабли из ножен и бросались вслед за разбегавшимися солдатами неприятеля.
Эта хитрая тактика, позволявшая выждать удобный момент, ничем не рискуя, была отвергнута герцогом Мальборо. По сути дела, его предложение отбрасывало науку об использовании кавалерии на триста лет назад. Разве лошадь сама по себе не может служить мощным оружием? Мальборо вернул кавалерию в Средневековье: лошади мыслились им не как средство передвижения, а как машина для уничтожения пехоты.
Английская кавалерия первой взяла на вооружение эту новую тактику. Когда всадники оказывались на расстоянии ста метров от врага, они просто-напросто не останавливались и переходили с рыси на галоп. Лошади сметали все на своем пути – и исход битвы был решен. Раз и готово!
(Ну-ка, моя немочка, скажи-ка, какой из двух теорий следовал Раз-и-готово Стэнхоуп? Браво, милочка, ты угадала! Какая же ты у меня умница!)
Солнце уже скрывалось за горизонтом, и только половинка оранжевого шара горела на фоне фиолетовых облаков. Для меня остается загадкой, почему испанцы ничего не предприняли. Когда мы с Суньигой поднялись на холм, оба войска стояли друг напротив друга уже довольно давно. У испанцев было достаточно времени, чтобы перестроиться или даже вообще отступить, но они не сделали ничего, решительно ничего – и предпочли ждать, страдая под жгучими лучами летнего солнца. Может, долина оказалась слишком узкой для задуманного маневра, а может, они еще не знали о тактике английской кавалерии и ожидали, что всадники ограничатся выстрелами из пистолетов и карабинов. Возможно также, что просто-напросто – как это часто бывает – испанцами командовало сборище неумех.
Мы увидели, как войска союзников расположили на возвышенности батарею из шести пушек и тут же начали стрелять, совершенно очевидно собираясь поддержать кавалерийскую атаку. Стэнхоуп разделил свои силы на две группы. По его приказу первое построение бросилось в наступление с саблями наголо, хрипло воя, точно стая волков.
Поверьте моим словам: в нашем мире нет, наверное, ничего ужаснее кавалерийской атаки в вечерних сумерках. Тысячи и тысячи тяжелых копыт стучали по земле в порыве этого живого урагана; земля так дрожала, что вокруг нас покатились по склону камни и комья земли.
В то время бурбонская армия была значительно ослаблена. В начале года большая часть французских войск вернулась на родину, чтобы укрепить фронт на Рейне, а испанские новобранцы оставляли желать лучшего. Как бы то ни было, даже не располагая сведениями о слабости войска Двух Корон, любой профан понял бы, к чему все идет. Стоило ему увидеть тучу красных мундиров, несущихся верхом на хрупкую линию белых солдатиков, и исход боя становился очевидным.
Ряды испанцев стали изгибаться, точно связки сосисок, несмотря на то что офицеры надрывали глотки, пытаясь восстановить порядок. Строй дрогнул. Бедные ребята: их только что завербовали, а на них двигалась отборная английская часть. Я быстро сделал подсчет: четыре тысячи лошадей по триста килограмм каждая плюс по семидесяти килограмм на каждого всадника равняется одному миллиону четыремстам тысячам килограмм. И вся эта масса мчалась со скоростью тридцать километров в час на полумертвых от страха мальчишек. За секунду до столкновения я предпочел отвернуться.
На некоторых участках штыки неожиданно оказали сопротивление, но тут и там строй рушился, как прогнивший забор. Даже раздавшийся шум напоминал грохот ломающихся досок. И, несмотря на яростное столкновение первых рядов противников, на поле боя под Альменаром я получил урок, в правильности которого смог потом неоднократно убедиться: отступления в большинстве своем начинаются, как это ни странно, в тылу.
С этого момента битва превратилась в охоту на людей. Кавалериста необычайно притягивает вид спины убегающего врага. Инстинкт заставляет всадника догнать его и одним ударом сабли разрубить ему череп. Что же до беглеца, то у меня нет слов, чтобы описать его мучения: если с ним не покончит сабля, от копыт коня ему все равно не уйти.
Я уже описал вам поле сражения: прямоугольная долина, слева ограниченная горами, а справа рекой. Чтобы добраться до воды, надо было спуститься в довольно глубокий овраг с обрывистыми склонами. Во время бегства сотни людей падали туда по вине собственных товарищей, которые толкали их в пропасть. Некоторые несчастные разбивались о камни, а оставшиеся в живых пытались переплыть на другой берег. Кое-кому удалось скрыться в западном направлении.
Во время бегства бурбонские части бросали пушки и все свое имущество. Я закричал Суньиге, указывая на горизонт:
– Смотри! Там вдали, в лесочке на возвышенности, видишь? Это сам Бурбончик, собственной персоной, улепетывает в сопровождении своих придворных и наемной стражи!
Пивописцы Стэнхоупа были заняты преследованием бурбонских солдат, а те побросали все свои пожитки, включая роскошные кареты, в которых Бурбончик таскал за собой все свои драгоценности. А я уже говорил: первым всегда достается самый жирный навар, и в этой сумятице можно было попытаться урвать кусок побольше: повозку с королевским фарфором, пятьдесят пар великолепной обуви или еще что-нибудь ценное. К тому же смеркалось, и под покровом тьмы нас никто бы не заметил. Стоны умирающих наполняли воздух, словно кваканье лягушек в болоте в вечерний час. Дюжины мародеров уже искали чем поживиться, перепрыгивая через трупы. Я заметил, что мужчины рылись в карманах трупов в поисках денег или каких-нибудь украшений, а женщины старались завладеть сапогами или одеждой.
– Лучше нам пойти поодиночке, – сказал я Суньиге. – Если один из нас найдет что-нибудь интересное, пусть свистнет трижды.
Мы разошлись в разные стороны, но мне очень скоро захотелось сдаться, потому что наступила темная ночь. Я задержался около оврага, который спускался к реке, думая, что, может быть, туда упала какая-нибудь повозка с ценным грузом. На месте бурбонского солдата, которому поручили везти святыни двора или королевские ночные горшки из чистого золота, я скорее бы согласился пустить свою повозку под уклон, чем оставить ее врагу.
Склон оказался очень крутым, и я спускался медленно и осторожно, но не нашел ничего интересного, кроме нескольких трупов на берегу. По обоим берегам тянулись заброшенные огороды, растоптанные сапогами и копытами во время передвижения войск. Луна взошла, и в ее свете я направился к нашей повозке, но по дороге вдруг увидел Суньигу.
Он выходил из каменного сарайчика, где хозяева огорода раньше хранили свой инструмент.
– А, ты тоже здесь, Диего, – окликнул его я.
Суньига очень удивился, заметив меня, и рассказал, что зашел в сарай поглядеть, нельзя ли там чем поживиться, но ничего не нашел. Если бы не мое обоняние, дело бы этим и кончилось, мы бы развернулись и ушли. Но Базош натренировал все мои чувства: мое зрение, мой слух и мое обоняние. И в ту минуту, когда Суньига закрывал покосившуюся дверь, что-то изменилось. Движение двери направило мне прямо в нос струю воздуха из сарая, и я почувствовал запах. Очень характерный запах, хотя и смешанный с обычными крестьянскими ароматами сухого зерна и старых веревок. Но в центре оставался этот своеобразный дух. Мое обоняние помнило его, но моя память меня подводила.
– Дай-ка я взгляну, – сказал я.
– Сказано же тебе, что ничего там нет, пошли скорее, – встал на моем пути Суньига.
Я отодвинул его, подошел к двери и шагнул за порог. Запах, этот запах – он был неприятен и одновременно не давал мне покоя. Какое он имеет ко мне отношение, о чем напоминает? В сарае было темно, в помещение проникали только серебристые струйки лунного света. Кирки и лопаты давно заржавели, в углу гнили когда-то забытые здесь кукурузные початки. В глубине сарая виднелись очертания бесформенной груды чего-то непонятного, прикрытой куском старой мешковины. Туда. Каждый человек обладает своим особым запахом, а страх его усиливает. Меня вдруг озарило: я наконец вспомнил, кому принадлежал этот запах забитых салом грязных пор и жирной плоти.
Я отдернул ткань. И увидел его – Йориса Проспера ван Вербома, который затаился там, точно скорпион под камнем. И прежде чем он успел отреагировать, я поступил с ним так, как полагается поступать со скорпионами, – придавил его голову каблуком.
– Попался, – сказал я.
Мне стоило некоторого труда справиться с его тяжелой тушей, но я все-таки вытащил его из угла и принялся нещадно молотить кулаками.
– Марти! Оставь его в покое, ты же его убьешь!
– Ты не знаешь, что это за тип, – ответил я, переводя дыхание.
Под градом моих ударов Вербом кричал по-французски, по-испански и еще на каком-то голландском наречии. Суньига обхватил мое туловище руками.
– Ты же сам тысячу раз говорил, что нормальным людям никакого дела нет до этой династической войны! А сейчас готов убить этого несчастного человека!
– Несчастного человека? – Я перестал работать кулаками и посмотрел на Суньигу, отдуваясь. – Это его ты называешь несчастным человеком? Да это же Проспер ван Вербом!
Вербома спас Суньига. Узнав, что это важная шишка, он упросил меня не убивать его, а взять в плен и получить за это вознаграждение. И я по дурости согласился.
Пушечное ядро убило коня под Вербомом, а сам он был ранен, но не тяжело, и при отступлении ему удалось укрыться в этом сарае. По правде говоря, нас поздравили и щедро наградили. Даже сам Раз-и-готово Стэнхоуп захотел познакомиться с нами лично.
Сердце так подпрыгнуло у меня в груди, что чуть не выскочило наружу. Может быть, в этом заключается знак Mystère? До службы в кавалерии Стэнхоуп, вероятно, посвятил годы своей жизни инженерному делу. Не станет ли он теперь моим новым учителем? Я сразу развею все ваши сомнения: этого не произошло. Он показался мне человеком наименее подходящим для того, чтобы искать у него моральной поддержки. Все великие наездники кажутся низкорослыми, когда спешиваются, и Стэнхоуп тоже оказался карликом, как в отношении роста, так и ума. Этот генерал был тщеславен и одновременно медоточив. Он привел нас в свою походную палатку с одной лишь целью: возвысить свою фигуру, поощряя нас. К концу церемонии все присутствовавшие на ней усвоили, что, если союзники одержали победу и взяли в плен столь важную персону, как Вербом, причиной тому было не объединенное усилие войск и не жалкий австрийский королишко, а только и исключительно присутствие в Испании такого гения, как Джеймс Стэнхоуп.
После аудиенции Суньига спросил меня о Вербоме:
– Что он тебе сделал? Почему ты его так ненавидишь?
Я ничего путного ответить не смог. С нашей драки в Базоше много воды утекло. Образ Жанны возник в моих мыслях, и я почувствовал резкую боль в груди. Но мне хотелось думать, что объяснением моей ненависти к голландскому колбаснику служило нечто большее, чем просто личная месть.
Вербом был скверным человеком. И если вы перечитаете последнюю фразу, то согласитесь: это худшее, что можно сказать о человеческом существе. Мы словно говорим ему: «Без тебя мир был бы гораздо лучше». В справедливом мире Вербому не нашлось бы места, а из мира несовершенного его бы следовало немедленно изгнать, дабы не позволить этому проходимцу сей мир ухудшить. Я этого не сделал, о чем впоследствии горько пожалел, как всегда бывает, когда мы предпочитаем выгоду справедливости.
(А ты как думаешь? Конец этой главы звучит как мораль басни? А, ну конечно, тебе это как раз по вкусу. Прекрасно, тогда у меня не осталось сомнений: порви эту страницу. Наверняка станет лучше.)

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?