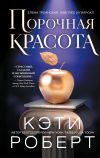Текст книги "Изобличитель. Кровь, золото, собака"
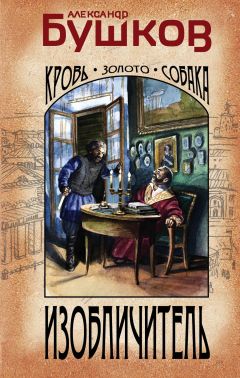
Автор книги: Александр Бушков
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
– Имеется, как же. Вот только… – Он замялся, словно бы чуть смутившись.
Доктор ехидно сказал:
– Вот только там давным-давно все пылью покрылось на вершок и паутиной заросло. Я бы с превеликим удовольствием, господа, поменялся местами хоть с заведующим сим полезнейшим учреждением Жевакиным, хоть с его помощником. Это же надо представить такую синекуру: годами означенные ученые мужи в шашки дуются да за пивом в трактир посылают, что и является их единственным занятием. А жалованье идет аккуратно, каждое двадцатое число. И ведь не придерешься, в плохой работе не упрекнешь, потому что нет работы. Приятная синекура-с! Завидую!
Ахиллес вопросительно глянул на околоточного. Тот с тем же легким смущением сказал:
– Господин доктор, конечно, зол на язык, но так оно и обстоит, господин подпоручик. Что поделать, если в нашем захолустье попросту не случается дел, требовавших бы дактилоскопии. Мелок наш преступный люд… да и хорошо, по-моему. А уж босяцкие шалости и вовсе дактилоскопии не требуют…
– Ну вот и появилось дело, – решительно сказал Ахиллес. – Господин доктор, попозже, когда я все закончу, извлеките нож со всеми предосторожностями, чтобы не касаться рукоятки, насколько удастся. А вы, Яков Степанович, с теми же предосторожностями упакуйте нож и, доложившись господину приставу, отнесите его в дактилоскопический кабинет.
Он отвернулся от дивана и стал разглядывать комнату. С первого взгляда было видно, что это именно кабинет: массивный двухтумбовый письменный стол, помнивший, быть может, времена государя Николая Павловича, рядом с ним – столь же массивное опрокинутое кресло. В правом углу – высокий, по грудь Ахиллесу, несгораемый шкаф. Стойка с толстыми книгами – по виду конторскими или бухгалтерскими. Подошел к столу, присмотрелся. Там почти что ничего и не было. Справа – большие счеты с костяными кругляшками, в центре – стопа чистой бумаги, лежавшая у дальнего конца стола, и справа же – полная чернил кубическая стеклянная чернильница, прикрытая медной крышечкой. Все выглядело так, словно хозяин собирался что-то писать, да так и не начал… или не успел. Хотя…
Присев на корточки, Ахиллес вытащил из-под стола скомканный лист бумаги, как две капли воды похожий на те, что лежали аккуратной стопкой. Расправил, выпрямившись. Аккуратным «старообрядческим» почерком – каждая буква выведена отдельно – там было написано что-то непонятное. Всего одна строчка: «Мустафа в апреле». И дальше – непонятный рядок чисел, отделенных друг от друга запятыми. И всё, ничего больше. Пожав плечами, Ахиллес положил лист на стол. И обратил внимание, что счетами явно пользовались – примерно половина костяшек стояла у левой стороны счет, группами, в разных количествах. Меж тем, он знал, человек, закончивший расчеты, как-то машинально наклоняет счеты, и все костяшки ссыпаются вправо. Возможно, это означало, что Сабашников намеревался продолжать расчеты, но решил сначала вздремнуть и употребить малую толику смирновской. А зачем вообще заниматься расчетами за полночь, что за такая спешная потребность?
– Вот с крючком непонятное… – подал голос околоточный.
Оглянувшись на массивный, по виду бронзовый крючок, Ахиллес спросил:
– А что с ним не так?
– Вы не знаете? – удивленно воззрился на него околоточный.
– Яков Степанович, я, можно сказать, ничего не знаю, – ответил Ахиллес. – Мне лишь сказали, что Сабашников то ли убит, то ли сам зарезался, и это все, что мне известно.
– Так ведь изнутри была заперта дверь, – сказал околоточный. – Когда случился… переполох и мы прибыли, заперто на щеколду, хотели уж позвать еще городовых и дверь ломать. Только Дуня, служанка, сказала, что никакой щеколды там нет, а есть крючок. Ну, это было проще: щель меж дверью и косяком имеется, хотя и узенькая. Попросили ее принести два кухонных ножа потоньше, один сломали сгоряча, а вторым удалось крючок поднять. Изнутри он был накинут, вот ведь какая оказия…
– Оказия, говорите… – рассеянно пробормотал Ахиллес и подошел к распахнутой настежь двери.
Крючок не болтался свободно – он стоял вертикально, под углом почти в девяносто градусов, словно приклеенный к двери некой неведомой силой. Ахиллес пошевелил его указательным пальцем, для чего понадобилось некоторое усилие. И крючок упал влево, повис.
Не было никакой неведомой силы. Просто-напросто крючок был прибит настолько тесно, что, не будучи вставлен в кольцо, не болтался, а прилегал к темным доскам.
И тут у него мелькнула идея, показавшаяся сначала вздорной – но, в конце концов, при неудаче он все равно не выставил бы себя на посмешище…
Закрыв дверь, он установил крючок в прежнее положение, так же вертикально, под углом почти девяносто градусов, примерился и резко потянул дверную ручку на себя. Дверь легонько стукнула, крючок упал, оказавшись точнехонько в кольце.
Обернулся. Присутствующие, не исключая доктора, взирали на него как на циркового фокусника, на глазах почтеннейшей публики извлекшего из пустой вроде бы стеклянной вазы букет цветов – видывал он такое в Чугуеве, когда туда приехал цирк и юнкерам дозволили организованное посещение.
– Вот вам, господа, и «запертая изнутри» дверь, – сказал он без особого торжества – рано было торжествовать, если вообще придется…
– Вот, значит, как… – протянул околоточный.
– Именно, – сказал Ахиллес. – Достаточно было легко дернуть дверь на себя… или толкнуть ее снаружи. Хотя нет, если здесь был убийца, все мы видим, каким путем он ушел…
И подошел к окну, выбитому почти начисто – только редкие зазубренные осколки торчали по всему периметру рамы. Под сапогами противно хрустнуло стекло. Он внимательно посмотрел себе под ноги – и, обернувшись, встретил какой-то странный взгляд околоточного, пытливый, хмурый. Интересно, очень интересно…
Околоточный уже открыл было рот, но Ахиллес остановил его выразительным взглядом, моментально понятым околоточным, так и не произнесшим ни слова. Еще раз глянув на кучку битого стекла на полу у подоконника, стараясь, чтобы это выглядело небрежно, вновь повернулся к остальным:
– Если допустить, что убийца был… И явно поджидал здесь, а не вошел, когда Фрол Титыч уже прилег отдохнуть… А так оно, судя по всему, и было, иначе господин Сабашников хоть чуточку, да изменил бы позу – Митрофан Лукич мне говорил, что спал он чутко, исстари имел такую привычку… Как он покинул кабинет, мы все видим. А вот где мог прятаться… Вроде бы и негде. Хотя… – Он подошел к несгораемому шкафу, стоявшему отнюдь не вплотную к стене. Да, там имелось пустое пространство, вполне достаточное, чтобы…
Туда даже не пришлось протискиваться – Ахиллес залез довольно свободно, огляделся, присел на корточки и громко позвал:
– Яков Степанович! Видно меня?
– Нисколечко, господин подпоручик!
– А теперь подойдите вплотную к столу.
– И так – нисколечко…
Вылезши из-за несгораемого шкафа, Ахиллес хотел отряхнуть рубаху, но на ней не оказалось ни пылинки: еще не виденная им Дуняша, судя по всему, была прилежной, убирала пыль со всем усердием и за шкафом.
– Ну что же, – сказал он. – Что мы можем с уверенностью предположить? Мы знаем, где мог прятаться убийца, знаем, как он придал двери вид «запертой изнутри», каким путем ушел. Одного не знаем, для чего ему понадобилось идти на убийство?!
– То есть как? – недоуменно воскликнул Сидельников. – А десять тысяч?
– Какие десять тысяч?
– Вы и этого не знаете?!
Ахиллес произнес чуть резко:
– Я же говорил, что ничего не знаю. Кроме того, что господин Сабашников лежит в своем кабинете с ножом в груди. Что за десять тысяч?
Сидельников прилежно пояснил, словно исправный солдат на уроке словесности[27]27
Словесность – устные занятия в войсках, где солдат обучали молитвам и десяти заповедям, истории полка, назначению солдата, значению знамени и присяги, правилам титулования офицеров, чинам и фамилиям полкового начальства, знакам различия, порядку внутренней, гарнизонной и караульной службы и др.
[Закрыть]:
– Вчера Фрол Титыч взял из Русско-Азиатского банка десять тысяч. Собирался послать очередной караван в Туркестан. Туда он должен был идти с разными ходкими у туземцев товарами, а назад – со скупленной у них же шерстью. Половина суммы была в ассигнациях, половина – в золоте, в червонцах и пятирублевиках.
– Зачем понадобилось тащить такую тяжесть? – искренне удивился Ахиллес, быстренько произведший в уме несложные расчеты – с математикой у него всегда обстояло хорошо и в гимназии, и в училище. – Пять тысяч золотом – это почти десять фунтов. К чему лишняя тяжесть, когда есть ассигнации?
– Тонкости торгового дела, господин подпоручик, – так же старательно сообщил Сидельников. – Большую часть шерсти предполагалось закупать не в городах – там свои перекупщики, к чему переплачивать? – а в тамошней провинции. В больших городах туземные торговцы давно пообтесались, прекрасно знают, что ассигнации надежны, не хуже золота, – да и имеют свободный размен на золотую монету без ограничения суммы, что на каждой и напечатано. А в глухомани, в провинции тамошней, народец диковатый… да как в любой провинции, и у нас тоже. Золото они понимают, а вот «бумажкам» совершенно не верят. Не бывало у них бумажных денег испокон веков – одна звонкая монета. Вот и приходится порой к таким тащить, как вы справедливо изволили выразиться, лишнюю тяжесть. Однако тяжесть не столь уж велика – для верблюда лишние десять фунтов не груз, а выгода от подобных сделок ощутимая…
– Понятно, – сказал Ахиллес. – Ну что же, убедительный повод. Людей, случалось, за пару рублевиков и дырявые сапоги убивали, а уж за десять тысяч, из которых к тому же половина золотом… Иной зарежет и не поморщится. Да, это повод… Каковой, думается мне, резко суживает круг подозреваемых… Кто знал, что из банка взяты деньги, что они пойдут с караваном?
– Дайте подумать… – наморщил лоб Сидельников. – В первую очередь я, конечно. Кассиры в Русско-Азиатском банке – но они знали лишь, какая сумма взята и кем. Что до тех, кто знал, куда деньги отправляются… В конторе нашей – человек пять, из тех, что как раз и занимаются такими вот караванами. И уж конечно, Мустафа Габдулаев. Один из караванов он и водил, двадцать верблюдов держит. Ну, положим, деньги должен был везти не он, а Прохор Загарин – есть у нас такой приказчик, малый поднаторелый, не первый год туда ездит, к верблюдам привычен, на двух туркестанских языках болтает бойко.
Но все равно, Мустафа должен был знать…
Ну что же, подумал Ахиллес, круг подозреваемых не столь уж и широк… Человек около десяти. Правда, тут есть свои тонкости. Трудно себе представить обычного банковского кассира или приказчика, сумевшего как-то проникнуть в дом незамеченным, хладнокровно вогнать нож купцу в сердце и уйти незамеченным. Впрочем, он мог подрядить на это дело какого-нибудь отпетого головореза… но сыщутся ли такие в Самбарске, где он слышал неоднократно, что здешний воровской народец мелок?
– Господин подпоручик! – с явственным азартом в глазах воскликнул Сидельников. – А что, если Мустафа? От этих нехристей всякого можно ждать. Несколько лет уж водил для господина Сабашникова караваны, знал, что Загарин всегда с деньгами, да вот прежде суммы были не такие уж великие – тысяча там, две-три. А тут – сразу десять, причем половина в золоте, каковое в отличие от ассигнаций номеров и серий не имеет. Вот и соблазнился. А? Мужик ловкий, хваткий, жилистый – в таком ремесле увальню делать нечего. Видывал виды, а этим магометанам что человека зарезать, что барана…
Ахиллес подумал и сказал:
– Что-то плохо верится. Можно было и по-другому, гораздо проще, если допустить, что он соблазнился… Ваш Загарин, я так предполагаю, единственным русским с караваном ездит?
– Совершенно верно. Остальные все – татары Мустафы.
– Можно было бы гораздо проще, – повторил Ахиллес. – Где-нибудь посредине пути, лучше уже в туркестанских областях, почествовать вашего Загарина ножичком, а то и двумя-тремя, забрать деньги и скрыться. В том же Туркестане, среди единоверцев. Пока здесь узнали бы, пока приняли меры – ищи ветра в поле… Вот, кстати. Допустим, это Мустафа… или иной душегуб. Неважно, кто. Перед любым стояла бы еще и задача деньги из сего вместилища извлечь, – он кивнул на несгораемый шкаф. – А я что-то на нем не вижу следов взлома. Ключи подобрали? Трудновато было бы.
– Нет у нас таких штукарей, – поддакнул околоточный. – Несгораемый шкаф подломать – для наших дело неподъемное.
– Так ведь деньги не в шкафу лежали! – воскликнул Сидельников. – А в столе, вон в том, в правом ящике, бумагами только прикрытые. А ящики у стола без замков.
– Вот именно, – сказал хмуро околоточный. – И нет там сейчас денег. Мы с господином приставом и ящики стола обыскали, и шкаф. В столе – одни бумаги да всякие мелочи. В шкафу – тоже бумаги, надо полагать, гораздо более важные, которые следует под крепким замком держать. Еще старый «Смит-Вессон» с патронами, незаряженный и, судя по состоянию, давно там пролежавший без надлежащего ухода, чистки и смазки.
– Это с тех времен, когда Фрол Титыч сам по торговым делам ездил в рисковые места вроде Туркестана, – пояснил Сидельников. – Только уж больше десяти лет, как перестал.
– Все бумаги мы с господином приставом просмотрели, – старательно сказал околоточный. – Ровным счетом ничего, что помогло бы следствию. Разнообразные деловые бумаги, и только. Да, еще там коробочка с серьгами – брильянты немаленькие.
– Фрол Титыч, должно быть, подарок супруге готовил, – сказал Сидельников. – У нее на будущей неделе день ангела.
– Так… – сказал Ахиллес. – Думаю, в таком случае мне и смысла нет самому еще раз бумаги пересматривать. Да и что там могло быть такого, полезного для следствия – обычные купеческие бумаги…
– Самые обычные, – заверил околоточный.
– Что же вы так… – вздохнул Ахиллес, глядя на Сидельникова. – Такие суммы держали, можно сказать, под подушкой, когда несгораемый шкаф – вот он…
– Да уж таков был Фрол Титыч… – понурился Сидельников. – Я ему не раз говорил про шкаф, говорил, что так надежнее. А у него характер – кремень. Уперся, и никаких: всю жизнь меня, говорил, не грабили, в дом не забирались, так что теперь Господь убережет. Не уберег вот… Больно уж места у нас тихие, господин подпоручик, сущее сонное царство. Сколько живу, на моей памяти подобного не случалось. Разве что опоят дурманом на ярмарке недотепу с тугим бумажником и избавят от всего ценного – но и там таких денежных сумм не стригли.
– Совершенно верно, – поддержал околоточный. – Ярмарке нашей далеко, скажем, до Нижегородской, Ирбитской или, скажем, Лебедянской. Мазуриков, грабителей, карточных шулеров и продажных девок слетается немало, даже из соседних губерний, да все равно – не тот размах, не та добыча. Чтобы взять аж десять тысяч…
– А почему бы не допустить и такой оборот дела? – вмешался Сидельников. – Стекло оконное тихонечко выбить никак не получится. Пришел на шум Фрол Титыч, и, видя пропажу денег, впал в крайнее расстройство и лишил себя жизни…
– Сомнительно что-то, – решительно сказал околоточный. – Не по-купечески как-то. Нас учили… Каждому сословию присущ обычно свой способ лишать себя жизни. Дамы чаще всего пьют отраву, студенты и офицеры стреляются, а вот купец наверняка стал бы вешаться. Бывают отличия – скажем, с моста в реку прыгают, под поезд кидаются, однако все равно плохо верится, чтобы купец зарезался…
Всякое бывало. Один из учителей в Чугуевском был юнкерами любим гораздо более других преподавателей – что греха таить, за то, что на каждом уроке раза три отвлекался ненадолго на вольные темы, не имевшие никакого отношения к его предмету. Он как-то рассказал и такое: в Англии, в начале прошлого столетия, стало прямо-таки традицией для решивших покончить с собой джентльменов перерезать горло бритвой. Причем так поступали и офицеры, у которых всегда был под рукой пистолет, а то и не один (впрочем, то же было и у штатских). Что было странно и непонятно: все решившие добровольно расстаться с жизнью должны были прекрасно понимать, что выстрел в висок или в сердце приносит смерть моментальную и легкую, а человек с перерезанным горлом еще долго будет агонизировать, пока не истечет кровью. И тем не менее, за редкими исключениями, в ход шла именно бритва.
Ну, во-первых, где Россия, а где Англия, а во-вторых, и для Англии это – дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. И все же проверить следовало досконально любое, самое шальное предположение…
– Я вас оставлю на пару минут, господа, – сказал Ахиллес решительно. – Прошу вас, оставайтесь пока здесь.
При его появлении в гостиной Пожаров прямо-таки рванулся из-за стола, развернув тяжеленное кресло, словно дачный плетеный стульчик, выдохнул с яростной надеждой в глазах:
– Ну что?! Прояснили дело?
Ахиллес вздохнул:
– Не так все быстро делается, Митрофан Лукич. Но появились уже серьезные надежды на скорое прояснение дела. Вы мне вот что скажите… Мог Сабашников зарезаться, обнаружив, что у него украли десять тысяч?
– А что, украли?
– Именно.
– Ни в жизнь!
– Ну, быть может, в крайнем расстройстве чувств из-за потери денег…
– Говорю вам, Ахиллий Петрович, ни при каких видах! В третьем годе Фролушка оплошку дал, из-за одного варшавского афериста лишился безвозвратно не то что десяти тысяч, а сорока – и на старуху бывает проруха… Не то что резаться не стал, даже и не напился до положения риз, чтобы горе размыкать, как на его месте многие бы сделали, да и я, многогрешный, тоже… Стиснул зубы, аж скрипнуло, и сказал: «Ништо! Бог даст, еще наживем». Вот такой он был человек. А уж чтоб резаться… Вздор! Он ведь, я уже говорил, верующим был истово, и на смертный грех не пошел бы, прекрасно знающи, куда души самоубийц после смерти попадают… Да и десять тысяч для него – не столь уж велик убыток. Не миллионщик был, Фролушка, конечно, но капиталец в банке у него лежит немалый.
Вернувшись в кабинет, Ахиллес спросил Сидорчука:
– А как вы с приставом в несгораемый шкаф попали? Ключами открыли, я так полагаю?
– Ключами, конечно. Вскрыть такой без ключей – дело нешуточное.
– А где были ключи?
– При покойном, – ответил околоточный. – У него в халате внутри потайной карман пришит. Это уж он сам, конечно, распорядился сделать – туркестанцы в халатах карманов не имеют, да и вообще карманов не знают, что им нужно носить с собой, либо в пояс заворачивают, либо за пазуху кладут. Видывал я их в Самбарске. А у покойного этак примерно на ладонь пониже… ножевой рукояти халат так оттопыривался, что сразу ясно было: лежит там что-то большое. Мы осторожненько пощупали, достали – она самая, большая связка ключей. Два к несгораемому ящику подошли. Вон она, связка, на столе. Не желаете посмотреть?
– Да нет, не вижу необходимости, – сказал Ахиллес. – Вот что, Яков Степанович… Вы ведь с приставом весь дом осмотрели?
– На всякий случай. Как положено.
– Есть тут какая-нибудь комнатка, где я мог бы с обитателями дома поговорить с глазу на глаз?
– Найдется. Вон в ту дверь пройдемте.
Планировка купеческого дома была нехитрая, часто не встречавшаяся; от входной двери примерно на две трети ширины протянулся коридор, в который выходило несколько дверей. За той, что распахнул перед Ахиллесом околоточный, оказалась средних размеров комната, где, судя по обстановке, обитал мужчина, но отчего-то она с первого взгляда производила впечатление нежилой, хотя прибрана была чисто. Ага, два стула у небольшого письменного стола – то, что надо.
– Здесь, я узнал, когда-то жил сын господина Сабашникова, – сказал Сидорчук. – Единственный. Других детей Бог не дал. Только он погиб лет двенадцать тому, при крушении парохода, уж не помню названия, меня тогда здесь и близко не было, я действительную в Уссурийском крае служил. Незадача какая – Горный институт закончил, плыл к отцу из Нижнего, а пароход ночью на полном ходу на камни налетел. Говорили, то ли рулевой пьян был, то ли капитан… Много народу погибло. Ну вот… С тех пор здесь и не живет никто, но комнату по-прежнему покойный велел убирать со всем прилежанием…
– Ну что же… – сказал Ахиллес. – Поступим так. Доктора отправьте в гостиную, пусть там ожидает. И приглашайте остальных сюда по очереди. Сначала Сидельникова, потом хозяйку, кухарку… как ее, Марфа?
– Марфа.
– Ее. И напоследок служанку. Как только очередной… или очередная отсюда выйдут, препровождайте их в гостиную, пусть все там и сидят И чтобы никто отсюда не выходил. Займите пост в коридоре так, чтобы и возле моей двери стояли, и дверь в гостиную видели.
– Понял. А насчет дворника Фомы как? Он у себя таки сидит, вид будто со страшного похмелья.
– Будто?
– Да вот так оно выглядит. И языком плохо ворочает, и весь вид как у похмельного, вот только перегаром что-то ничегошеньки не пахнет. И ведь с Дуней, со служанкой, та же история: выглядит так, будто вчера штоф выдула. Только и от нее перегаром не пахнет. Да и как ухитрилась бы вдрызг напиться при хозяйке в доме? Словно им чего подлили или подсыпали. Случалось мне на прошлой ярмарке показания снимать с двух купчиков, которым «кошки» дурмана подлили, а потом очнулись оба под заборами, с пустыми карманами, так вот, вид у них был в точности такой же… – В его голосе явственно обозначился служебный азарт: – Господин подпоручик, что, сдвинулось дело?
– Да вот похоже на то… – сказал Ахиллес. – Ну, я не гордый, я к этому Фоме и сам зайду, мне все равно еще во дворе осмотреться нужно будет.
Околоточный придвинулся ближе, понизил голос до шепота:
– Господин подпоручик, а стекла-то…
– Тс! – ответил Ахиллес так же тихо. – Всему свое время. Сам прекрасно вижу… Идите, зовите Сидельникова.
Он поднял два стула и поместил их по разные стороны стола. Чуть подумав, распахнул одну из створок окна. Купцы большей частью таких створок не признавали, оконные рамы заделывали намертво и форточек не устраивали. Однако покойный Сабашников-младший, без сомнения, придерживался более современных взглядов и не хотел превращать свою комнату в подобие герметичного сосуда. И курил, конечно, – на столике у кровати большая медная пепельница в форме листа неизвестного дерева, очень может быть, и не существующего в природе. О ней, сразу видно, тоже заботились, регулярно чистили – ни крупинки зеленой окиси. Перенесши ее на стол, Ахиллес принялся набивать трубку. Сидельников вошел прежде, чем он закончил. Молча показав ему на стул, Ахиллес примял табак в трубке большим пальцем, достал спички, сказал:
– Хозяйка, думаю, не обидится, если я здесь подымлю немного…
– Никоим образом, – легонько усмехнулся Сидельников. – Ульяна Игнатьевна и сама курит.
Ахиллес был несколько удивлен – несмотря на эмансипацию и прочие прогрессивные новшества, купцы старшего поколения, возраста Сабашникова или Пожарова, этих новшеств в семейном быту не признавали. Курящая купчиха при таком муже – явление редкое…
Видимо, Сидельников его удивление усмотрел. С той же легкой улыбкой пояснил:
– Ульяна Игнатьевна, если вам угодно знать, происходит не из купечества. Дочь отставного ныне обер-офицера[28]28
Обер-офицеры – чины от прапорщика до капитана включительно. Штаб-офицеры – майор, подполковник, полковник.
[Закрыть], Женский институт[29]29
Женский институт – закрытое учебно-воспитательное учреждение. И институты благородных девиц, и женские институты были в ведении Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны, где насчитывалось более 500 благотворительных, воспитательных, врачебных и учебных заведений. В женских институтах за казенный счет воспитывались дочери дворян, офицеров и гражданских чинов, а за собственный – девицы других сословий. Давали образование, близкое к программам женских гимназий.
[Закрыть] в Казани закончила. Современных взглядов женщина. С институтками, может, знаете, господин подпоручик, оборачивается по-разному…
* * *
Ахиллес кивнул – он знал. И в институтах благородных девиц, и в женских институтах воспитанниц форменным образом держали взаперти, то ли на монастырском, то ли на казарменном положении. Им, например, категорически запрещалось общаться с мужчинами, включая родных братьев. Подобная строгость воспитания приводила к тому, что само слово «институтка» стало символом наивности, излишней восторженности, полного незнания жизни. Но поскольку женщины есть женщины, встречались среди институток и такие, что, как бы подобрать подходящее слово, стремились наверстать упущенное, долгие года едва ли не монашеской жизни. Иногда ограничивалось безобидным, в сущности, курением, а порой принимало и более предосудительные формы…
Сидельников продолжал:
– Слава богу, в случае с Ульяной Игнатьевной вся эмансипация ограничилась курением табака…
– И все равно странновато как-то, – сказал Ахиллес тоном доверительной беседы. – Эмансипация эмансипацией, а купеческие нравы у людей, подобных покойному господину Сабашникову…
– Любил он ее, – просто сказал Сидельников. – Вы, может, и не поверите, господин подпоручик, но и она его тоже, несмотря на столь солидную разницу в летах. Восемь лет жили душа в душу.
– Отчего же не поверю? – пожал плечами Ахиллес. – Любовь – материя тонкая, преподносит самые неожиданные сюрпризы. Да что далеко ходить, в моем родном городе был случай. Золотопромышленник сорока лет и только что окончившая гимназию девица влюбились друг в друга со всем пылом. И получилось не минутное увлечение, налетевшая и схлынувшая страсть, а счастливое супружество. Лет уж восемь как обвенчались, двоих детей нажили…
Не было ни такого золотопромышленника, ни такой девицы. Историю эту он выдумал на ходу. Следовало затянуть Сидельникова в беззаботную, безобидную болтовню – а потом ошеломить…
– Вот видите, господин подпоручик, – сказал Сидельников с едва ли не мечтательной улыбкой. – Всякое в жизни бывает. Утром Ульяна Игнатьевна дважды в обморок падала, водой отливали, а уж причитала… Вот Фрол Титыч из любви и дозволил супруге табачком баловаться – лишь бы не в его присутствии и исключительно в этой комнате.
Сам он никому причин не объяснял, но я так полагаю, нравилось ему, когда в этой комнате табаком пахнет…
– Из-за сына? – понимающе спросил Ахиллес.
– В корень зрите, господин подпоручик. Табаком из комнаты тянет – вроде сын и дома, и не погибал вовсе…
– Интересно, а как они познакомились? – спросил Ахиллес (сейчас он не притворялся – его и в самом деле заинтересовало). – Учитывая разницу в возрасте и обычном окружении, плохо представляю, как такое могло произойти.
– Чуточку романтично все произошло. Городская управа устроила очередной благотворительный базар, на сей раз в пользу вдов и сирот воинов из нашей губернии, убитых и покалеченных во время похода в Китай… Вы, господин подпоручик, знакомы с такими базарами?
– Знаком, – кивнул Ахиллес.
На сей раз он нисколечко не лгал, был знаком не только по рассказу Антона Павловича Чехова – в его родном городе они тоже случались. «Продавщицы», самые красивые девушки и молодые дамы, продают безделки вроде домашнего рукоделия ценой в три копейки за пять рублей, чашку чая – за десять, бокал шампанского – за четвертной. И частенько еще господа с толстыми бумажниками форса ради, подав за чашку чая «катеринку», сдачи не просят. Он был однажды на таком базаре уже после окончания гимназии и потратил там не без труда сбереженные двадцать рублей на две чашки чая, которым бойко торговала его тогдашняя любовь – и не подозревавшая, что она его любовь. Ну, очередная юношеская влюбленность, подобно прежним, и эта истаяла так быстро, что он даже чуточку удивился…
– Вот так они и познакомились. Ульяна Игнатьевна торговала там собственноручно вышитыми салфеточками по три рубля за штуку. – Он улыбнулся. – Фрол Титыч подходил четыре раза, пока не скупил все до одной. Так оно все и началось, а закончилось венчанием через полгода. Кто-то мне говорил, что есть роман на схожий сюжет. Вроде бы «Владимир на шее». Точно не помню, я романы в руки беру раз в год, и – у каждого ведь свои вкусы, верно? – непременно из французской великосветской жизни.
– Не Владимир, а Анна, – сказал Ахиллес. – И не роман, а рассказ. А в остальном все верно – тот же самый сюжет… Я бы с вами и дальше беседовал о постороннем, но обстоятельства, сами понимаете… Приходится к убийству возвращаться… Павел Силантьевич, милейший, – начал он чуть ли не благодушно, но тут же подпустил металла в голос: – А можно ли осведомиться, где вы, вот лично вы, пребывали ночью с полуночи до часу?
Глубоко затянувшись, он выпустил дым и с интересом наблюдал, как на лице Сидельникова, словно фигуры в детской игрушке калейдоскопе, сменяют друг друга самые разнообразные эмоции в немалом количестве: ошеломленность, изумленность, недоумение, испуг, ярость. В конце концов это калейдоскопическое мелькание кончилось. Осталось одно чувство: неприкрытый гнев.
Наклонившись вперед, Сидельников буквально прорычал:
– Вы что же, меня подозреваете? Меня? Да я… Да он… Да он мне был как отец родной!
Ахиллеса так и подмывало напомнить о том, что случалось не раз и в нашем богоспасаемом Отечестве, и в иностранных державах: когда дети убивали родных отцов и матерей, отцы и матери – родных детей. Но обострять ситуацию и заходить слишком далеко не следовало.
Постаравшись придать лицу некоторое простодушие – и надеясь, что это у него получилось должным образом, – Ахиллес сказал примирительно:
– Павел Силантьевич, дорогой! Да что с вами? Откуда такая ажитация? С чего вы взяли, что я вас подозреваю?
Сидельников резко бросил руку в боковой карман модного пиджака. Ахиллес напрягся, уже представив, как в случае осложнений обеими ногами опрокинет на своего визави[30]30
Визави – сидящий или стоящий напротив (от франц. vis-a-vis).
[Закрыть] не столь уж и тяжелый стол, а сам бросится со стула на пол.
Нет, никаких осложнений – забинтованная рука извлекла на свет божий не какой-нибудь огнестрельный предмет, а обычный серебряный портсигар со знакомым сюжетом на верхней крышке – три конских головы в уздечках. Выпускается в массовом порядке, как булки в большой пекарне, и стоит не так уж дорого. Управляющий богатого купца, пожалуй что, мог позволить себе и гораздо более дорогой – в особенности если он, как Сидельников, холост и расходами на содержание семьи не обременен.
Нажав на кнопку с красной стекляшкой так, словно давил на спуск револьвера, Сидельников распахнул портсигар так резко, что часть папирос просыпалась на пол. Поднимать их управляющий не стал – прямо-таки бросил в рот одну из оставшихся и принялся чиркать спичкой. Спичка сломалась, не вспыхнув. Со второй произошло то же самое.
Ахиллес вежливо поднес ему зажженную спичку. Одарив его яростным взглядом, Сидельников все же прикурил, вдохнул дым так, словно хотел покончить с папиросой одной затяжкой. Ахиллес терпеливо ждал. Нет, затяжек потребовалось все же четыре. Раздавив окурок в девственно-чистой – если не считать двух спичек – пепельнице, Сидельников уже чуточку спокойнее, но все же сердито-возбужденно воскликнул:
– То есть как это – с чего взял? Вы же при мне спрашивали у доктора о времени смерти, и он ответил: с большой вероятностью меж полуночью и часом ночи. А вы меня спрашиваете, где я был во время убийства! Значит, подозреваете!
Тем же примирительным тоном Ахиллес продолжал:
– Право же, Павел Силантьевич, вы серьезно ошибаетесь. Я вовсе не подозреваю вас лично. Я подозреваю всех. Понимаете? Всех, кто знал, что у господина Сабашникова была неосмотрительная привычка держать деньги – в том числе, как я убедился, и достаточно крупные суммы – в незапертом правом верхнем ящике письменного стола. Всех, кто знал, что накануне господин Сабашников получил в Русско-Азиатском банке десять тысяч. Никаких подозрений персонально в ваш адрес. Поймите, это азбука сыскного дела: пока не найден виновник, при первых шагах следствия подозреваются все. Потом-то кандидаты в убийцы и грабители отпадают один за другим – когда пройдет достаточно много времени, чтобы изучить каждого и сказать точно: вот этот убить не мог, этот никак не мог… а вот этот и убил! Но я только начал, делаю первые шаги, как только-только вставший на ножки малыш. Просто-напросто сложилось так, что из всех подозреваемых вы встретились мне первым. Ну, поняли вы наконец? Вы же умный человек, иначе в столь молодые годы ни за что не стали бы управляющим в столь крупном и серьезном торговом предприятии…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.