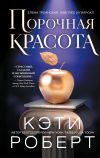Текст книги "Изобличитель. Кровь, золото, собака"
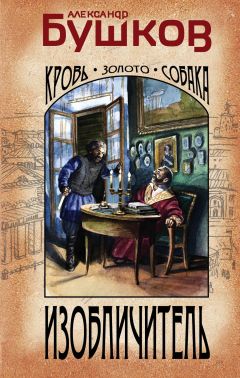
Автор книги: Александр Бушков
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
– Да, чертовски похоже, – сказал Ахиллес. – В конце концов, всякое может случиться. В комедии Гоголя жених сиганул в окно буквально перед тем, как ехать венчаться. И в жизни подобное случалось. И уж тем более непредсказуем старый холостяк вроде твоего дядюшки. Может выкинуть фортель в последний момент. Испугается рушить привычный уклад жизни. А то и проявит душевное благородство, не захочет, чтобы молодая красавица связывала свою жизнь с тяжелобольным.
– Может быть… Хорошо, предположим, это афера. Цель которой – выдать беззастенчивую нищую авантюристку за небедного помещика. Но вот при чем тут лежащее на его землях проклятие? О котором, как выяснилось, вся Красавка знает? Откуда, кстати? Неужели наш «магистр» и в деревне духов для крестьян призывал? Не верится что-то.
– Совершенно не верится, – сказал Ахиллес. – Спиритизм – это барская, городская забава. А у деревенских мужиков свой взгляд на такие вещи, полностью противоположный городскому. Явись к ним такой вот субъект и предложи духов вызвать – не то что в тычки прогонят, как богомерзкого колдуна, но и на вилы поднять могут.
– Но как-то же эти разговоры о лежащем на землях проклятии не просто попали, а широко распространились?
– Вот это наверняка и есть главная загадка, – сказал Ахиллес. – Ничего, попробуем решить и этот ребус. Я завтра…
Он замолчал. Из-за поворота появилась женская фигура в темном платье, в которой они быстро узнали пани Катарину. Остановившись прямо напротив диванчика, домоправительница сказала нарочито безразличным голосом:
– Простите мою дерзость, мадемуазель Ванда, но, по моему глубокому убеждению, для юной барышни не вполне прилично в столь позднее время беседовать наедине с мужчиной, пусть и в коридоре…
Ванда отпарировала едва ли не мгновенно:
– Простите мою дерзость, пани Катарина, но широко распространено мнение, что барышня поступает вполне прилично, беседуя, пусть даже в позднее время, при вполне невинных обстоятельствах… со своим женихом.
Удар был меткий и мастерский. Даже в полумраке Ахиллес прекрасно видел, что выражение лица старой пани заметно изменилось. Нельзя сказать, чтобы особенно уж заметно, но, учитывая ее всегдашнюю невозмутимость, это означало примерно то же самое, как если бы человек, гораздо менее хладнокровный, выпучил глаза и разинул рот от удивления. Ахиллес на миг ощутил мальчишеское желание показать старой даме язык – чего офицер российской императорской армии сделать никак не мог. К сожалению.
– Ну что же, мадемуазель Ванда, господин подпоручик… – Старая дама овладела собой. – Примите мои поздравления. И все же, во времена моей молодости…
– Нравы меняются со временем, пани Катарина, – столь же быстро ответила Ванда. – Нынешний этикет отличается от того, что был в ходу при Наполеоне Бонапарте…
Все же язычок у нее был как бритва. Вот только на сей раз пани Катарина уже не позволила себе проявить эмоции даже перед лицом столь явной насмешки. Сказала бесстрастно:
– Мне не случилось жить во времена Наполеона Бонапарта, мадемуазель Ванда, я появилась на свет гораздо позже. – Посмотрела на Ахиллеса: – Господин подпоручик, я все помню. Когда вы намерены…
– Буквально через минуту-другую, – ответил Ахиллес.
Она величественно кивнула и удалилась по коридору. Ванда не без некоторого довольства собой сказала:
– Правда, я ее неплохо срезала с Наполеоном Бонапартом? И не прицепиться ни к единому словечку, и смысл прекрасно понятен: я ее считаю старухой, из которой песок сыплется, и ангелы на небесах заждались… – И с любопытством спросила: – Ахилл, а что означает ваш обмен загадочными репликами?
– Ты только не ревнуй, пожалуйста, – сказал Ахиллес, – но у меня буквально через пару минут свидание с этой дамой.
– Я оценила шутку, – благосклонно кивнула Ванда. – Ревновать к этой высохшей селедке можно только сойдя с ума… Какие-то дела, это ясно… Мне можно знать как помощнице сыщика?
– Конечно, – сказал Ахиллес. – Она говорила твоему отцу, что «в доме нечисто». Значит, хоть что-то, да знает…
– Понятно. Расскажешь завтра?
– Конечно… мадемуазель помощница. – Он поднялся. – Спокойной ночи и приятных снов, например, о том, как мне дают генерала, ты становишься генеральшей, и мы едем на бал у императора…
Ванда сделала гримаску:
– Мне лицезрение императора никакого удовольствия не доставило бы. И даже почтения не вызвало бы.
– Польская кровь бунтует, вспоминая все прошлое? – понятливо спросил Ахиллес.
– Да нет, тут другое… Ты не пойдешь доносить на меня в жандармерию?
– Ни в коем случае, кохана.
Они были одни в длинном полутемном коридоре, но Ванда все равно зашептала ему на ухо:
– Может, тебя это и возмутит, Ахилл, но для меня Романовы худородны. Предок Лесневских, «рыцарь Анджей герба топор»[95]95
Польская система гербов уникальна для Европы. Не существовало герба для каждого семейства. Было примерно двести «базовых» гербов, которыми пользовались люди с совершенно разными фамилиями – от двух-трех семей до нескольких десятков.
[Закрыть], впервые упоминается в летописях в тысяча четыреста сорок третьем году. Причем, – она многозначительно подняла пальчик, – как свидетель при подписании договора короля Владислава Третьего с крестоносцами. Значит, он уже тогда был персоной – заверять свидетельской подписью такие документы кого попало с улицы не позовут. А где были и что делали тогда предки Романовых, покрыто туманом неизвестности… – Она отстранилась, взглянула с любопытством. – Я тебя не шокирую такими откровениями?
Ахиллес в свою очередь шепнул ей на ушко:
– Ты знаешь, ничуть. Потому что первое упоминание о предке Сабуровых относится ко временам Иоанна Грозного, он поминается в числе опричников. Вообще-то предки Романовых тогда уже где-то маячили, но уж, безусловно, не стояли выше Богдана Сабурова…
– Ну вот, теперь мы сообщники, – заговорщицким шепотом сообщила Ванда. – Нарушили закон об оскорблении императорской фамилии, ничего, доносить некому, а показания духов, если они тут все же бродят, никто не примет в расчет… – Она поцеловала Ахиллеса в губы и проворно выскользнула, когда он попытался ее обнять. – Нет уж, господин великий сыщик, у вас серьезные дела…
Дверь его комнаты оказалась чуточку приоткрытой, и видно было, что внутри горит электрическая настольная лампа. Ахиллес машинально подумал о браунинге в кармане, и тут же не без смущения отогнал эти мысли: вздумай кто устроить на него засаду, не зажег бы свет и не оставил дверь приоткрытой.
Он вошел, плотно прикрыв за собой дверь. Как он и предполагал, у столика сидела пани Катарина, величаво выпрямив спину, – поза, сделавшая бы честь любому гвардейскому офицеру.
– Я позволила себе… – сказала она бесстрастно.
– Ну, в нашем положении не до строжайшего соблюдения этикета…
Он достал было портсигар, но опомнился и с сожалением собрался упрятать его в карман.
– О, что вы, курите. – Она слегка улыбнулась. – Мой покойный супруг трубку изо рта выпускал только во сне, так что я привыкла к табачному дыму и он мне нисколечко не мешает. Значит, вы и есть знаменитый самбарский Шерлок Холмс? Я читала про вас в «Самбарском следопыте»… Правда, не знала тогда, что речь идет именно о вас, но о том, что это именно вы, написал в письме, которое вы привезли, Сигизмунд Янович. Он писал, что вы и в самом деле проявили себя хорошим сыщиком и есть надежда, что разберетесь в наших… делах.
Ахиллес поневоле усмехнулся:
– Пани Катарина, вы читаете столь вульгарную газетку?
– И вульгарное порой может быть интересным, – спокойно сказала она. – Тем более что они написали чистую правду… Вот только не знаю, удастся ли вам добиться успеха здесь. Боюсь, вам придется иметь дело с силами, перед которыми сыщики нашего мира бессильны.
– Ну, если вы имеете в виду спиритические сеансы, то не можете не знать, сколько среди этих господ медиумов жуликов и аферистов.
– Спиритические сеансы меня интересуют в последнюю очередь, господин подпоручик…
– Вы говорили Сигизмунду Яновичу, что в доме «нечисто», – сказал Ахиллес. – Следовательно, вы имели в виду не спиритические сеансы?
– Конечно нет. Вполне возможно, вы, как многие молодые люди вашего поколения, материалист до мозга костей…
– Пожалуй, я бы не стал себя именовать полным и законченным материалистом, – сказал Ахиллес. – Я вполне готов допустить существование… чего-то не вполне укладывающегося в рамки материализма. Хотя прежде с таковым не сталкивался. Но если увижу своими глазами и буду иметь твердую уверенность, что это не мошенничество…
– Боюсь, это не мошенничество, – сухо сказала пани Катарина. – В доме с некоторых пор творится сущая чертовщина…
– И в чем это выражается?
– Людям является разнообразнейшая нечисть. Всегда вечером, пусть и не в полночь. И это не сон, не кошмар, все происходит наяву. Возможно, я отнесла бы все на счет суеверий простонародья, но я видела сама – а в своем здравом рассудке я не сомневаюсь…
– И как это было? – тихо спросил Ахиллес.
– Ко мне приходили утопленники, – сказала она так просто и обыденно, словно речь шла о визите каких-то знакомых. – Две недели назад. Сначала они встретились мне в коридоре, потом, когда я в панике заперлась в комнате, объявились и там… – Она перекрестилась на католический манер, похоже, чисто машинально. – Обступали, тянули ко мне руки, от них омерзительно пахло… Вам доводилось видеть утопленников?
– Однажды, – сказал Ахиллес. – Едва ли не при мне утонул пьяный, и его достали уже через четверть часа. Я тогда был совсем мальчишкой и, признаюсь, глазел вместе с другими с любопытством, но никак не со страхом.
– Всего четверть часа… А мне в юности случилось видеть покойника, который зацепился на дне за корягу, и достали его только через месяц. Вы не представляете, сколь ужасное он являл зрелище… С тех пор я боюсь утопленников больше всего на свете. А эти были именно такими, пролежавшими в воде не одну неделю… – Ее, всегда невозмутимую, явственно передернуло. – Только не заставляйте меня описывать, как они выглядели. Скажу одно: ужасно…
– Они к вам прикасались? Говорили что-то?
– Нет, не было ни того ни другого. Но они обступали, тянули руки, ухмылялись тем, что осталось от лиц. Я упала на кровать, накрыла голову подушкой, но все равно чуяла их омерзительный запах, они стояли рядом, расхаживали по комнате, противно так шлепали ногами… И длилось это, я потом прикинула, более часа. Потом… Потом они исчезли и до утра больше не появлялись – я не могла уснуть всю ночь, пролежала без сна до рассвета… И больше этого не было… но это было в реальности, клянусь Богоматерью… Я могу поверить, что это был припадок временного умопомешательства – я где-то читала о таких. Но вот в чем беда… Через несколько дней я обратила внимание, что одна из наших служанок выглядит как-то странно – словно бы невыспавшаяся, испуганная, мне понемногу удалось ее разговорить, у меня хорошие отношения с прислугой, особенно с девушками, они мне доверяют… Оказалось, в ту ночь она не смогла спать из-за того, что у нее в комнате было множество пауков и не простых – размером с кулак, со злыми глазками, мохнатых. Пауков она боится больше всего на свете… Они в конце концов пропали, и ничего ей не сделали, но она не смогла уснуть всю ночь, как и я… – Она бледно улыбнулась. – И я тогда, как заправский сыщик, предприняла нечто вроде расследования – неторопливо, методично, стараясь не задавать вопросы в лоб… И выяснилась поразительная вещь… Нас, католиков, среди прислуги трое: я, камердинер пана Казимира и одна из служанок. Остальные десять православные: слуги, повар и наш кухонный мужик, оба кучера, конюх… Но со всеми без исключения обстояло одинаково: вечером к ним являлась разнообразная нечисть. Вреда не причиняла, но страху нагоняла немало. Кое-кто пытался защититься крестом и молитвой, но – не действовало…
– И у всех были разные гости? – спросил Ахиллес.
– Я поняла, что вы имеете в виду… Да. Ни к одному человеку не приходили одни и те же твари. Русалки, мертвецы, бешеные собаки, черти… всевозможная нечисть, словом. Я не осмелилась расспрашивать пана Казимира, как-никак он много лет мой хозяин, а свое положение я прекрасно понимаю: такая же прислуга, разве что стоящая над остальными. И его гостей тоже не посмела расспрашивать… к тому же они мне очень не нравятся…
– Особенно Иоланта?
– Особенно Иоланта, – кивнула пани Катарина. – Стремиться под венец с человеком в таком состоянии… Это позволяет скверно о ней думать.
– Вот кстати… А когда с паном Казимиром все это началось?
– Недели через две после того, как он вернулся из Казани, с похорон, с этой… компанией. Ему понемногу, но становилось все хуже и хуже, он худел, слабел… У нас был земский врач из Красавки, говорят, хороший, но он остался в недоумении, хотя предписал множество лекарств. Не похоже, чтобы они помогли. Сигизмунд Янович присылал врача из Самбарска – очень хорошего, как он писал, едва ли не лучшего в губернии. С тем же результатом… Что до нечисти. У нас почти вся прислуга из Красавки, у всех там множество родных, друзей, знакомых. Мне говорили, что и в Красавке не раз случалось нечто похожее – я имею в виду явление нечисти.
– А откуда пошли разговоры, что на землях Красавина – некое проклятие?
– Не знаю. Но разговоры такие ходят давно… Это все, что я знаю, господин подпоручик. Я перестала собирать сведения и уж тем более не пытаюсь ничего делать – потому что не представляю, что тут можно сделать и можно ли вообще… – Она решительно встала. – Знаете, я, пожалуй, пойду. Я рассказала все, что знала, и сама для себя решила: остается ждать, чем все кончится. На все Божья воля… Объявилось нечто такое, с чем человек бороться не способен…
Уже в дверях она обернулась:
– Я вас умоляю, будьте осторожнее, господин подпоручик. Вы имеете дело не с людьми. Подумайте о себе… и вашей очаровательной невесте – кто знает, как на ней могут отразиться какие-то ваши действия, если вы их предпримете? Храни вас Бог…
Когда за ней закрылась дверь, Ахиллес долго сидел в задумчивости. Как не раз случалось прежде, рядом крутилось нечто очень важное, быть может, имеющее решающее значение для разгадки, но он пока что не мог это ухватить, понять, облечь в слова. То, что рассказала пани Катарина, было поразительно – и убедительно, – но он, опять-таки не впервые, злился оттого, что не может ухватить, облечь в слова нечто важное – но уверен, что оно есть…
Ранним утречком, задолго до завтрака Ахиллес, добывший заспанного Артамошку из одного из флигелей для прислуги, не без радости отметил, что хлопот не предвидится: денщик, конечно, выглядел помятым и малость угнетенным, но все же явных похмельных терзаний не наблюдалось. Они неторопливо пошли по неухоженной липовой аллее, подальше от дома, где заведомо никто не мог подслушать. Со стороны все должно было выглядеть вполне обыденно: мало ли какие разговоры офицер может вести со своим денщиком.
– Есть успехи? – спросил Ахиллес.
Несмотря на помятость физиономии денщика, она все же являла некоторую гордость и довольство собой:
– А как же, ваше благородие. Начинаю привыкать к сыскному делу. Сначала я…
– Погоди-ка, – сказал Ахиллес. – Об этом потом расскажешь, а сейчас скажи-ка ты мне: пока мы здесь, тебе, случаем, никакие кошмары ночные не снились?
– А то как же, – словно бы даже буднично ответил Артамошка. – Только не сонные кошмары, а натуральные видения наяву. Этой вот ночью.
– Расскажи-ка подробно, – навострил уши Ахиллес.
– Я, ваше благородие, издалека начну, с детства, а то без этого непонятно будет… Когда мне было годочков семь, играл я на улице с соседскими мальчишками – и тут к нам бешеная собака забежала. Лето жаркое выдалось, а они большей частью в жару и бесятся. Да не какая-нибудь шавка: здоровущая, как волкодав, а может, волкодав и был – скрюченная, идет поганой такой трусцой, слюна струею из пасти, глаза горят… Ну, тут все, и стар и мал, спасаться кинулись, куда только можно. Хорошо мы, трое мальцов, под деревом играли – старый вяз, высоченный, выше крыш. Как мы на самую верхушку взлетели – любая кошка обзавидуется! А она, стервь, свернула аккурат к нашему вязу, башку задрала – хоть бешеные ее обычно низко держат, – уставилась на нас гнусными своими буркалами, горящими, как уголья, скалится… Хоть и понятно нам, что до нас ей не добраться, собака ж не кошка, чтоб по деревьям лазить, а все равно жутко. Петька даже штаны намочил, и никто над ним не смеялся – тут и взрослый в штаны надуть может… Тут набежали городовые, аж четверо, начали по ней палить наперебой и быстренько прикончили. Только нас потом еще долго уговаривали с дерева слезть всем миром – видим, что кончилось все, а руки так вцепились в сучья, что разжать их нет никакой возможности. Ну, все ж слезли… С неделю мне потом эта тварюга снилась – то она меня кусает, то просто ко мне идет, по-человечески похохатывая, а у меня будто ноги отнялись, с места двинуться не могу… Орал благим матом, просыпался, долго потом заснуть не мог, иногда всю ночь она за мной гонялась. Мать нашла бабку, та шептала что-то, отваром каким-то поила… отпустило, но не насовсем. Не раз еще снилось – и даже потом, когда я вошел в совершеннолетие. Даже за время службы раз снилось…
Ахиллес уже сделал для себя некоторые выводы, но кое-что еще требовалось прояснить. Он распорядился:
– Валяй дальше.
– А дальше – пришел я вчера поздним вечером в имение, когда все, и господа и прислуга, давно отужинали, и кишка на кишке у меня военный марш играет: пил-то водочку, а закуска в кабаке небогатая… Вот я проявил солдатскую смекалку, пошел на кухню в рассуждении, чего бы раздобыть. Стряпуха, что для прислуги готовит, уже спать ушла, а повар на месте, что-то там к сегодняшнему завтраку приготовляет. Повара – оне большей частью толстые и добродушные, должность такая. Вот и здешний оказался такой, не погнушался солдатом, хоть и реальное училище, мне слуги говорили, закончил, и на поварской диплом учился. Налил он мне полную миску с ужина оставшегося от господ супа, хлеба белого откромсал приличный ломоть. У меня, говорит, солдатик, сын тоже служит в артиллерии. Ну я и навернул господского супчика. Вкуснотища! Я даже название запомнил: пристаньер[96]96
На самом деле – претаньер, французский суп на мясном бульоне с морковью, картофелем, молодой репой, капустой, стручковой фасолью и спаржей.
[Закрыть]. Кусок мясца бы туда еще, цены б не было. Но с голодухи и без мяса чуть ли не вылизал миску, и хлеб до крошечки доел – редко нашему брату такой господский ужин выпадает. Поблагодарил я повара честь по чести и пошел спать. Только успел сапоги снять – тут оно и началось…
– Давай-ка попробую угадать, – сказал Ахиллес. – И полезли к тебе бешеные собаки…
Артамошка уставился на него с восхищенным удивлением.
– В точку, ваше благородие! Они, стервы! Одни из-под кровати вереницей, другие – неизвестно откуда взявшись, лезут из углов, подступают всем стадом, здоровущие, на ту похожие… Я аж на кровать заскочил, хоть это и не помогло бы. Ни в окно, ни в дверь не выскочить – отрезали, обложили… И тут меня такая злость взяла, думаю: я ж вам не тот мальчуган орловский, расейский солдат, как теленок, помирать не будет. Схватил табурет и ближнюю по башке ка-ак шарахну! А табурет прошел, как сквозь дым, об пол стукнулся, едва не разлетелся. Запустил я им в других – и то же самое, как сквозь дым пролетел. Тут я и сообразил, что все оне – сплошное наваждение, морок, виденьица. Только кажутся, а сделать ничего не могут – скалятся, иные даже по-человечьи стращают: сожрем, мол… Только мне они стали уже не жутки – может, и от водки отваги прибавилось. Каюсь, ваше благородие: уходя из кабака, прихватил я навынос косушку. Достал я ее, сургуч ободрал, да и прикончил из горлышка. И, снявши только ремень, бухнулся в постель. Я и так-то засыпаю враз, а когда еще водки выпивши… Слышал еще, как они пугали, грозились, еще чего-то болтали – но недолго, каменным сном заснул. Проснулся, только когда меня Демьян-конюх будил: иди, говорит, там твой барин тебя ищет. Тут уж утро и никаких собак. Как хотите, ваше благородие, а никак это не может быть видениями от водки – чтобы такие объявились, надо не один день пить и не из мелкой посуды. Да и в деревне говорили схожее. Чертовщина, точно… В жизни не сталкивался, а вот поди ж ты, никогда не знаешь, где прижмет…
– Вот теперь рассказывай подробно, как было в деревне, – сказал Ахиллес.
– Пошел я, согласно вашим наставлениям, в кабак, тот, что оказался ближе всех. Только быстро понял, что там много не уловишь: самый из трех сельских, ясно, убогий, для тех, кто победнее. Так-то село у них зажиточное, да где ж это бывало, чтоб зажиточными были все? Везде бедноты хватает. Смотрю, народец там скучный и бесполезный: никаких тебе степенных бесед, больше песни орут, друг дружку за грудки хватают, обиды неизвестно кому в голос излагают. С такими, смотрю, каши не сваришь, да и водка там – чистый брандахлыст[97]97
Водка из зерна считалась «мягкой», а «брандахлыст», произведенный из картофеля или свеклы, наоборот, делал пьяного мрачным и агрессивным, похмелье давал тяжкое. Употребляли его лишь законченные пропойцы, крайне стесненные в деньгах.
[Закрыть]. Расспросил я, где другой кабак, и прямиком туда, вот там и публика оказалась степенней, денежней, и водка хлебная, и разговоры чинные. Нашел я местечко, заказал того-сего, присматриваюсь… И очень быстро сами они разговор начали: откуда, солдатик, да какой оказией к нам, и все такое. Мужик солдата уважает – у многих у самих сыновья службу несут. Я им выложил про отца-мельника, про наследство, что решил тут обосноваться. Приняли безо всяких-яких – дело ж вполне житейское, обычное. Ну, тут самое время порасспросить, как и что в деревне, чем живут-дышат, спокойно ли. Вот тут они и закручинились: не будем, говорят, служба[98]98
Служба – обычное обращение простого народа к солдату.
[Закрыть], от тебя ничего таить, мы люди честные, христиане праведные. Все было хорошо до недавнего времени, а потом навалилась на село чертовщина, уж непонятно и за какие грехи, вроде нет особенных, так, мелочи, как у всех помаленьку накопляются, но таких уж жутких грехов, чтобы вызвали нашествие нечисти, божатся, ни за кем не знают…
– И в чем это нашествие выражается?
– Они поначалу чуток таились, а потом и водочка языки развязала, и я им намекнул, что от отца перенял кое-что. Мельники ведь, как и кузнецы, испокон веку, считается, с нечистой силой особо дружны. Я и намекаю: мол, обоснуюсь у вас, может, и смогу эту напасть прогнать, только мне ж надо знать, что и как… Тут они и порассказали. Хватает таких, к кому заявлялись такие же видения, как ко мне, – только не собаки, а разная нечисть вроде водяных и овинников[99]99
Овинник – обитающая в овинах разновидность домашней нечисти, самый из нее злой и не расположенный к человеку.
[Закрыть]… Пара-тройка человек ночью у себя во дворе зловещую фигуру видели – в балахоне, капюшон на рожу опущен, коса в руке высокая, и это, ясно, сама смерть. – Артамошка добавил с исконным превосходством солдата над простым мужичьем: – Это я табуретом видения бил, а эти космачи и не пытались. «Отче наш» прочитают или «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», перекрестят видения или смерть с косой – а когда видят, что не действует, забьются в уголок или подушкой голову накроют и трясутся от страха до утра. Хоть бы вилами кто пырнул, да где им там… Вот так оно и идет уж не менее месяца. И почти в то же самое время поползли разговоры, что земли «красавинского барина» – проклятые. Вот отроду они не были проклятыми, а тут вдруг стали неведомо с какого перепугу. И ведь не самые дурные этот слух поддерживают. Очень даже справные кулаки-арендаторы…
– Знаю, – прервал Ахиллес. – Вдруг расторгли аренду.
– Ага. А самый из них крупный и вовсе помер, не похоронен еще, три дня не прошло. И говорят, что «задушили его черти», когда он ночью с мельницы домой ехал. Откуда эти слухи поползли, насчет проклятых земель, никто в точности сказать не может, а насчет того, когда именно пошли, путаются, разнобой дней на десять. Вот такие вещи я узнал. Ваше благородие, подробности вам нужны? Какая кому нечисть являлась, какие разговоры вела, если вела? И все такое прочее?
– Да нет, пожалуй, – чуть подумав, сказал Ахиллес. – Детали такие совершенно ни к чему. Какие-нибудь еще разыскания подворачивались?
– Да нет, – сказал Артамошка. – Разысканий не было, потому что мне оставалось одно: сидеть и их разговоры на ус мотать. Какие тут могут быть разыскания? А вот одна интересная персона сама на меня набежала. Ну, не на меня, но объявилась в кабаке…
– Ну-ка!
– Сидим это мы, уже чуть ли не побратавшись, слушаю я их да вовремя угощаю – и тут заходит в кабак Алешка, камердинер того барина, про которого уж всей прислуге доподлинно известно, что он барину Казимиру Яновичу дух его покойной симпатии вызывает, а может, и еще чьи. Дело-то давно тянется, от прислуги не укроешь, они уж промеж себя обсудить успели на десять раз и мне как свежему слушателю все это вывалили. Беспокоятся они за барина, говорят, оттого и чахнет, что с духами связался. Он хоть и не православной веры, да все равно, по его католической, Афоня-лакей точно знает, он самбарский и с поляками знался, получается точно так же: богомерзкое это занятие – с духами возжаться. Марфутка, горничная, – она местная, из Красавки – дальше всех зашла: говорит, что под видом духа покойной симпатии приходит упырица и кровь из Казимира Яновича пьет, оттого он так и недужит. И помаленьку иные ей верить начинают. Только тут все насквозь непонятно. Тот же Афона украдкой, со спины, крестил и барина по части духов, и всех их прочих, что с Казимиром Яновичем из Казани приехали, включая Алешку, – но без толку, не действует на них крестное знамение. И иконы тоже. У барышни Иоланты и молодого барина Мачея в комнатах иконы висят – католические, правда, ну так они ж и сами католики. Не действуют ни их же собственные иконы, ни православное крестное знамение. Значит, на том все сошлись, они не черти, а уж если нечисть, то другая какая-то. Уж на черта-то крестное знамение всегда без осечки действует, испокон веков известно…
– А про проклятые земли говорят что-нибудь?
– Сами удивляются, откуда такие слухи и такая напасть. Говорят, сколько себя помнят – я про местных, – никогда таких разговоров не было. Земли как земли, даже поскуднее иных, ну так ведь это к проклятию отношения не имеет…
– А с этим Алешкой что?
– Да ничего такого, чтоб было интересно. Сел за стол, где его встретили как старого знакомого, и посиживал с ними до закрытия. Если меня заметил, вида не подал – ну, да он и в имении-то с прислугой не общается, в упор не видит, белой костью себя отчего-то полагает. Хотя если разобрать, какая белая кость из камердинера? Такой же услужающий, разве что не коней скребницей чистит или блюда к столу носит, а ходит при пинжаке и «бабочке». Вот только неправильный какой-то камердинер получается, рубите мне буйну голову, ваше благородие, а неправильный.
– Почему?
– Я и о нем чуток порасспросил собутыльничков. О, говорю, надо же, вон еще один из имения… Начал потихонечку из них выуживать о нем то-се, они и порассказали… Камердинер, сами знаете, ваше благородие, обязан неотлучно находиться при барине, как денщик при офицере. А этот чуть не каждый вечер в кабаке сидит, а то и днем в деревне частенько бывает. Давно уже, они точно знают, с солдаткой Мариной крутит. Есть тут такая. Красивая баба, да гуляет направо и налево. Может, ее и винить особо не следует – муженек себя тоже странновато ведет. Он уж давно на сверхсрочной, в Тамбове восемь лет служит, явно нацелился в фельдфебели выйти, десять лет самое малое оттрубить. А после десяти лет, сами знаете – и знак отличия ордена Святой Анны, и при отставке пособие в двести пятьдесят рублей. Только ведь сверхсрочный давно мог бы к себе жену выписать и получить жилое помещение при казармах – а он и не думает. Значит, не все у них гладко, и, я так полагаю, есть у него в Тамбове симпатия. Вот она и гуляет, благо детей им Бог не дал…
– Хватит про эту Марину, – сказал Ахиллес. – Ни при чем она тут. А вот касательно Алешки – гораздо интереснее. В самом деле, что это за камердинер, если он не находится безотлучно при барине? Причем барин, что интересно, такое поведение терпит… Так что о нем мужики говорили?
– Да можно сказать, ничего особенного. Парень веселый, погулять любит, пьяный не скандален и не драчлив, угощает без требований… Прижился, можно сказать. И за Марину ему никто зубы считать не лезет. Была бы девка порядочная, а так… Гулящая солдатка – что колодец, всем хватит… Мужикам он сразу представился не камердинером, а как это, секретарем при барине. Не подозрительно?
– А почему это должно быть подозрительно? – подумав, пожал плечами Ахиллес. – Может, он попросту хочет в глазах мужиков свое положение повысить – секретарь повыше камердинера будет…
– Ваше благородие…
– Да?
– А может, мне с этой Мариной для пользы дела познакомиться? Выведать того-сего об Алешке? Может, и знает что интересное? Подозрителен ведь, как Бог свят…
Ахиллес посмотрел на его плутовскую физиономию, хмыкнул:
– Что, так хороша?
– Хороша, зараза, – с чувством сказал Артамошка. – Показали мне ее на улице… Так ведь для пользы дела…
Ахиллес чуточку подумал. Такой, с позволения сказать, камердинер и в самом деле был несколько подозрителен. Почему Дульхатин его терпит? Либо чрезмерно мягок душою (что на него не похоже), либо пребывание Алешки в деревне имеет некую цель, возможно, выполняет некие поручения, хозяином и данные… вот только какие? Ничего пока непонятно, и где тут Алешке место в общей картине – тоже.
– Ладно, – усмехнулся Ахиллес. – Если для пользы дела… Только я тебя особо предупреждаю, смотри, чтобы твои подходцы к этой Маринке не пошли во вред нашей главной задаче…
– Не сомневайтесь, ваше благородие! – обрадованно воскликнул Артамошка. – Службу я понимаю тонко! Хоть раз вас подводил раньше в каком-то поручении? Вот видите. Все равно времени вольного у меня остается много, настоящая работа только вечером начнется, когда я опять с новыми знакомыми посижу… Дозволите после завтрака в Красавку отлучиться?
– Да хоть сутки напролет там сиди, – сказал Ахиллес. – Лишь бы дела не забывал… – Он усмехнулся. – А как же нареченная в Орле?
– Ну, как… – Артамошка виртуозил физиономией. – Чего она не знает, то ей не повредит. Мужчина – это одно, а девица – совершенно другое, им испокон веков разное поведение предписано.
Вот тут прав был прохвост, не поспоришь…
– Ладно, ступай, философ, – сказал Ахиллес ничуть не сердито. – А болтаясь по селу днем, постарайся не только за этой Маринкой приударять, но и выведать еще что-нибудь. Мало ли что подвернется. Вслепую ведь ищем, да и не совсем понятно, что ищем…
– Будьте уверены, ваше благородие, не подведу!
Оставшись в одиночестве, Ахиллес не спеша пошел к дому. Очень похоже, его догадка была правильной: явившиеся к человеку «видения» олицетворяют собой главный в его жизни страх. И это может иметь и вполне материалистическое объяснение, без привлечения потустороннего мира, вот только некий механизм пока непонятен, хотя и тут есть кое-какие наметки, смутные догадки, требующие подробного логического осмысления…
Он вышел из-за угла дома, прямо напротив веранды, на которой обычно пили чай. До завтрака оставалось еще около часа, а чай здесь пили вообще в пять часов пополудни. Но за столом в полном одиночестве сидела Ванда в голубом капоте, и перед ней стоял сверкающий самовар-малютка, из тех, где кипятку хватает чашек на шесть. Она улыбнулась Ахиллу – радостно, но как-то тускловато, позвала его взглядом (они уже неплохо читали взгляды друг друга, как книгу на знакомом с детства языке).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.