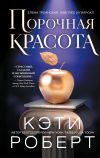Текст книги "Изобличитель. Кровь, золото, собака"
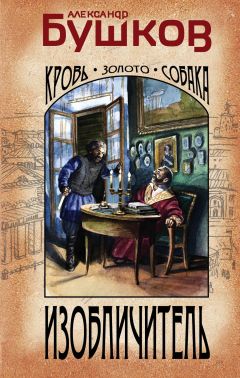
Автор книги: Александр Бушков
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
– Наоборот, – сказала она с бледным намеком на улыбку. – Мне бы хотелось именно что побыть на людях, одной мне слишком скверно… Я охотно там посижу. Вот только… У меня горло пересохло от переживаний, от табака. Вы не имеете ничего против, если я прикажу Марфе подать в гостиную кислых щей и для меня и для господ? Там ведь и Митрофан Лукич, и господин доктор, и Павел Силантьевич…
– Конечно, – сказал Ахиллес. – Как вам будет угодно, вы у себя дома.
Когда она вышла, Ахиллес поставил локти на стол, сжал ладонями виски. Он не взялся бы точно сказать, какие чувства в этот момент испытывает, знал лишь, что они – самые разнообразные, многое мешалось в голове. Оказывается, это совсем невесело – быть сыщиком… Очень невесело, пусть даже Шерлок Холмс ни словечком об этом не упомянул. Впрочем, быть может, он ничего такого и не испытывал…
Он вышел в коридор и увидел, что кроме стоявшего наготове околоточного у входной двери помещается городовой Кашин. Поймав его взгляд, околоточный пояснил:
– Я ему велел сюда с крыльца перейти. А то чертов пес на него лает без передышки, голова раскалывается… Сейчас вот замолчал.
– И правильно сделали, – сказал Ахиллес. – Яков Степанович, кто открывал крючок в кабинете?
– Сначала Кашин, а потом, когда он нож сломал, я взялся вторым, у меня и получилось…
– Ага… – сказал Ахиллес. – Значит, вы помните нож… Принесите его из кухни… и, пожалуй, прихватите еще один.
Когда околоточный вернулся, Ахиллес забрал у него ножи, подошел к Кашину и распорядился:
– Вот что, братец… Я сейчас выйду на крыльцо, а ты заложи дверь на оба крючка. Ну а если у меня ничего не получится, я постучу – и откроешь.
Он вышел на крыльцо, и тут же Трезор захлебнулся яростным лаем. Выждав должное время, Ахиллес подступил к двери. Он прекрасно помнил, где расположены крючки – один на уровне его глаз, другой – на высоте колен. Присмотрелся, примерился, попытался просунуть лезвие тонкого острого ножа (таким режут бисквиты) под нижний крючок.
Именно что попытался – не входил даже кончик. Второй нож пробовать было бесполезно – он, сразу видно, даже чуточку потолще.
И все же он сдался далеко не сразу. Не раньше чем проверил дверь на всю высоту. Ножи нигде не входили, разве что самыми кончиками, на глубину даже менее линии[36]36
Линия – мера длины (2,54 мм). В линиях долго измерялся калибр огнестрельного оружия.
[Закрыть].
Вот тут и пригодилась лупа, кто бы мог подумать. Достав ее и тщательно протерев носовым платком, Ахиллес осмотрел косяк со стороны стены и обнаружил то, что не увидел сразу. Ну конечно, за долгие десятилетия любое деревянное изделие чуточку усохнет. Так произошло и с дверью, когда-то образовалась щель, хотя и узкая. Хозяину это, несомненно, не понравилось, и он велел устранить непорядок. На всю ширину косяка была прибита тонюсенькая деревянная планка, чуть-чуть потолще линии – и мастерски покрашена под цвет косяка, с тем искусством, на которое способен русский мастеровой, выполняющий пусть и несложную работу. Так что заметить ее удалось далеко не сразу.
Ну разумеется, подумал Ахиллес, грустно покривив губы. Все укладывается в ту картину, что уже складывалась все полнее, осталось лишь несколько кусочков мозаики, не уложенных пока. В кабинете дверь тоже самую чуточку усохла, так что удалось все же просунуть лезвие ножа. Видимо, там такую планочку не прибили. А будь она, Сабашников остался бы жив… да нет, он ведь, безусловно, не накладывал крючок, не было смысла запираться изнутри…
Постучал в дверь. Когда она распахнулась, отдал околоточному оба ножа. Тот не смог сдержать нетерпения:
– Что же, господин подпоручик?
– Подождите немного, – ответил Ахиллес, – у меня еще дел на четверть часика примерно…
Обойдя дом, встал и осмотрелся. Дом был длиной и шириной саженей в десять[37]37
Сажень в данном случае – 2,13 м.
[Закрыть]. Слева, у забора, стоял добротный сарай с двухскатной крышей, и рядом – накрытые такой же, только гораздо меньше, крышей ступеньки, ведущие в подвал с ледником. Справа – небольшая избушка, явно дворницкая, потому что других строений во дворе не было. Все сработано давным-давно и крайне добротно. Конюшни нет – видимо, и отец и дед Сабашникова, построивший дом, своего выезда никогда не держали. Как и Митрофан Лукич, впрочем. Но в таких вот небольших городках, пусть и губернских, свой выезд не особенно и нужен, расстояния тут небольшие, а при срочной необходимости можно взять извозчика…
Он неторопливо пошел к дворницкой мимо высокой поленницы слева, протянувшейся сажени на три в простенке меж двумя окнами. Предстояло снова что-то сочинять на ходу – в отличие от хозяйки, так и не опознавшей своего жившего всего через дом соседа, Фома-то его знал прекрасно. Так уж сложилось. В гости к Митрофану Лукичу Сабашников всегда приходил без жены, а на праздничных обедах у Пожарова, на каковые женатому человеку просто неприлично являться без супруги, разве что она больна, не приходил вовсе. Причина в том, что Лукерья Филипповна с самого начала Ульяну отчего-то невзлюбила, не желая объяснять причин, твердила одно: «Не хочу я видеть эту вертихвостку в своем доме, вот и весь сказ!» Митрофан Лукич давно с такой позицией смирился и относился, так сказать, философски – как и Сабашников.
А вот Фома, когда убирал улицу от материальных следов проезда лошадей или прохода верблюжьих караванов, как того требовали предписания, Ахиллеса порою видел и по два раза на день, и кто он такой, знал прекрасно – от собрата по метле и совку Никодима…
Ахиллес вошел без стука, с порога оценил увиденное. Комната была одна, но довольно обширная, обставленная скудно, даже бедненько, но опрятная: застеленная кровать, стол, два табурета, большой облезлый комод. И всё, разве что еще икона с лампадкой в углу.
Сам хозяин, здоровенный мужик в полосатых шароварах и синей застиранной косоворотке, босиком, сидел на постели, согнувшись, сжав голову широченными ладонями, – и на приход Ахиллеса не обратил ни малейшего внимания. Поднял голову, только когда Ахиллес шумно придвинул к кровати тяжелую табуретку.
– Здравствуй, Фома, – сказал он, садясь.
– И вам здравствовать, господин подпоручик…
– Ты ведь уже знаешь, что случилось. И полиция с тобой говорила.
– Как не знать… А вы-то по какому делу, господин подпоручик? Нешто ж просто так с дворником поболтать? Чудно…
– Да понимаешь ли, как обернулось… – сказал Ахиллес. – Отрядили меня совместно с полицией произвести следствие.
– Чудно… – повторил Фома. – Когда я действительную служил, в последние годы царствования невинно убиенного государя Александра Второго, не слышал, чтобы армейского офицера отряжали совместно с полицией следствие вести…
– С тех пор много воды утекло, Фома, – сказал Ахиллес, – воинские уставы кое в чем поменялись.
– Оно бывает… – проворчал Фома равнодушно, без тени недоверия. – Все менялось: и форма, и оружие, и уставы… Только что вы от меня-то хотите? Все, что знал, рассказал околоточному Якову Степановичу – да и рассказывать было нечего. И не виноват я ни в чем, моей вины тут ни на полушку. Ворота я вечером запер, и щеколду на калитке, и Трезорку на ночь с цепи спустил. Где ж тут мои упущения?
– Да никто тебя и не виноватит, Фома, – сказал Ахиллес. – Просто хочу тебе задать несколько вопросов, которые околоточный не задал. Порядок такой. Ты ж служил, должен порядок понимать…
– Да нешто не понимаю? Порядок есть порядок, чего ни коснись.
– Как мазурики разбили окно, ты не слышал?
– Говорил уж околоточному, что не слышал… Спал как убитый.
– А будь ты не пьян, услышал бы?
– Да вряд ли. Сон у меня крепкий, проснусь, если уж Трезорка особенно зальется. На это давно привычка выработалась. Все другие звуки, битье стекла тоже, которого на моей памяти не случалось, не поднимут. Да и не пьян я был вовсе, господин поручик. Косушку только выпил, а это мне что семечки, душа малость повеселела, и не более. А больше и не пил. Хотите, на икону перекрещусь?
– Ладно, и так верю, – сказал Ахиллес.
Посмотрел на стол: там ничего не было, кроме пустой косушки, лафитника мутно-зеленого стекла и блюдца с несколькими, уже чуть заветрившимися кружочками колбасы.
– Да и не сам я выпить вздумал, – сказал Фома. – Барыня прислала. Барыня у нас добрая. Бывало не раз, что присылала косушку, когда я чего особенно хорошо сделаю. Очень ей всегда нравится, как я поленницу складываю. Всякие у людей таланты, а у меня вот – поленницы складывать. Барыня говорит: чистое художество, полешко к полешку, ни одно не торчит, как солдаты в парадном строю. Иной ведь сложит абы как, там у него полено торчит, там упасть может. Вот и в этот раз прислала, Марфа принесла. И блюдечко вон с господской колбасой. Только я ломтик-то и успел загрызть. Как лег, так мертвым сном и уснул. Видать, оттого, что с дровами вчера наломался: в одиночку две ломовых телеги разгрузил, во двор перетаскал, потом поленницу сложил. А года уже немолодые…
– Что-то я на столе сургуча не вижу, – сказал Ахиллес.
– Так Марфа сургуч у себя на кухне соскребла. Добрая баба, чего там…
Ахиллес сказал небрежно:
– Верю, что более не пил, но что-то вид у тебя как с доброго похмелья…
– Да и не поймешь, похмелье ли, что ли… И на обычное похмелье не похоже: и глаза продрал не так как-то, и башка трещит иначе, хоть и не могу я толком объяснить, в чем инакость. Только не так как-то… Никак такого с косушки не может быть. Старею, видимо, хвори цепляться начали…
– Ну что ж, сиди, поправляйся, – сказал Ахиллес, вставая. – Авось пройдет…
Стараясь не смотреть в кабинет через разбитое окно, он остановился у края поленницы, хорошенько присмотрелся к верхнему ряду, уложенному на высоте человеческой макушки. В конце концов вытянул руку и достал полено, чуть выступавшее над соседями, словно не соблюдающий безукоризненного строя нерадивый солдат. Достал лупу и тщательно оглядел его торец. Увидев там мелкие осколочки стекла, покивал сам себе головой, пробормотал под нос:
– Логично…
И, отступя на два шага, медленно двинулся вдоль поленницы, изучая ее пытливо, как ученый изучает в микроскоп неизвестного прежде, им первым открытого микроба. В самом конце ее увидел второй непорядок сразу в трех верхних рядах, шириной в пять-шесть поленьев, опять-таки лежавших без должной безукоризненности. И очень скоро обнаружил там нечто крайне интересное. Оставил его на месте, вновь заложив поленьями. Быстрым шагом прошел в дом, распахнул дверь в гостиную. Все (особенно Митрофан Лукич) уставились на него с нетерпением – кроме красавицы Ульяны. Она с прежним отрешенным видом затягивалась пахитоской – похоже, бром еще действовал. На столе стояли несколько бутылок кислых щей, и перед каждым сидящим – стакан. Разумеется, только у тех, кто был причислен к господам, Марфе и Дуне стаканов предложено не было. Еще один пустой возле бутылки явно предназначался для него. Пить хотелось ужасно, в горле пересохло от неумеренного курения – но еще больше хотелось побыстрее все закончить. Он позвал, не входя:
– Павел Силантьевич, можно вас на два слова?
Сидельников живо выбрался из-за стола и вышел к нему в коридор.
– Умаялись ждать? – участливо спросил Ахиллес.
– Умаялись. Особенно когда ждешь неизвестно чего…
– Ничего, сейчас все закончим, – сказал Ахиллес. – А к вам пока что маленькая просьба: можете Трезора на минутку из конуры выпустить? Он ведь на цепи, я полагаю?
– На цепи, конечно. В два счета, он меня знает… А зачем вам?
– Да все за то, что ему мазурики что-то с сонным зельем подкинули. Сейчас-то оклемался, а ночью завалился спать, вот и не пролаял ни разу. А я с мальчишеских лет с отцом и дядей на охоту ходил, собаки во дворе не переводились, я привык с ними обращаться, многому научился. Могу на вид определить, как с отравленной собакой обстоит. Однажды, помню, дядин гончак сожрал отравленную мясную приваду, что для крыс положили… Ну, это сейчас неинтересно. Вы уж поторопитесь, быстрее дело кончим, быстрее разойдемся.
– Извольте. Только вы уж на крылечке постойте, не подходите близко…
Он прошел к конуре и сноровисто выдернул толстую доску из пазов. Едва почуяв волю, волкодав мохнатой бомбой вылетел наружу, не обращая на Сидельникова ни малейшего внимания, метнулся к крыльцу. Когда цепь, натянутая на всю длину, его удержала, пес взмыл на задние лапы, хрипя от душившего ошейника, брызгая слюной, яростно забрехал на Ахиллеса. Очень быстро Ахиллес замахал рукой, крикнул:
– Довольно, запирайте!
– Трезор! – прикрикнул Сидельников.
Пес оглянулся на него, помахал хвостом, словно докладывал о своей служебной рьяности, – и вновь залаял на Ахиллеса, остервенело, зло. Сидельников ухватил его за ошейник, поволок к будке, прикладывая все силы, чтобы побороть здоровенного зверюгу. Не без труда запихнув в конуру, вновь вставил доску, шумно отдуваясь, крутя головой, пошел к крыльцу:
– Видали, каков?
– Да уж… Благодарю, Павел Силантьевич. Идите в гостиную, вскоре кончатся для вас всех мытарства…
Когда управляющий скрылся за дверью, Ахиллес поманил Кашина. Он ни в чем уже не сомневался, но следовало проверить все до конца. И тихо спросил:
– Кто первым во двор входил?
– Да я и входил, – сказал Кашин. – Стою я, вижу – Марфа бежит. Барина, кричит издали, до смерти зарезали! Ну, я высвистел Ракутова, он ближе всех ко мне дежурил, послал его за господином приставом и околоточным, а сам пошел с Марфой глянуть, что и как…
– Собака себя как вела?
– Да как все время, что мы здесь. Брехал, аспид, так, что уши закладывало, доску грыз… Сорвись такой – без нагана или шашки не отобьешься…
Все было ясно. Оставался завершающий штрих. Распахнув дверь в гостиную, Ахиллес громко позвал:
– Марфа, поди-ка сюда!
Она выбралась из-за стола и засеменила в коридор. Показав ей на дверь в комнату покойного Сабашникова-младшего, Ахиллес вошел следом, кивнул на стул:
– Садись, место тебе уже знакомо…
Сам сел напротив, достал лупу и тщательно принялся ее протирать носовым платком. Закончив, поиграл ею, покачивая вправо-влево. Судя по выражению лица Марфы, ставшему из туповатого испуганно-настороженным, луп она в жизни не видывала. Опасливо спросила:
– Чегой-то у вас, барин?
– Да ничего особенного, – ответил Ахиллес небрежно, поигрывая внушительным изделием германских умельцев – многое колбасники, и надо отдать им должное, умели делать отлично, хотя блоху вряд ли подковали бы. – Секретный аппарат сыскной полиции для моментального определения, где правда, а где ложь. Никогда не видела, поди? И не слышала? Ну, так мы же не дураки кричать на каждом углу, что у нас в запасе имеется. Знай иной мазурик заранее, приготовиться может…
Он встал, подошел вплотную и непререкаемым голосом приказал:
– Язык высунь! На всю длину, как можешь! Не бойся, дура, больно не будет. Ну? Если будешь фордыбачить, отведу в часть, а там его тебе все равно изо рта силком щипцами вытащат. Я кому сказал?
Таращась на него с величайшим испугом, Марфа открыла рот и добросовестно высунула язык, насколько удалось. Ахиллес изучал его в лупу долго и старательно, с видом величайшей сосредоточенности. Потом распорядился:
– Теперь прижми язык к верхней губе, чтобы я нижнюю сторону осмотрел. Живо!
Повторил с большим тщанием ту же процедуру, отступил на шаг и посмотрел на нее одним глазом через лупу. Она, конечно же, увидела глаз огромным, отшатнулась, мелко перекрестилась. Положив лупу на стол, Ахиллес объявил с торжеством в голосе:
– Как я и думал, аппарат показывает, что врешь ты мне как нанятая. Так-то…
– Про что же, барин?
– Про убийство, – сказал Ахиллес. – Не так все было, а как, ты и сама прекрасно знаешь… – Он наклонился к ней через стол и сказал зловеще: – Покаешься, мерзавка, чистосердечно, легко отделаешься, а молчать будешь – в каторгу пойдешь, не сойти мне с этого места, – и улыбнулся улыбкой оперного Мефистофеля. – Но раньше я тебя в сыскную сведу, а там у нас еще много интересного найдется… В синематографе бывала?
– Б-бывала, – пролепетала Марфа. – Там занятно… В молодости я о таких чудесах и не слыхивала…
Ахиллес с той же улыбкой сказал:
– У нас свой синематограф есть, полицейский. Только устроен чуточку по-другому. Возьмет доктор во-от такой стальной бурав, – он развел указательные пальцы не менее чем на аршин, – просверлит тебе дыру в башке, вставит туда проволочку – и на стене, как в синематографе, покажется все, о чем ты своим подлым умишком думаешь. Для жизни это не опасно, разве что потом башка у тебя месяц будет раскалываться – а мы зато все твои мысли увидим. И уж тогда тебе каторги не миновать. На Сахалине неуютно… Ну? – Он грохнул кулаком по столу. – Сама сознаешься или башку тебе сверлить?
Судя по ее лицу, она вот-вот должна была сломаться. На ее памяти появилась не одна невиданная прежде техническая новинка, которые темному, неразвитому уму могут показаться чудесами: электрические лампочки и уличные фонари, граммофон, моторы[38]38
Моторами долго называли автомобили.
[Закрыть], мотоциклеты, аэропланы (в прошлом году впервые в мировой истории один в Самбарске совершил загородные полеты, стечение народа было превеликое, так что авиатор заработал неплохо), синематограф, телефон… Пожалуй, даже люди гораздо образованнее провинциальной кухарки, услышав о новом изобретении, не сразу определили бы, идет ли речь о реальной вещи или выдумке газетных репортеров. Так что легко могла поверить и в «полицейский синематограф»…
– Ну, что молчишь, тварь? – рявкнул Ахиллес. – Или все же в сыскную вести?
Она вдруг рухнула со стула на пол и поползла к нему на коленях, громко причитая:
– Не губите, милостивец, господин сыщик! Не своею волей! Подневольные мы!
И всерьез нацелилась обхватить его колени, уже брызгая слезами. Без всякой жалости отпихнув ее ногой (кого прикажете жалеть?!), Ахиллес саркастически захохотал, как театральный злодей бродячей труппы:
– Подневольные? Сколько тебе обещали, тварь?
– Пятьдесят червонцев золотом, ваше высокоблагородие! – запричитала она, подняв к Ахиллесу залитое слезами лицо. – Соблазнилась я, убогая! На такие деньги я б у немца Гаккеля его кухмистерскую[39]39
Кухмистерская – недорогая столовая, рассчитанная на людей небогатых: мелких чиновников, студентов и др. Обязателен был дипломированный повар. Оттуда отпускались и обеды на дом.
[Закрыть] откупила б, он продает. Заведение небольшое, но на бойком месте, и повар там с дипломом. Надоело в людях быть, хотела побыть сама себе хозяйкой…
– А царицей морскою ты не хотела быть, сволочь такая? – ухмыльнулся Ахиллес. – Ну, давай, исповедуйся…
Выйдя минут через пять из комнаты, он поманил Кашина и распорядился:
– Иди в комнату, братец, и стереги эту бабу со всем усердием.
– Слушаюсь! – рявкнул служака Кашин и шагнул через порог, заранее сверля Марфу бдительным полицейским взором.
Захлопнув за ним дверь, Ахиллес подошел к околоточному и тихо сказал:
– Ну, Яков Степанович, сейчас начнется кадриль…
У того в глазах прямо-таки полыхнул азартный восторг. Глядя на Ахиллеса с нескрываемым уважением, он выпалил:
– Докопались, господин поручик?
– До самого донышка, – сказал Ахиллес ничуть не торжествующе, скорее уж устало, с тоской. – Пойдемте. Ожидать следует всего, так что смотрите в оба. Особое внимание уделите… – предосторожности ради он шепнул имя околоточному на ухо, хотя и знал, что подслушать их сейчас никто не сможет.
– Понял, – сказал околоточный со спокойной уверенностью в себе, свойственной сильным, но не заносчивым людям.
Они вошли. Все сидели там, где Ахиллес им и назначил: Ульяна Игнатьевна, Сидельников и Дуня – лицом к двери, спиной к окну, Митрофан Лукич и доктор – у торцов. Небрежной походочкой, ни на кого не глядя, околоточный прошел к окну и встал, опершись спиной на подоконник, вроде бы расслабленный и праздный. Никто из троих на него не оглянулся.
Убедившись, что лишний стакан чистый, Ахиллес наполнил его до краев пенящимися кислыми щами и с удовольствием осушил до дна. Вытер носовым платком усы и, уже не спрашивая позволения, вытащил трубку с гарусным[40]40
Гарус – шерстяная пряжа.
[Закрыть] кисетом – новоиспеченная вдова как раз закуривала очередную пахитоску. Выпустив первый клуб дыма, сказал все так же устало:
– Ну что же, Ульяна Игнатьевна, Павел Силантьевич… Пришла пора ответ держать.
– За что? – спокойно осведомилась красавица Ульяна.
– Вам, Павел Силантьевич, за убийство, вам, мадам, – за соучастие в таковом.
– Послушайте! – негодующе воскликнул Сидельников. – А у вас, часом, не умственное помешательство?
– Да вроде не замечал за собой, – спокойно сказал Ахиллес. – Но если почувствую, что на меня что-то этакое накатывает, непременно к докторам схожу… Что же, предпочитаете, чтобы вас уличали долго и даже занудно? Ну что ж, извольте… С самого начала, едва я вошел в кабинет покойного, посыпались несообразности, и становилось их все больше и больше. Все осколки стекла – на полу в кабинете, а не снаружи, под окном. И я это подметил, и околоточный. Разбивали окно снаружи. И не выскакивал в него никто. Предположим, убийца разбил окно и вошел снаружи… такого быть не может, но предположим. Уж при этаком обороте покойный ни за что не остался бы лежать на диване с безмятежным лицом. Одурманен он быть никак не мог – водку распечатывал сам, там на столике, на блюдечке – перочинный ножик и кусочки сургуча. Никак вы оба не подумали, что окно после убийства разбивать следовало изнутри… Я вообще не пойму, зачем понадобилось его разбивать? Если вы, Павел Силантьевич, забрав все, что хотели, могли преспокойно выйти во двор коридором, как и вошли? Трезор вас пропустил бы беспрепятственно, как и впустил, он к вам привык, своим считает, что недавний опыт и показал. Крючки так и оставались Марфой откинуты. Я так полагаю, ради вящего эффекта – вот только эффект оказался дурным, как в дешевой мелодраме захолустного театрика. Ну, понять вас можно: вы оба наверняка впервые такое преступление планировали. Далее. Почему обитатели дома были одурманены каким-то зельем – предполагаю, куколем, каким издавна пользуются аферисты на ярмарках, хотя точно утверждать не берусь, – столь, можно сказать, избирательно? Только двое из четверых? Да потому, что Дуня и Фома знать ничегошеньки не знали, зато Марфа открывала крючки, а вы, Ульяна Игнатьевна, на всякий случай за ходом дела надзирали. Я пробовал сам: это в кабинете дверь можно открыть снаружи, поддев ножом крючок, а во входной двери попросту нет щели, куда можно самое тонкое лезвие просунуть… Вошли вы через дверь, дражайший Павел Силантьевич. Сабашников, увидев вас, особого удивления не выразил – мало ли что могло случиться, потребовавшее вашего появления в неурочный час? Вы его ударили ножом, ухитрившись попасть прямехонько в сердце – вот тут вам свезло, ведь наверняка первый раз в жизни человека ножом ударяли. Забрали деньги, забрали все его расчеты – он ведь явно перед тем, как прилечь отдохнуть, какие-то расчеты писал. – Ахиллес достал из кармана шаровар скомканный листок бумаги, расправил его и показал своим визави. – Мустафа… и цифры. Мустафа – это, без сомнения, Мустафа Габдуллаев, один из ваших караванщиков, а вот цифры… С чего бы это купцу вести за полночь обычные расчеты? Следовательно, расчеты были несколько необычными. Уж не обкрадывали ли вы его потихоньку, как это у приказчиков и управляющих исстари водится? Уж не узнал ли он об этом? И не сел ли посреди ночи точно подсчитать возможный ущерб от воровства вашего? Вы об этом могли и не знать, вы ведь его убивать и грабить шли, не более. Но, увидев расчеты, сообразили, что к чему, – и забрали заодно и бумаги. А скомканный листок под столом не заметили второпях – туда и свет от лампы не достигал, и волновались вы, я уверен, крайне – впервые в жизни человека убивали… Потом вышли во двор, разбили окно и удалились – а женщины, якобы звоном разбитого окна разбуженные, преспокойно просидели до утра, а потом кликнули полицию и изложили ей вашу великолепно согласованную версию… Уверен – и не разбей вы окно, я бы к тем же выводам пришел, ну, быть может, чуть попозже – хватало ведь несообразностей…
Сидельников сидел с напряженным лицом. Ульяна, наоборот, спокойная, словно бронзовый бюст самой себя, сказала насмешливо:
– Вам бы, подпоручик, уголовные романы писать, пожалуй, могли бы и денег заработать. Умеете вы фантазии закрутить…
– Благодарю за совет, – поклонился Ахиллес. – Быть может, когда-нибудь им и воспользуюсь. Написал же свои «Записки» Иван Дмитриевич Путилин, «русским Шерлоком Холмсом» поименованный. Но пойдемте далее. Кто был, так сказать, мотором всего предприятия, кто его задумал и разработал? Сдается мне, вы, Ульяна Игнатьевна. Вы, Павел Силантьевич, уж не посетуйте, кажетесь мне для такого простоватым. Одно дело – хозяина втихомолку обкрадывать, и совсем другое – такое преступление продумать. С ошибками, конечно, ну да вы ж с ней такое впервые в жизни планировали, немудрено в чем-то и напортачить, как мужички наши выражаются… Да и не было у вас, Павел Силантьевич, особой нужды хозяина убивать. Крайне редко, очень редко проворовавшихся управляющих и приказчиков под суд отдают, разве что улики чересчур вопиющи. А в остальных случаях вышибают за ворота, и только. Ну так империя наша велика, и человек с капитальцем свободно может где-нибудь далеко от мест, где нагрешил, новую жизнь начать? Прав я, Митрофан Лукич?
Обратившийся в зрение и слух Пожаров кивнул, печально вздохнул:
– Истинно так, Ахиллес Петрович. Чаще всего так и бывает – да вы и сами знаете на недавнем примере. Не пойман – не вор, тут и расчеты не помогут. Можно совершенно точно знать, сколько именно у тебя украли, а улик-то нет…
– Вот именно, – сказал Ахиллес. – Думается мне, Павел Силантьевич, если бы все от вас зависело, вы бы иначе поступили. Даже зная, что он знает. Ухитрились бы подсыпать ему дурмана, забрали десять тысяч и канули в неизвестность. Надо полагать, немало уворованного в кубышку сложено? А вот у Ульяны Игнатьевны причины были не в пример более весомые. Ну, скучно было молодой женщине, красивой, темпераментной жить с пожилым человеком, почти стариком! Озабоченным исключительно торговыми делами. Ни на бал ее не вывезет, поскольку сам их не посещает, ни на другие развлечения. А купеческой жене одной, без мужа, по увеселениям разъезжать, пусть самым приличным, как-то и неприлично… Жили вы в смертной скуке, это ясно. Мы тут все люди взрослые, так что добавлю: и по ночам вы в смертной скуке пребывали – супруг ваш был почти старик, вполне мог оказаться неспособным уже радовать жену должным образом. Вот тут у вас и стал помаленьку план рождаться, а под рукой Павел Силантьевич в роли надежного исполнителя… Павел Силантьевич, простите за нескромный вопрос, но сыщикам, как и врачам, дозволено… Уж не уверила ли она вас в светлой и чистой к вам любви? Уж не дала ли тому, как бы это поделикатнее, реальных доказательств?
И по тому, как метнулся взгляд Сидельникова, понял: угодил в цель! Покачал головой:
– Павел Силантьевич, Павел Силантьевич… Шли у нее на поводу, нимало не задумываясь: а зачем вы ей после? Ведь полиция готова была вашу стряпню проглотить без перца и без соли. Вот разве что Яков Степанович кое-какие несообразности тоже усмотрел, но у него, в конце концов, чин невелик, трудно порою с таким чином в нашем Отечестве правду искать… Вовсе я не хочу хвастать, но проигрыш ваш случился, когда полиция готова была дом покинуть, вашими объяснениями вполне удовлетворившись, – да тут я появился… Вернемся к вам, господин Сидельников. Вот подумайте сами: увенчайся все успехом, что получилось бы? Молодая, красивая, умная женщина с образованием и немалыми капиталами, вольная, как птичка… И зачем вы ей тогда? Есть у грузин, мне в училище соученик, из Тифлиса родом, рассказывал, примечательная пословица: «Что стоит услуга, которая уже оказана?» Не протолкнуться было бы вокруг нее от кавалеров умнее, образованнее и интереснее вас, господ знатных, благородных, светских. Не было бы вам в ее новой жизни места. А потому, сдается мне, очень быстро вы б что-нибудь выпили уже не с сонною отравой, а отравой натуральной. Приехала она к вам, скажем, под вуалькой на квартиру для любовного свидания, бутылку настоящего заграничного вина привезла. И первым бы вас выпить поощрила. И улетучилась бы, как привидение.
– Да вы… Да я… Да вы… – Сидельников кипел от злости. – Ульяна Игнатьевна, это что ж такое?
– А это господин подпоручик то ли умом повредился, то ли в белую горячку впал, – ответила она, и Ахиллес подумал: пожалуй, ее спокойствие вызвано не одним бромом, но и железным характером, острым умом.
– А вы что же, доктор, так спокойно смотрите? – обернулся к врачу Сидельников. – Видите ведь, человек не в себе? Приличных людей грязью поливает? Выдумками безумными пачкает? Что же, не предпримете ничего?
Доктор потеребил бороденку:
– Я, собственно, не психиатр, а хирург, в каковом качестве полицией порой и привлекаюсь… Однако ж… Господин подпоручик, все, что вами было сказано, конечно, совершенно голословно… Государство наше, к моей, не скрою, радости, достигло того общего с цивилизованной Европой уровня, когда вину человека одними словесами не доказывают. Доказательства и улики нужны.
Ах, как Ахиллес был ему благодарен! Доктор в изрядной степени облегчил ему задачу: избавил от необходимости самому перекидывать словесный мостик от умозаключений к уликам. До чего же приятный человек, если присмотреться!
– Ну что же, – сказал он почти весело. – Давайте об уликах, начнем с того, что alibi ваше, Павел Силантьевич, предстает крайне сомнительным. Потому что дама ваша, оказалось, давно на заметке у полиции, поскольку с заднего крыльца краденое принимает – да не абы что, а вещички золотые и серебряные, меха да камушки. И хороводится не с мелкой шушерой, а жиганами серьезными, битыми. Потому до сих пор трудненько против нее твердых улик накопать. Сдается мне, такая вот дама за приличное вознаграждение alibi обеспечит кому угодно…
– Вот только Анюту оскорблять не смейте! – взревел Сидельников.
– Как пожелаете, – кротко согласился Ахиллес. – Я вас буду оскорблять… Все ж вы недалеки умом, любезный. Полено, коим окно выбивали, на место положили, не подумав от осколочков стекла очистить. Ну да дело ночью было, могли не заметить… Оно там и сейчас лежит в стекле мелком битом. И пятнышки на нем подозрительные, на засохшую кровь похожие. И не обожгли вы руку, а ночью ее порезали – тоже, надо полагать, с непривычки, впервые в жизни окна поленом выбивали, чай? (Он краем глаза подметил, что Ульяна слушает его с величайшим вниманием.) Вот здесь у нас, как вы только что слышали, присутствует дипломированный хирург. Не позволите ли ему повязку снять и рану вашу осмотреть? Вдруг там не ожог, а порезы от стекла? Ну а потом доктор вам вполне квалифицированно новую повязку наложит, у него с собой, я вижу, медицинский саквояж с принадлежностями. А?
– Не имеете права заставить! – рявкнул Сидельников. И тут же сбавил тон: – У меня пузырь от ожога лопнул, присох бинт, не дам я его отдирать, боли боюсь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.