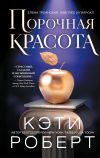Текст книги "Изобличитель. Кровь, золото, собака"
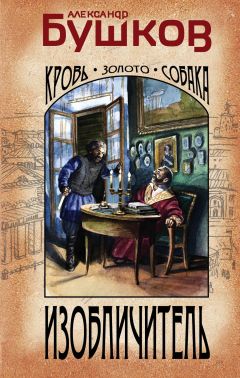
Автор книги: Александр Бушков
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Какое-то время Сидельников сердито сопел, потом закурил новую папиросу, уже гораздо спокойнее, и проворчал:
– Понимаю. И все равно… Думаете, приятно такое слышать?
– Павел Силантьевич, я же не из неприязни к вам – откуда она, если я вас сегодня увидел впервые в жизни? Повторяю: это азбука сыскного дела – в подобных случаях подозревать всех.
– Да понимаю, понимаю… – ворчал Сидельников. – И все равно неприятно…
– Вот и скажите, где вы были в указанное время. Еще лучше, если есть кто-то, кто может подтвердить, что вы именно там и находились. Юристы это называют alibi. В этом случае вы моментально очищены от всех и всяческих подозрений, слово чести. Таковы уж у нас порядки, не нами заведены, и не вчера…
Его собеседник опустил глаза, явно что-то для себя решая, потом сказал решительно:
– Ваша правда, господин подпоручик. Есть такой человек, который может сказать, где я был с вечера и до утра. Да понимаете ли… Коли уж вы на сыскной службе, жизнь и людей повидали. Должны знать, бывают такие случаи, когда порядочный человек не может сказать, где он был и с кем. Ну вот не может, и все тут! Вы уж поймите мое положение, никак я не могу язык распускать…
Кажется, Ахиллес понимал мотивы Сидельникова. Правда, до сих пор он с таким сталкивался лишь в чувствительных романах – младшая сестренка их обожала со всем пылом гимназистки четвертого класса, и Ахиллес любопытства ради полистал парочку.
– Думается мне, я понял, – сказал он. – Женщина? Молчите, но я по вашему лицу вижу, что правильно догадался. Женщина, конечно же. И вы, как человек благородный, компрометировать ее никак не хотите.
Подняв голову, Сидельников глянул ему в глаза:
– Именно.
– Что ж, случается и такое… – сказал Ахиллес. – Но ситуация такова, что я просто вынужден быть злым и непреклонным. Убийство с кражей десяти тысяч рублей – дело крайне серьезное. Так что я, можно сказать, обречен на жестокость – по служебной обязанности. Конечно, ваше благородство делает вам честь, но в подобных делах любые благородные чувства в расчет не принимаются и на веру приняты быть не могут. Подозреваемых, согласитесь, много. Мы, разумеется, проверим всех до одного… но когда это еще будет. И времени, согласитесь, отнимет немало. Меж тем один подозреваемый у меня уже имеется. Вы отвечаете, так сказать, всем необходимым требованиям: и о деньгах знали, и с расположением комнат знакомы, так что подозрения отнюдь не ложны. Давайте говорить откровенно. В сложившихся обстоятельствах я просто обязан вас арестовать и препроводить в губернский замок[31]31
Губернский замок – тюрьма в губернском городе, где содержались в основном подследственные и осужденные, ожидающие отправки в ссылку или на каторгу.
[Закрыть]. Допрашивать вас более не будут – достаточно нашего с вами разговора. Так что вы будете просто сидеть на нарах. Я не буду говорить, что верю в вашу виновность либо невиновность. Вера – дело церковное, а сыщикам нужны факты. Те факты, что уже имеются, – против вас. Хорошо, вы невиновны, и это сделал кто-то другой. Но доказать свое alibi вы не можете. Так что оставаться вам за решеткой до тех пор, пока не сыщется настоящий виновник. А уж насколько это затянется, никто сейчас сказать не может. Но что надолго – сомнению не подлежит. В тюрьме неуютно, Павел Силантьевич…
Он помолчал и, неотрывно глядя на понурившегося собеседника, продолжал уже гораздо мягче:
– Могу вас заверить честным словом офицера, что в подобных случаях – а они нередки – полиция сохраняет максимальную деликатность и тайну блюдет. Мы же не звери и не старушки-сплетницы. Нас совершенно не интересуют ваши, так сказать, маленькие житейские радости, каковые не подпадают ни под одну статью Уголовного уложения. С дамой вашей побеседуют в высшей степени тайно и деликатно. Даже если она замужем, нравственность ее нас не интересует. Она замужем?
– Нет, – сказал Сидельников, вновь потупившись.
– Тем более, – сказал Ахиллес. – В такой ситуации никакой компрометации и нет. Грешок из тех, что вам отпустит любой священник на исповеди – но не из тех, что могут заинтересовать полицию. Мы все живые люди, в конце-то концов, понимаем прекрасно, что холостые молодые люди монашеский образ жизни не ведут. Признаюсь вам, я сам человек холостой, так что прекрасно вас понимаю и не осуждаю ничуть… Повторяю, с вашей дамой побеседуют крайне деликатно и сохранят все в тайне, слово офицера. Ну вот, пожалуй, и все. Беседовать нам, пожалуй, более и не о чем. Делайте выбор, Павел Силантьевич: либо откровенность, либо губернская тюрьма. Все теперь от вас самого зависит. Я вам даю минуту на размышление, после чего кликну городового и в случае дальнейшего запирательства отправлю вас прямиком в тюремный замок. Итак?
Он отстегнул цепочку своих карманных часов, нажал кнопочку, открыв крышку циферблата, положил их перед собой на стол и, уже не глядя на собеседника, сказал равнодушным тоном:
– Я начал отсчет минуты…
Тридцать секунд, сорок… Ахиллес испытывал нешуточный охотничий азарт. Пятьдесят…
– Ну что же… – сказал Сидельников полным безнадежности голосом. – Остается полагаться лишь на честное офицерское слово… Да, был я с вечера и до утра у женщины. Она, правда, не входит в категорию «дам», но женщина исключительно приличная. То, что мы… Вы правильно подметили: монашеский образ жизни молодые холостые люди… и молодые вдовы сплошь и рядом не ведут. А она именно что вдова, моложе меня на три года. И намерения у меня самые серьезные – в скором времени вступить в законный брак. Чему она будет только рада. Я, конечно, господин подпоручик, погулял немало, чего уж там, но мне уж двадцать семь, – он бледно улыбнулся. – Перестарок, можно сказать, хотя это слово исключительно к девицам применяется. Я, скажу вам откровенно, не из вечных гуляк. В мои годы житейской определенности хочется, семейной жизни, детишек. Да и Анюте мужское плечо требуется. Ей после смерти мужа портерная в наследство досталась, дело она ведет умело вот уж третий год, но все равно, не из тех женщин, что способны всю жизнь самостоятельно каким бы то ни было делом руководить. И… Не писаная красавица, но крайне мила.
– Ну что же, – сказал Ахиллес. – С житейской точки зрения все у вас удачно складывается, а это не у каждого выходит… Анюта, говорите… Анна?
– Анна, – сказал Сидельников, как-то теплея лицом. – Анна Федоровна Булыгина, а портерная называется «Бавария». Быть может, знаете?
– Даже более того, – сказал Ахиллес. – Я там бывал пару раз, правда, самой хозяйки ни разу не видел. Что же, заведение небольшое, но репутацией пользуется хорошей, безусловно, доходное… Искренне надеюсь, что вы мне не соврали, и Анна Федоровна все подтвердит… Вам пока что придется посидеть в гостиной вместе с остальными – до того момента, когда я завершу здесь допросы.
И встал, недвусмысленно давая понять, что беседа окончена. Сидельников повторил:
– Остается полагаться на честное офицерское слово…
И вышел в коридор, направился в гостиную. Склонившись к уху околоточного, Ахиллес сказал тихонечко:
– Яков Степанович, пошлите Кашина на улицу. Пусть свистом вызовет подмогу. А когда появится ближайший городовой… – и произнес еще несколько фраз.
Околоточный так же тихонечко ответил без малейшего удивления:
– Нет никакой надобности, господин подпоручик. Это заведение в нашей части, и без сыскной сами знаем, да уличить пока не можем. Дело в следующем…
Его рассказ занял минуту, не более. Закончив, околоточный спросил тоном, в котором проглядывал тот же охотничий азарт:
– А дальше какие распоряжения будут?
– Несложные, – сказал Ахиллес. Побеседую со всеми находившимися в доме в момент убийства женщинами, а дворника Фому оставлю на десерт… Приведите ко мне прежде всего…
Чуть подумав, он решил начать, так сказать, по восходящей. Из трех женщин ниже всех стояла…
– Приведите ко мне служанку Дуню, – сказал Ахиллес. – Потом приведите кухарку Марфу и в завершение – хозяйку.
Ждал он недолго. Служанка Дуня встала в дверях, по простонародной привычке засунув руки под фартук.
– Проходите, Дуня, садитесь, – сказал Ахиллес. – Вам не помешает, если я трубку закурю?
– Да что вы, барин, – отозвалась она каким-то вялым голосом. – Барыня изволят курить, я притерпелась…
Разжегши трубку, Ахиллес присмотрелся к ней. Ничего не скажешь, девица симпатичная – и есть такое впечатление, что бойкая, не робкая, всегда готовая почесать язык с кавалером, а то и зайти чуточку подальше. Вот только выглядела она сейчас не лучшим образом: бледная, синие тени под глазами, лицо унылое, голос вялый и безразличный. Можно и в самом деле сказать, что она вчера и впрямь, выражаясь простыми солдатскими словечками, изрядно надрызгалась и мается сейчас похмельем – но есть некие неуловимые отличия…
– Давно служишь на этом месте, Дуня? – спросил Ахиллес мягко.
– Четвертый год, барин, – тем же невыразительным тусклым голосом ответила она.
– Местом довольна?
– Премного довольна. Барин с барыней не из тех, что кричат да придираются по пустякам, хорошие господа. На прежнем месте были не в пример хуже… И работы не сказать чтобы много. В самый раз. Куда же от нее денешься, от работы…
– Да, действительно, – кивнул Ахиллес. – Вот и мне от работы никуда не деться, да множеству народа… Расскажи-ка, Дуня, мне про прошлую ночь. Ты, может быть, что-то слышала?
– Ничегошеньки, барин…
– Крепко спишь, выходит?
– Не так чтобы очень крепко… Только ночь выдалась… и слова, Господи, не подберешь…
– Расскажи подробно, – насторожился Ахиллес.
– Я, барин, сплю и в самом деле крепко, но не так уж, чтобы меня какой шум не разбудил. И сны вижу всякий раз. Господин околоточный уже спрашивал, не слышала ли я, как после полуночи в кабинете у барина оконное стекло выбили…
– Было такое дело, – сказал Ахиллес.
– От такого я бы непременно проснулась, – уверенно продолжала она. – Только в ту ночь как-то странно было… Уснула сном прямо-таки каменным, едва голову на подушку положила, как провалилась куда-то. И снов никаких не видела. Утром меня Марфа еле растолкала: в доме уж полиция ходила. Еле я встала, еле оделась… Голова раскалывается, руки-ноги не слушаются, так и мотает всю… И сейчас-то скверно, а уж утром… Ничего я не слышала, спала, как мужики у нас в деревне говорили, без задних ног…
Ахиллес задумчиво выпустил клуб ароматного дыма. Определенные подозрения уже появились, но следовало прояснить детали. Он сказал:
– А вот скажи ты мне… Что ты ела и пила в тот вечер и когда. Как можно точнее вспомни.
– А что ж тут вспоминать? И так помню. Ужинала, как обычно прислуга у нас, часов в восемь вечера, часа за три до того, как спать пойти, снова как обычно. А перед сном кружку кислых щей[32]32
Вопреки названию, кислые щи капусты не содержали вовсе. Это высший сорт кваса из смеси разных сортов солода и муки. Выдерживался в плотно закупоренных бутылках, пока не становился игристым, как шампанское.
[Закрыть] выпила, не удержалась. Так-то на ночь ничего не пью, да у Марфы как раз кислые щи доспели, а они у нее хороши, с двумя изюминками на бутылку. Она предложила, я и не удержалась… Кислые щи у нас не переводятся, любят их господа, и мне порой перепадает… А больше и рассказать нечего…
Отправив ее, Ахиллес какое-то время сидел, уставясь в потолок. Он не мог бы с уверенностью сказать, что видит полную картину произошедшего, но она начинала помаленьку складываться, хотя многих кусочков и не хватало, если сравнить с мозаикой или детской игрушкой-головоломкой. Но он уверен был, что оказался на верном пути.
…Кухарка Марфа выглядела как очень многие представительницы сей достойной профессии, пожалуй, одной из самых полезных для человечества: дебелая баба лет пятидесяти в темном опрятном платье и белом фартуке. Как у многих простолюдинок, лицо у нее было настороженно-туповатое, с первого взгляда говорившее о недалеком уме.
Однако… Сыскного опыта у Ахиллеса практически не было (не считать же за опыт недавнюю историю с приказчиком-альфонсом. Проба пера, так сказать…), но кое-какой жизненный имелся. И он прекрасно знал: и у мужиков и у баб из простонародья за такой вот внешностью могут скрываться и недюжинная хитрость, и ум. Обожает наше простонародье изображать перед барами-господами дурака либо дурочку – из житейской практичности, с дурака, как всем известно, и спрос меньше…
Впрочем, держалась она без малейшей скованности, поглядывала скорее с любопытством. Степенно усевшись по приказу Ахиллеса, сказала нейтральным тоном:
– Я уж все рассказала и господину приставу, и господину околоточному, господин сыщик…
– Ничего не попишешь, – пожал плечами Ахиллес. – Придется еще раз и мне рассказать. Так уж у нас заведено при случае убийства, порядок такой.
– Ну, ежели порядок, тогда что ж, – сговорчиво сказала Марфа. – Порядок завсегда порядок, к чему бы ни прикладывался… Что желаете услышать, господин сыщик? Вы уж простите темную бабу, я в разных там отличиях в одежде форменной не разбираюсь. Вижу только, что мундир у вас чуточку не таков, как у господ полицейских, и погоны не те… Как вас навеличивать-то, простите великодушно?
– Очень просто – господин подпоручик, – сказал Ахиллес. – Давно служишь?
– Шестой год пошел, господин подпоручик.
– Довольна местом?
– Очень. Хорошие господа, и мной довольны. На большие праздники завсегда подарят что: ситцу там на блузку, гребень хороший, а на Рождество так и пятирублевик золотенький…
– Хорошо стряпаешь, значит?
– Да уж дал Господь к тому рученьки…
– Слышал я, и кислые щи хорошо делаешь?
– Господа хвалят, – сказала она с тем спокойным достоинством, свойственным хорошо знающим свое дело мастерам, чем бы они ни занимались. – Прикажете подать бутылочку? Сей момент сделаем.
– Потом, пожалуй, – сказал Ахиллес. – Расскажи-ка лучше, что в прошлую ночь случилось… вернее говоря, не слышала ли ты чего после полуночи?
– Да как же было не слышать, господин подпоручик? Легла я аккурат после полуночи – поздней обычного, да так уж пришлось. Сегодня хозяева гостей ждали, его степенство Митрофана Лукича Пожарова, а значит, с утра работы мне было б невпроворот. Вот я и постаралась, чтоб назавтра поменьше трудиться – птицу щипала и потрошила, овощу разную чистила, рыбу…
– Достаточно, я уяснил суть, – поднял ладонь Ахиллес. – Значит, легла ты после полуночи… Когда точно, не скажешь?
– Отчего же не сказать? Когда я все закончила и собралась спать идти, часы на кухне аккурат четверть первого показывали. Засыпаю я, господин подпоручик, не так чтобы сразу, поворочаюсь сначала недолгое время, а то и овец посчитаю, как барыня научила. Это в молодые годы ухо на подушку умостишь – и сразу сны видятся, а теперь не так вовсе… Только-только начала задремывать, в той стороне, где хозяйский кабинет, ка-ак хлобыстнет! Будто стекло разбили. С меня сон и слетел. Лежу и дивлюсь: это что ж такое? Знала я, что хозяин в кабинете какими-то делами занят – да чего б ему в здравом уме и трезвой памяти самому у себя стекла бить? Он и когда выпить случается, не бил ничего и не ломал, не то что иные. Вот служила я допрежь у одного купца, так он, когда водочки переупотребит…
– Это мне не интересно, – оборвал ее Ахиллес. – Значит, хлобыстнуло… И что было дальше?
– Ну, что? Лежу себе и думаю: что за чудасия? А более – ни звука. Тишина стоит такая, что хоть ножом ее режь.
– Что и собака не лаяла?
– Не брехнула ни разу. Тишина… Чтой-то жутковато мне стало: известно ж, кто, люди говорят, после полуночи является… Лежу, тишину слушаю… Сердце не на месте… Тут входит барыня в капоте, лица на ней нет, вся бледная. Она тоже слышала, как стекло билось. Пошла в кабинет, дверь подергала – изнутри крючок накинут. Постучала, позвала хозяина – а он не откликается. – Она понизила голос едва ли не до шепота: – Потом смотрит – а на входной двери оба крюка висят свободно, заходи, кто хочешь. А я ведь сама видела, как Дуня их вечером накидывала – это ей поручено. Тут и меня торкнуло. Аж затрясло. Ладно бы хозяина в кабинете удар хватил – он уж в годах, и помоложе с ударом сваливались. Но отчего ж стекло там разбилось? И крючка оба сняты…
– Вот давай-ка о крючках, – прервал ее Ахиллес. – Любопытно мне стало (ему действительно было любопытно). Почему на дверях крючки, пусть и увесистые? Купцы – да и не они одни – любят засовы, да посолиднее, у моего квартирного хозяина, купца Пожарова, на входной двери их целых два, да таких, что любым волка убить можно. И во флигеле, что я занимаю, засов стоит, правда, поменьше… Отчего так?
– А это, изволите ли знать, такая вот хозяйская причуда, – охотно пояснила Марфа. – И не в том даже дело, что у нас в Самбарске многие вместо засовов крючки ставят, исстари повелось, а в том дело, что крючки эти как раз и делал на своей фабрике Тит Иваныч, батюшка хозяина. Всяких разных размеров, от здоровенных, как у нас на двери, до совсем маленьких – для всех надобностей. Если угодно вам будет, посмотрите потом: там на каждом крючке клеймо выбито: «Тит Сабашников». Был он первым мастером в городе по крючкам, чем и гордился. И на ярмарке продавал, и по губернии расходились. Когда он долго жить приказал, Фрол Титыч фабричку-то продал. Говорил, не приспособлены у него руки к такому вот делу, он в торговле силен, а фабричкой еще управлять – нет особого желания. А управляющего поставь – глядишь, увидев, что хозяин в деле не разбирается, может и завороваться вовсе уж люто. Бывало такое… Фрол Титыч, мне так простой бабе думается, правильно сделал. Только с тех пор повсюду в доме крючки держит вместо засовов или там щеколд. В память о батюшке, что ли. Коли это причуда, так вовсе безобидная, бывают и похуже. Вот когда я служила, давно тому, у господина инженера Бобровского…
Ахиллес вновь прервал ее, решительно подняв ладонь:
– Не отвлекайся, Марфа, я тебя убедительно прошу… Что было дальше?
– Ну, что… Пришло нам с хозяйкой в голову: а вдруг мазурики в дом залезли? И с хозяином что плохое сотворили? Не зря ж он не отзывался, когда хозяйка стучала и звала, а окно, точно, у него в кабинете разбито – мы кой-как, страх пересилив, прошли по дому, во все комнаты заглядывали, разве что в мезонин не поднимались – и так было ясно, что били стекло не там. Ходим, аж трясемся обе, думаем: явись кто, такой крик поднимем, что вся улица сбежится, да и городовой ночью обход делает исправно… Нигде никого, и везде окна целые. Пробовали Дуню разбудить – втроем как-то и лучше, да не добудились. Спала, словно опоили чем… Что делать, и не знаем. Хозяйка сказала: может, пойдешь на улицу да городового отыщешь? Ведь неладно что-то в доме, ясно уже… Или хотя бы, говорит, сходи дворника Фому покличь – у него в дворницкой и топор, и колун, да и сам он – косая сажень[33]33
Кухарка то ли преувеличивает с испугу, то ли употребляет слово в переносном смысле. Существовало несколько разновидностей сажени – старинной меры длины. Косая сажень – расстояние от пятки левой ноги до кончиков пальцев поднятой правой руки.
[Закрыть] в плечах. Приоткрыла я дверь, выглянула – темень, ближний фонарь уличный далеко, тишина стоит мертвая… И не то что за ворота городового искать, а и в дворницкую к Фоме идти не хватило мне духу. Может, и с Фомой что сделали? Хотя он спит-то – пушкой не разбудишь, мог и не слышать. Может, и с Трезором что сделали, чего ж он голос не подает? Заложила я оба крючка и говорю хозяйке как на духу: хоть меня завтра с места сгоняйте, хоть что делайте, а не пойду я из дома, хоть режьте. Она не так чтобы особенно и рассердилась, ладно, говорит, Марфа, не ходи. А то ты уйдешь, я одна дома останусь – тоже страшно… Ну вот что тут делать? У хозяина есть пистолет, так он завсегда в кабинете. Да и будь он у нас, ни хозяйка, ни я не знали б, как с ним управляться, чтобы выстрелил, да не просто так, а куда надо… В конце концов хозяйка легла в углу у себя в комнате, а я рядом в креслах поместилась. Только сначала с кухни косарь[34]34
Косарь – большой тяжелый нож, напоминающий скорее тесак. Им щепали лучину, рубили крупные кости, сахарные головы и др.
[Закрыть] принесла: полезет кто, так хоть попробовать по башке ахнуть…
– И что?
– Так всю ночь и промаялась. Хозяйку в конце концов сон сморил часа уж через два, а я бы и рада подремать, да сон не берет. Как рассвело, набралась я храбрости, побежала к Фоме – а он, как Дуня, спит мертвецки, так и не добудилась. Выскочила за ворота, пометалась по улице, нашла городового, Трофима Логунова, обсказала ему все, тут оно и завертелось – пристав с околоточным приехали, дверь в кабинет открыли как-то, а там, страсти Господни… – она несколько раз мелко перекрестилась. – Лежит хозяин с ножом в груди, окно разбито… Я сама-то не заходила, чтоб от страху окончательно не обмереть, – хозяйка рассказала, она сразу туда кинулась, как полиция дверь открыла. Что окно выбито, я еще раньше сама видела, когда к Фоме ходила. Вот и все, а больше и рассказать нечего. За что такая напасть и откуда? Сроду, я от хозяйки знаю, в дом мазурики не лазили, да и по всей нашей улице такого давненько не бывало…
Отправив ее, Ахиллес вновь набил трубку, хотя в горле уже першило от непрерывного курения. Мысленно он уцепился за одну подробность, сравнение всплыло в голове очень быстро.
Трезор, как он убедился, сторож ретивый, молчал. Хотя на отравленного чем-то никак не походил – судя по той рьяности, с какой он встретил лаем Ахиллеса, по той ярости, с которой грыз доску.
Да, вот именно… Один из его самых любимых рассказов о Шерлоке Холмсе.
«– Есть еще какие-то моменты, на которые вы советовали бы мне обратить внимание?
– На странное поведение собаки в ночь преступления.
– Собаки? Но она никак себя не вела!
– Это-то и странно, – сказал Холмс».
Вывод напрашивался сам собой…
Ни один человек воспитанный, ни один офицер и не подумает никогда в жизни встать, когда в комнату входит кухарка или служанка – таковые находятся вне рамок этикета. А вот перед такой дамой, как Ульяна Игнатьевна Сабашникова, встать было необходимо – и Ахиллес, едва она вошла, проворно встал, показал на стул:
– Прошу вас, Ульяна Игнатьевна. Не возражаете, если во время нашей беседы я буду курить трубку?
– Нисколько, – ответила она безжизненным голосом. – Я и сама закурю.
Она достала из маленького ридикюля[35]35
Ридикюль – дамская сумочка разных размеров в виде мешочка с завязками. Носилась на запястье.
[Закрыть] изящный дамский портсигар, золотой, с небольшими бриллиантами на крышке (баловал супругу Фрол Титыч, баловал!), вынула длинную пахитоску. Ахиллес галантно поднес ей огня. Какое-то время оба молчали, пуская дым (судя по аромату, табак у нее был гораздо лучше, чем у Ахиллеса, хотя и он, разумеется, курил не махорку и не третьесортный жуковский табак, а английский «Кэпстен» в жестяных банках, на что уходила половина присылаемых дядюшкой денег).
Он успел рассмотреть свою визави словно бы краем глаза, не разглядывая открыто, словно щеголь со столичного бульвара.
На купчиху она не походила ничуть. Ни следа полноты. Предположим, и среди светских дам во множестве встречались женщины в теле, именовавшиеся еще «роскошными женщинами», но Ахиллес был не из любителей «телесного богатства». Стройная, но нисколечко не худа, тонкое красивое лицо, даже сейчас красивое, хотя большие карие глаза распухли от слез, прямой носик покраснел, а русые волосы вместо аккуратной прически кое-как скручены в полурассыпавшийся узел. Не подлежало сомнению, что в другое время, не столь для нее трагическое, она была просто очаровательна. Палевое платье модного фасона, никаких драгоценностей, но у нее наверняка их много, вряд ли любящий супруг ограничился золотым портсигарчиком. Словом, в такую можно влюбиться и даже потерять из-за нее голову…
Аккуратно погасив в пепельнице окурок пахитоски, она спросила с легким недоумением:
– Как получилось, что следствие ведете вы, не полицейский чин, а армейский офицер?
Ну конечно, дочь офицера хорошо разбирается в военной форме… Ахиллес решил идти ва-банк – все равно она вряд ли сможет разоблачить ложь.
– Я с вами поделюсь служебной тайной, Ульяна Игнатьевна… Я до самого последнего времени расследовал другое дело, где следовало быть одетым офицером, и, когда меня неожиданно отправили сюда, попросту не успел переодеться…
– Разве полиции разрешают, даже сыскной, переодеваться в офицерскую форму? Никогда о таком не слышала. Мой отец – капитан в отставке, и я поневоле хорошо осведомлена о военных делах…
– А как давно ваш батюшка вышел в отставку? – вежливо поинтересовался Ахиллес.
– Более десяти лет назад…
– И наверняка перестал следить за армейскими новшествами?
– Да, совершенно…
– Вот потому вы и не знаете… – сказал Ахиллес. – Пять лет назад появился новый циркуляр: чинам сыскной полиции, охранного отделения и жандармерии в особых случаях дозволено надевать офицерскую форму – но не гвардейскую, и погоны надевать не выше капитанских.
– Ах, вот оно что… – сказала она без малейшего интереса.
Не то чтобы она была равнодушна ко всему окружающему – просто доктор, надо полагать, не пожалел брома, а может, присовокупил еще какие-то снадобья, так что молодая женщина определенно пребывала в некоторой прострации, не имеющей ничего общего с горем.
Она закурила новую пахитоску (Ахиллес вновь успел поднести огонь), произнесла с легким раздражением:
– Я ведь все уже рассказала приставу…
– Ульяна Игнатьевна, – сказал Ахиллес как мог проникновеннее. – Я прекрасно понимаю ваше горе, но такова уж специфика службы… Пристав произвел всего лишь первичный осмотр места преступления и опрос жильцов, что входит в его обязанности. Но далее начинаем действовать мы, сыскная полиция. У нас свое отдельное ведомство и, соответственно, собственное делопроизводство, такая незадача… Вы уж поймите мое положение. Не по своему хотению я вам в столь тяжкий для вас момент надоедаю с расспросами, а согласно заведенному порядку…
– Я понимаю, – произнесла она тем же тусклым голосом. – Что ж, задавайте ваши вопросы… Мне хочется, чтобы вы изловили этих мерзавцев и отправили их на виселицу…
– Увы, Ульяна Игнатьевна… – сказал Ахиллес. – Смертью у нас казнят исключительно за политические преступления, а уголовные, сколь бы ни были тяжелы, подлежат лишь каторге. Впрочем, и вечная каторга – не благодать судьбы, скорее наоборот…
– Жаль, что так обстоит… Что вы хотите знать?
– Ваш супруг часто засиживался в кабинете за какой-нибудь работой после полуночи?
– Довольно редко, так что я была несколько удивлена. Обычно он справлялся с делами в течение дня. Случаи, когда неотложные дела требовали ночной работы, по пальцам можно пересчитать.
– Он предупредил вас заранее, что собирается работать?
– Да, за ужином.
– Часов в восемь вечера, я так полагаю?
– Да, мы обычно ужинаем в восемь… разумеется, если нет гостей. Муж сказал еще за супом, что будет работать после полуночи, так что я могу ложиться спать, не дожидаясь его… Должно быть, дело было вовсе уж неотложным. Он собирался сегодня отправлять очередной караван в Туркестан, в столе у него лежали десять тысяч для приказчика, который туда поедет… Они ведь пропали, да?
– Увы… – кивнул Ахиллес.
– Боже мой, значит, его вульгарно убили из-за денег… Будь они прокляты… Я ведь сто раз говорила ему, что следует поставить вместо этих дурацких крючков надежный хороший засов. Будь на двери засов, ничего бы и не случилось, верно?
– Пожалуй, – кивнул Ахиллес.
– Ну вот… А они наверняка просунули в щель нож и подняли крючки. Я так уверенно предполагаю, потому что на моих глазах полицейские именно так открыли дверь в кабинет – взяли два ножа из кухни, один сломался, а другим удалось поднять крючок…
– Да, я знаю, – сказал Ахиллес. – Вы не спускаете на ночь собаку?
– Отчего же. Фома Трезора спускает с цепи что ни вечер. И вновь сажает рано утром, когда рассветет. Не то чтобы мы так уж боялись грабителей, просто… Просто у купцов так уж принято.
– Понимаю, – кивнул Ахиллес. – А сколько лет вашей собаке?
– Года четыре. К чему такие вопросы?
– Четыре года… – задумчиво сказал Ахиллес. – Можно сказать, цветущий возраст. Кто-то мне говорил, что один год собачьей жизни равен семи человеческим… Он, насколько я понимаю, хороший сторож? Не забуду, сколь яростным лаем он меня встретил…
– Да, сторож он отличный…
– Есть нечто странное, – сказал Ахиллес. – Молодой пес, хороший сторож, не издал ни звука, когда эти злодеи вошли во двор и открывали дверь при помощи ножа… Как вы думаете, почему так случилось? Мне кажется, он не просто залаял бы, а непременно набросился…
– Возможно, его чем-то одурманили? – предположила она вяло. – Кто-то мне рассказывал, что грабители бросают через забор куски мяса с каким-то сонным зельем. Возможно, так и случилось вчера ночью. Мне рассказывали, что порой сторожевых собак приучают брать только ту пищу, что приносит хозяин… или кто-то из обитателей дома. И они ни за что не подберут неизвестно откуда взявшийся кусок с земли, каким бы соблазнительным он ни представлялся. Но Трезора никто никогда такому не учил… Как жаль…
– А кто его посадил утром на цепь, Фома?
– Нет, Марфа, перед тем как бежать за городовым. Она говорила, кстати, что Трезор выглядел как-то странно: бродил по двору, пошатываясь, слюна текла из пасти, вообще он был какой-то… не такой. Она подумала сначала, что он сбесился, перепугалась, но потом присмотрелась и поняла, что никак не похоже: он у нее на глазах долакал воду из миски, а ведь бешеные собаки не пьют, наоборот, шарахаются от воды…
– А почему не Фома? Часто бывает, что он вот так утром не сажает собаку на цепь?
– Случается, но очень редко… Понимаете, он пару раз в год запивает… впрочем, не запивает, а просто напивается вечером до бесчувствия и просыпается очень поздно. И уже больше не пьет.
– Ну, собственно, это никак и не запой даже, – сказал Ахиллес. – И ваш супруг это терпел?
– Да… Это ведь случалось редко, ну буквально пару раз в год. И никаких последствий за собой не влекло – Трезора сажала на цепь Марфа, он ее со щенка знает и слушается. Муж сказал: прогнать, конечно, нетрудно, но Фома очень исправно служит, а два раза в год – это, в сущности, пустяки. Новый, чего доброго, запьет и надолго, придется выгонять, искать очередного…
– Резонно, – сказал Ахиллес. – Я бы тоже так рассудил…
– Резонно, – подтвердила она тусклым голосом. – Я с мужем была совершенно согласна. Новые люди – это порой не только новые радости, но и новые невзгоды…
«Неглупа, – подумал Ахиллес, – ох неглупа…»
– Что вы еще хотите узнать, господин… подпоручик?
Никак не походило, чтобы она тяготилась беседой и стремилась уйти. Ахиллес сказал мягко:
– Расскажите, пожалуйста, что происходило той ночью. Итак, вы услышали, как разбилось окно… Это вас разбудило или вы еще не уснули?
– Уснула, но, видимо, неспокойно, не крепко…
Все, что она рассказывала, ни в малой степени не расходилось с рассказом Марфы – и ни в малейшей степени его не дополняло, так что, собственно говоря, было Ахиллесу совершенно не нужно. И все же он слушал, изображая самое живое внимание, слушал бесстрастный, мелодичный голос. Она курила пахитоску за пахитоской, пока они не кончились в портсигаре.
– А потом пришла полиция… Вот и все.
– Благодарю вас, Ульяна Игнатьевна, – сказал Ахиллес с поклоном.
– Вы их поймаете?
– Непременно, – серьезно сказал он. – Ульяна Игнатьевна… Мне еще нужно порядка ради побеседовать с вашим Фомой и осмотреть двор, это займет, я думаю, с четверть часа… Вы бы не согласились посидеть все это время в гостиной вместе с остальными? Разумеется, я не буду настаивать, если вам худо и вы хотите прилечь или просто остаться одна…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.