Текст книги "Адская бездна. Бог располагает"
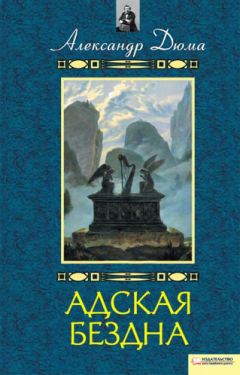
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 67 страниц)
XIV
Драма в опере
Перешагнем в нашем повествовании несколько недель.
За это время сеть интриги, так основательно сплетенная Самуилом Гельбом если и не оказалась, однако же, совсем разорванной, то, по крайней мере, странным образом ослабела.
Один из властителей дум того времени сказал:
«В человеческих деяниях явственно угадывается промысел Божий, и за спинами людей стоит Господь. Отрицайте сколько угодно высший суд, не принимайте его деяний, оспаривайте значение слов, называйте силой вещей или причиной то, что обывательский здравый смысл называет Провидением, – и что в итоге? Посмотрите на свершившееся дело и вы увидите, что результат его всегда противоположен ожиданиям, если только оно изначально не основывалось на справедливости».
Самуил Гельб принадлежал к тем дерзким и мощным умам, которые мнили обойтись без Господа. Тем не менее, вопреки силам его натуры и темперамента, немало неудач уже должны были бы предупредить его, что на путях людских некая высшая и непреодолимая сила располагает там, где человек предполагает.
Так однажды он сказал себе: «Союз Добродетели желает гибели Наполеона. Если моя рука поразит императора, я сделаюсь в Союзе всем, чем пожелаю, одним прыжком взметнусь на вершину лестницы чинов и степеней влиятельности, стану первым среди власть предержащих». Он сказал себе это и принялся за дело. Он предусмотрел все: вычислил время, когда Наполеон, возобновив войну, восстановит против себя Европу и всех ее матерей, когда смерть деспота приведет к гибели саму Империю. Он избрал яд – орудие убийства, которое не остается на месте преступления, орудие невидимое, проникающее в тело с самим дыханием. Передавая с Трихтером злополучное письмо, он думал: «Вот что приведет меня на высшую ступень!»
Но именно это и обрекло его на падение!
Заговорщики не прощают тем, чьи планы проваливаются. Тугендбунд был зол на Самуила за то, что тот подорвал его авторитет. Успех принес бы его деянию славу, неудача сделала его позорным. Самуил был отринут как худший из преступников – тот, чье преступление не состоялось.
Таким образом, то, что должно было его возвысить, привело его к упадку; то, чему полагалось вознести его на вершину иерархии Союза Добродетели, стало причиной его отлучения; то, благодаря чему он должен был стать одним из тайных королей Германии, обрекло его на поспешное бегство и невозможность вновь ступить на германскую землю.
Но, тем не менее, он с глухим упорством человека, восстающего против неумолимых законов, возобновил свою борьбу, эту нечестивую и грандиозную битву Аякса против богов.
Мы видели, какие хитросплетения он готовил во имя своей любви и своего честолюбия. Обернутся ли они против него и на этот раз? Суждено ли его замыслам, так глубоко и коварно продуманным, подкрепленным глубоким знанием человеческой природы вообще и характера Юлиуса в частности, обратиться в новую преграду, новое препятствие на его пути? Это нам еще предстоит узнать.
Мы уже испросили у нашего читателя позволения перескочить в своем рассказе несколько недель.
Итак, в середине апреля 1829 года в Опере давали «Немую», в то время модную новинку.
Весь Париж сбегался на ее представления. Причиной тому была не только живая, чисто французская музыка Обера. В самом сюжете этой оперы угадывалась сокровенная связь с тем, что тогда творилось во Франции, и это безотчетно волновало умы публики. Пламя близящейся революции, еще не различимое на горизонте, словно бы пророчески отражалось в сценах восстания неаполитанского народа. Все свободолюбивые порывы, что вскоре соединятся в грозном взрыве, которому суждено ниспровергнуть вековую монархию, находили свое выражение в мятежных мелодиях Обера. Публика особенно восторгалась захватывающей арией, которую всегда встречала бурными восторгами и криками «бис»:
Любовью к родине священной
Клянусь избавить мой народ
От рабской участи презренной
И ненавистный сбросить гнет!
Разумное правительство должно бы изучать подобные симптомы, говорящие о настроении общества, и действовать, сообразуясь с этим. Но правительства никогда не замечают революций прежде чем на следующий день после их прихода.
Не будучи правительством, Самуил в тот вечер явился в Оперу, желая пощупать пульс общественного мнения. Когда он вошел на балкон, первый акт уже шел к концу. Все места были заняты.
Он получил у билетерши позволение постоять в углу; оттуда нельзя было видеть сцену, но он и пришел не затем, чтобы на нее смотреть.
Первый акт закончился, и балкон опустел. Самуил сделал шаг вперед и посмотрел в зал, словно он искал кого-то.
Олимпия сидела в центральной ложе первого яруса; с ней был Лотарио. Самуил в раздражении передернул плечами и проворчал сквозь зубы:
– Он будет торчать там весь вечер! А между тем мне нужно поговорить с ней с глазу на глаз. Ну, он-то, похоже, отнюдь не против ее общества. Ах ты черт! Уж не вздумал ли он соперничать со своим дядюшкой? Надо за ним приглядывать. Он молод, хорош собой, так пусть берет себе всех женщин за исключением двух – Олимпии и еще одной. Впрочем, сам не пойму, с чего это я стал так легко впадать в беспокойство. Что до Фредерики, то он даже не видел ее целых два месяца, а что касается Олимпии, то он просто-напросто зашел к ней в антракте с визитом вежливости и вот уже покидает ее.
Лотарио действительно поднялся с места и стал прощаться с певицей. Но в ту минуту, когда Самуил, рассчитывая застать Олимпию одну, совсем уже собрался направиться в ее ложу, он заметил, что над ее плечом склонилась голова Гамбы.
– Теперь еще и братец! – прошептал он с досадой.
И он остался на своем балконе.
Начался второй акт. Забившись в свой угол, Самуил искал глазами ложу прусского посла. Однако Юлиуса там не было: Лотарио и другой секретарь занимали ложу вдвоем.
Когда и этот акт закончился, Самуил, устав ждать, решил все же посетить ложу Олимпии.
«Она отошлет своего братца», – подумал он.
Войдя, он отвесил низкий поклон. Олимпия встретила его с холодным высокомерием и ледяной учтивостью.
И все же она поступила именно так, как предвидел Самуил.
– Милый Гамба, – попросила она, – будь добр, сходи посмотреть в афише, кто сегодня танцует в балете.
Гамба, без сомнения, сообразил, в чем истинный смысл этой просьбы, и устремил на Олимпию умоляющий взгляд.
– Ладно, – вздохнул он, – но только с условием, что я вернусь, когда начнется балет. Ты же знаешь, это единственное, что я здесь ценю, и не для того я решился переварить два акта музыки, чтобы, как назло, пропустить пантомиму.
И он вышел из ложи.
– Прошу прощения, сударыня, – начал Самуил, садясь, – что я на минуту лишаю вас общества вашего брата. Я слишком хорошо понимаю, что не могу его заменить. Но вместе с тем разве только родство плоти и крови дает право называться братом? Ведь возможно и братство духовное, родство убеждений, мыслей о жизни, а также и то, что сближает людей, которые действуют вместе, осуществляя единый план. Если судить по тому мнению, что создалось у меня относительно вас, и по тому, что мне известно о себе самом, я более, чем этот малый, что сейчас вышел отсюда, могу считаться вашим братом, как и вы – моей сестрой.
– Вы хотели мне что-то сказать? – резко оборвала его рассуждения певица.
– Я пришел, – сказал Самуил, – чтобы спросить вас, как поживает мой превосходнейший друг граф фон Эбербах? Как чувствует себя его любовь?
– Плохо, – отвечала Олимпия.
– Ну вот еще! Это невозможно!
– Тем не менее это так. В первые дни после того как он явился ко мне с визитом, он был очень влюблен, весьма нежен и почтителен и, должна признать, поистине очарователен. Но главное в другом: вот уже две недели как он переменился, и настолько, что его трудно узнать. Теперь он взбалмошен, капризен, угрюм.
– Это потому, что вы не дали себе труда прибрать его к рукам, – заявил Самуил. – Мужчины до того глупы, что простота и величие души их не столько притягивают, сколько отталкивают. Чтобы их удержать, нужны мелочные уловки и хитрости. Имеется множество способов приручить их, и ни ум, ни красота ничего не стоят, если не уметь пускать эти способы в ход. Вы так прекрасны, так умны, а позволяете себя провести. Это сущее безумие! Вы же само очарование, но вы добры и щедры душой – иначе говоря, нелепы. Вы удовлетворяете его прихоти, вместо того чтобы распалять их своим сопротивлением. Он просил вас одеваться определенным образом наподобие той женщины, сходство с которой, как ему кажется, он в вас нашел. Он умолял вас носить шали того же цвета, причесываться на тот же манер. И вы уступали всем этим фантазиям с мягкостью и терпением, что, позвольте вам сказать, было в высшей степени неуместно. Ведь препятствие – главная приманка мужского желания, это же до наивности простая истина: того, что уже имеешь, желать невозможно.
– Чего вы хотите? – сказала Олимпия. – То, что он любит или, вернее, что он любил во мне, это не я сама, а мое сходство с другой. Его влечет умершая, исчезнувший образ той, что унесла его жизнь вместе с собой в могилу. Могла ли я отказать ему в просьбе оживить это священное воспоминание? Я не ревновала к этой покойнице; он любил ее, а я лишь помогала ему ее любить. Но боюсь, что теперь он забыл и ее, забыл так же, как многих других женщин, и бедняжка как бы вновь умерла во второй и последний раз.
– Однако, – спросил Самуил, – если вы впрямь считаете, что он уже не влюблен в вас так, как в первые дни, почему вы с самого начала не последовали моим советам, почему не использовали его пылкую зарождающуюся страсть, вовремя заговорив о браке и связав его обещанием?
– Я просто счастлива, что не поступила так, – отвечала Олимпия. – Теперь-то я его знаю. И поняла, что это совсем не тот человек, какого вы мне описывали. Вы говорили, что он мягок, печален, удручен воспоминаниями о былых, вечно дорогих утратах, а при всем том полон самоотречения и сердечной нежности, предан тем, кто его любит, признателен тем, кто его понимает. Возможно, когда-то он и был таким. Но если так, жизнь, которую он вел, по-видимому, иссушила цвет его чувств. Теперь же он эгоистичен, это деспот, если не тиран. Ему надо, чтобы каждая моя мысль была о нем. Его желания властны и нетерпеливы, как это бывает у слабых и больных людей. Он не уступает даже малой частицы своей души, зато вашу хочет заполучить всю целиком. К примеру, могу ли я, для которой искусство стало самой сущностью жизни, навсегда отказаться от театра, а может статься, что и от самой музыки, как он того требует? Лорд Драммонд и то менее деспотичен.
– Какая разница? – резко оборвал ее Самуил. – Ему же осталось жить совсем мало.
Содрогнувшись, Олимпия в упор посмотрела на него.
– Не говорите так! – вскричала она. – Я больше не верю в это, не хочу верить и не хочу, чтобы вы верили в это больше, чем я. Вы же сами не думаете того, что говорите, не так ли? Я разгадала вас. Вы просто хотели заманить меня. Не уверяйте меня, будто он скоро умрет, потому что тогда я была бы способна принести себя в жертву и на все согласиться. Но нет, граф фон Эбербах проживет еще долгие годы, я Богом клянусь, что это так! И я совсем не та спутница, что была бы ему нужна на столько лет. Во мне еще – к несчастью, быть может, – слишком много жизни и пыла. Я много об этом думала. Ему не жена требуется и не любовница, а скорее что-то вроде дочери. Все то, что напоминает желание, волю, страсть или мало-мальски смелую мысль, утомляет его не только в себе самом, но и в других. А во мне всегда жило бы горькое сожаление, которое раздражало бы его, – тоска о Моцарте и Россини. Я бы пожертвовала собой, не спасши его, и, вместо того чтобы принести ему утешение, доставляла бы лишнюю боль.
Самуил неотрывно смотрел на Олимпию.
Она продолжала:
– Через несколько лет, когда мой голос ослабеет, когда восторги моих поклонников в Неаполе, Вене и Милане будут куда дальше от меня, чем сегодня, когда надежд у меня будет куда меньше, а воспоминаний больше, тогда, как знать, я, возможно, могла бы стать более пригодной для роли сестры милосердия, оберегающей покой этого исстрадавшегося сердца. Вы же хотите навязать мне эту роль сейчас, когда моя душа еще слишком порывиста, а желания слишком пылки, чтобы не тяготить его.
Прерывая речь Олимпии, Самуил воскликнул:
– Вы думаете только о нем! А как же вы сами? Что вы имеете в виду, говоря, что не готовы пожертвовать собой? Получить десять миллионов – это, по-вашему, жертва?
– Да, – отвечала она, – если их добыть ценой лжи. Обманывать графа фон Эбербаха, заставлять его поверить в чувство, которого я на самом деле не испытываю, – этого я никогда бы не смогла. Я слишком горда или, если угодно, слишком дика, чтобы принудить себя к подобному лицемерию. Комедианткой я могу быть только на сцене.
Сообразив, что он выбрал неправильную тактику, Самуил попытался прибегнуть к другим доводам.
– Да бросьте, – воскликнул он беззаботно, – мы ведь спорим на пустом месте! Начали ведь мы с того, что Юлиус к вам охладел. Но в чем вы видите эту перемену? Что до меня, то я, хоть вижусь с графом фон Эбербахом каждый день, не замечал никакой разницы: его чувства к вам все те же, он отзывается о вас с таким же страстным восторгом, что и в первый день.
– Я вам не верю, – промолвила Олимпия.
– Но в чем состоят эти перемены в его поведении?
– Повторяю вам: его просто не узнать.
– Бог ты мой! Да ведь мужчина не состоит из одного цельного куска, он не может ежеминутно быть одинаковым. По крайней мере, если возлюбленный у вас не из дерева, надо быть готовой к тому, что и у самого пылкого обожателя могут случаться минуты уныния и скверного расположения духа. У мужчин свои дела, которые не отпускают их, свои заботы, следующие за ними по пятам, куда бы они ни шли, и печали, настигающие их даже у ног любовниц. Юлиус в иную минуту может быть поглощен какой-нибудь неприятной заботой, не имеющей к вам ровным счетом никакого касательства. Откуда вам известно, не получил ли он только что от своего правительства какое-нибудь сообщение, которое беспокоит его? К нему могли прибыть из Берлина или Вены.
– Да! – вскричала Олимпия, неожиданно взрываясь. – Именно некое прибытие из Вены и оторвало его от меня!
– Кто же это прибыл? – спросил Самуил.
– Женщина!
– Женщина? – повторил он с удивлением, похоже не вполне искренним.
– Не делайте вид, будто вы этого не знали, – отвечала Олимпия с волнением и невольно прорвавшейся горечью. – Вы что же, воображаете, будто я слепа или глупа настолько, чтобы ничего не видеть? Или вы думаете, что у меня не может быть собственной гордости? Когда меня покидают, я как-никак понимаю, что этому должна быть причина. Мне известно, – да, да, не отрицайте, я уверена, что права! – итак, мне, как и вам, известно, что две недели назад, то есть именно тогда, когда граф фон Эбербах, по-видимому, остыл ко мне, из Вены приехала одна дама, вдова, еще молодая, богатая, знатная, по-прежнему блистательная, знаменитая красавица, весьма влиятельная в Австрии. Я знаю, что у этой женщины был роман с Юлиусом, он ее любил и любит до сих пор. Она не могла долго оставаться вдали от него. И вот она внезапно приезжает в Париж. Я уверена, что вы не осмелитесь отрицать это. Итак, она во всех смыслах имеет власть над ним – любовь, еще не угасшая, удерживает его подле нее, так же как его честолюбие. Будучи племянницей, вы сами знаете чьей, принадлежа к царствующему семейству, она может по своей прихоти возвысить или уничтожить графа. Она поселилась в предместье Сен-Жермен, в двух шагах от посольства Пруссии. Стоило ему увидеть ее вновь, как что-то, будь то любовь или страх, отвратило его от меня. Эта царственная красавица и есть та, которую он любит, и если он женится, то на ней. Что ж, пусть женится!
Последние слова Олимпия произнесла с гневом и мукой, и во взгляде Самуила сверкнула молния насмешливого торжества.
– А! – вскричал он. – Так вы ревнуете! Вы любите его!
Певица резко выпрямилась.
– Что это вам дает? – спросила она. – Я нахожу, что играть моими чувствами с вашей стороны дерзость. И вы ошибаетесь, если рассчитываете, что таким образом вам удастся меня удержать. Предупреждаю вас: ничто не помешает мне покинуть Париж завтра, сегодня вечером, сию же минуту. Вот уже десять дней как меня ждут в Венеции. У меня там ангажемент, который я не могу разорвать. Меня ждет роль в опере Беллини. Там я забуду все, прошлое и будущее, меня убаюкает музыка, моя великая утешительница, моя жизнь и счастье, мой единственный идеал!
Самуил усмехнулся.
В это время музыканты стали занимать свои места в оркестре, зрители начали заполнять зал: антракт должен был вот-вот закончиться.
– Вот и третий акт начинается, – сказал Самуил, – ваш брат открывает дверь в ложу. Вечером я приду к вам, приведу с собой Юлиуса, и вы его простите. После всего, что вы мне сказали, я уверен: так и будет.
Он поклонился певице и вышел, столкнувшись в дверях с Гамбой, входившим туда.
«Она влюблена в Юлиуса! – думал он. – Теперь она у меня в руках».
– Почему у тебя такой торжествующий вид? – вдруг услышал он и, подняв голову, увидел перед собой Юлиуса.
– А, так ты приехал? – спросил Самуил.
– Только что, – отвечал Юлиус.
– Направляешься в ложу Олимпии?
– Нет.
– Так в свою собственную?
– Нет. Давай прогуляемся здесь.
Они двинулись по фойе, где на каждом шагу с ними заговаривали приятели – дипломаты, депутаты, журналисты, все сплошь с именами, известными в политике или в литературе. Мимоходом завязывались беседы – та легкая, живая болтовня, что характерна для Франции, где принято перескакивать от одного предмета разговора к другому с проворством, позволяющим за пять минут поговорить об искусстве и судьбах цивилизации, о человечестве и женщинах, о Боге и дьяволе.
Положение графа фон Эбербаха как лица официального нимало не препятствовало самому что ни на есть вольному обсуждению политических вопросов. Во Франции спорят смеясь, противники жмут друг другу руки и, во всем, что касается высших принципов, оставаясь врагами, приятельски болтают в театральных фойе, называя друг друга на «ты» даже накануне революции, во время которой им предстоит обмениваться выстрелами, оказавшись по разные стороны баррикад.
Немного поговорили и об опере. Критики и музыканты находили, что это худшая партитура Обера. Светская публика и украшавшие фойе бюсты великих людей этого мнения не разделяли.
Зазвонил звонок, и фойе и коридор мгновенно опустели.
– Пойдешь в зал? – спросил Самуил.
– Зачем? – пожал плечами Юлиус. – Лучше здесь посидеть, и музыки отсюда не слышно.
– Хорошо, – промолвил Самуил, – тем более что я не прочь на минуту-другую остаться с тобой наедине. Мне тебя надо побранить по поводу Олимпии.
– Прошу тебя, не надо. Ненавижу препирательства, любой спор меня утомляет.
– Тем хуже для тебя, – возразил Самуил. – Не надо было ввязываться в отношения, которых ты не хотел продлевать и сохранять. Ты и меня в них впутал; я был в авангарде твоего наступления, предшествовал тебе, возвещал твое приближение, а теперь ты меня покидаешь и отступаешь с полдороги. Как ты полагаешь, что теперь синьора Олимпия может подумать обо мне? Что за роль ты меня заставил играть? По крайней мере изволь объяснить мне твои резоны. Что она тебе сделала? Она была тебе так по сердцу, какого же дьявола ты во мгновение ока взял и разочаровался? Она не стала менее красивой, чем была месяц назад. Лицо у нее все то же, тогда почему твои глаза не остались прежними?
– Откуда мне знать? – досадливо отозвался Юлиус. – Я любил ее, но больше не люблю, вот и вся правда. Что до причин, то спроси о них у той таинственной силы, которая велит растениям цвести и увядать. Нет сомнения, что к этой женщине я питал особенное чувство, ведь она мне напомнила Христиану. Ты говоришь, она осталась прежней? Нет, она уж не та. Я любил ее, пока она для меня оставалась тем, чем была в первый миг встречи: таинственным существом, образом из прошлого, воплощенным воспоминанием. Но когда я стал видеться с ней каждый день, она превратилась в женщину. Живую женщину. Особое, отдельное существо, уже не просто отражение, портрет другой. Я продолжал бы боготворить ее, возможно, я бы и женился на ней, если бы она продолжала быть такой, какой я желал ее видеть. Но для этого нужно было, чтобы она всегда походила на умершую, оставалась неподвижной, осязаемой тенью, которую я мог бы созерцать и которая не менялась бы. Увы! Она живет, она говорит, больше того, еще и поет! Ох, Самуил, дорогой мой, можешь говорить, что я мечтатель, что я болен, безумен, но это изумительное пение, божественное пение, которое вас всех так пронимает, меня выводит из себя, как самая отвратительная фальшь: для меня этот голос, такой чистый, звучит нестерпимым, терзающим слух грубым диссонансом! Олимпия ничем, кроме черт лица, не похожа на смиренную, кроткую Христиану. Это гордая, своевольная актриса с сильным характером. Однажды, поддавшись очарованию иллюзии, почти веря, что вижу перед собой Христиану, я сказал, что хотел бы сделать ее своей женой. И представь себе, она в ответ спросила, буду ли я настаивать, чтобы она отказалась от театра! Каково? А поскольку я, опечаленный подобным вопросом, даже не стал отвечать, она, вообрази, сказала мне, что, по крайней мере в ближайшие несколько лет, подобная жертва выше ее сил. И тут вдруг я в образе дочери пастора увидел дочь цыгана.
– Таким образом, – подытожил Самуил, – твой главный упрек ей состоит в том, что она живая?
– Да, – отвечал Юлиус. – Я люблю только ту, мертвую.
– Ты зол на нее, что она живая? – настойчиво повторил Самуил. – Обижен на статую за то, что в ней есть душа? А что если эта душа, за которую ты готов ее упрекать, полна тобой? Что, если одним тобой она и жива?
– Что ты хочешь сказать? – спросил Юлиус.
– Я хочу сказать, что она любит тебя!
– Любит? Меня?
– Да, и ревнует к принцессе! – продолжал Самуил, нанося решающий удар и зорко следя за впечатлением, произведенным на Юлиуса подобным откровением. – Ну что? Тебя это вовсе не трогает?
– Меня это ужасает, – заявил Юлиус.
– Как так? – воскликнул обескураженный Самуил.
– Мне не хватало только быть любимым женщиной вроде Олимпии. Мой бедный друг, да посмотри же на меня хорошенько. Я слишком устал, слишком печален и разочарован, чтобы не бояться страстей. Все, что мне теперь нужно, это покой и забвение. Боже мой, ну чего ты от меня хочешь! Чтобы я женился на ревнивой, порывистой, волевой женщине?
Самуил проницательно заглянул ему в глаза.
– Так ты любишь принцессу? – спросил он с тревогой. – Ты, чего доброго, задумал ее взять в жены?
– Я никогда более не женюсь, никто, кроме Христианы, не мог бы носить мое имя. Лишь та могла бы его получить, которая являла бы собой ее совершенный образ. У Олимпии ее лицо, но совсем другая душа. Стало быть, это имя не для нее. Что до принцессы, то ее внезапный приезд меня удивил и раздосадовал. Мне ничего от нее не нужно, я ее не люблю и не боюсь. Она может сделать так, что меня отзовут отсюда. Но моя карьера меня не слишком заботит. Я достаточно богат, чтобы ни в ком не нуждаться, а в ремесле посла нет ничего особенно занимательного. Надо, подобно тебе, никогда не быть им прежде, чтобы хотеть им стать. Поэтому ничто не вынуждает меня обхаживать принцессу, кроме разве отвращения к откровенному разрыву, влекущему за собой вражду и душераздирающие драмы. Я сохраняю эту связь не из любви, а из равнодушия.
Такая апатия привела Самуила в ужас.
– Ну нет, – сказал он, – долг велит мне тебя встряхнуть. Ты засыпаешь в снегу. Это верная смерть.
– Тем лучше, – обронил Юлиус.
– Но я, – возразил Самуил, – я-то не могу потворствовать самоубийству. Ну же, проснись. Навести Олимпию. Право, она никогда не была так хороша…
– Мне-то что за дело?
– Никогда еще она так не напоминала Христиану.
– Тогда тем более мне не следует видеться с ней. Я снова подпаду под обаяние этого наружного сходства, а назавтра действительность вступит в свои права и заставит меня расплачиваться за минутный самообман.
– В таком случае зачем ты пришел сюда сегодня?
– Чтобы встретиться с тобой, – отвечал Юлиус. – Ты не забыл, что на этот вечер назначено третье заседание вашей венты, на которую ты меня водил уже два раза?
– Еще слишком рано, – напомнил Самуил. – Заседание начнется не раньше полуночи. Мы отправимся туда после спектакля.
– Давай уедем сейчас же, – настаивал Юлиус. – Проведем время там, где тебе угодно, но здесь я не хочу задерживаться, на то есть причина.
– Какая?
– Принцесса сегодня вечером намеревается, покинув раут у баденского посланника, прибыть сюда к последнему акту «Немой». Она позаботилась о том, чтобы мне сообщили, что она будет в посольской ложе. Таким образом, если я вовремя отсюда не уйду, мне придется составить ей компанию. Поспешим же.
– Значит, политика тебе милее принцессы? – заметил Самуил, стараясь нащупать в нем хоть какое-то живое пристрастие.
– Да, – кивнул Юлиус. – Но только потому, что при той политике, какой мы с тобою занимаемся, мы рискуем головой.
«Мертвец! – с глухой яростью подумал Самуил. – Тогда чего ради мне таскать этот труп за собой, если он еще и не желает идти туда, куда я хочу?»
Он сделал последнее усилие, попытавшись убедить Юлиуса войти в зрительный зал хоть на минуту, чтобы перед уходом ради простой учтивости сказать пару слов Олимпии. Но и это оказалось невозможным.
– Не тревожь ты меня, – взмолился Юлиус. – Весь этот шум и яркий свет меня ужасно утомляют. Никогда не понимал, какое удовольствие можно находить в том, что ослепляет и оглушает. Я не испытываю ни малейшего стремления стать глухим и слепым.
Еще на что-то надеясь, Самуил сказал:
– Лотарио хотел тебе что-то сообщить.
– Сообщит завтра утром, – отмахнулся Юлиус.
– Он будет беспокоиться, не зная, куда ты пропал.
– Я передам ему через ливрейного лакея, что был вынужден удалиться и прошу его сопровождать принцессу вместо меня. Ну же, идем.
– Хорошо, пойдем, – согласился Самуил.
Они спустились по лестнице, миновали вестибюль и только хотели открыть наружную дверь, как она сама отворилась.
Вошла дама, высокая, с жестким взглядом голубых глаз, с роскошными белокурыми волосами, прекрасная, сияющая, надменная.
Она опиралась на руку старика, чьи черты выдавали безнадежную посредственность; то был баденский посланник.
– Видишь! А все твои проволочки! – раздраженно прошипел Юлиус на ухо Самуилу.
Принцесса направилась прямо к Юлиусу:
– Что такое, господин граф? Вы уходите?
Он залепетал:
– Уже так поздно… Я думал, что вас задержали и вы не придете.
– А между тем я здесь. Вашу руку.
И, бесцеремонно оставив баденского посланника вместе с его рукой, она оперлась на руку Юлиуса. Потом, оглянувшись на старца, имевшего довольно жалкий вид, она промолвила:
– Вы позволите, не правда ли?
Юлиус бросил на Самуила взгляд жертвы, неохотно покорившейся своей участи.
– Так что, поднимемся наверх? – сказала принцесса.
– Сию минуту, сударыня, – отвечал Юлиус и, повернувшись к Самуилу, шепнул:
– Раз так, встретимся в полночь. Я присоединюсь к тебе.
И он об руку с принцессой стал подниматься по лестнице. Баденский посланник шел рядом с ними.
Поколебавшись с минуту, Самуил тоже решил вернуться.
На свой балкон он вышел в то же мгновение, когда принцесса с Юлиусом показались в посольской ложе.
Принцесса по обычаю красивых женщин, являющихся на представление во время действия, не преминула мимоходом опрокинуть несколько кресел. Тотчас вся публика повернулась в ее сторону, все лорнеты нацелились на эту даму, величавую, как Диана, с волосами, сверкающими, словно само солнце.
Олимпия, подобно остальным, тоже оглянулась.
Увидев Юлиуса рядом с этой женщиной, она побледнела и быстро поднесла свой букет к лицу, спеша скрыть охватившее ее смятение.
– Что с вами? – спросил лорд Драммонд, который только что вошел в ее ложу.
– Ничего, – отвечала она.
Заканчивался третий акт.
Не успел еще занавес опуститься, как она повернулась к лорду Драммонду:
– Вы соблаговолите предложить мне руку, чтобы проводить до кареты?
– Как? Вы хотите уехать, не дослушав до конца? – удивился англичанин.
– Да, мне это надоело. И потом, я себя чувствую немного усталой.
– Едемте, – сказал лорд Драммонд.
От Самуила не ускользнуло волнение Олимпии. Он бросился было к ней.
Но она уже была на лестнице, шла под руку с лордом Драммондом – торопливо, чуть ли не спасаясь бегством.
Увидев рядом с ней англичанина, Самуил не осмелился задержать ее, заговорить с ней. Однако следом за ними шел Гамба, к нему-то он и обратился:
– Синьоре нездоровится?
– О нет, синьор, – весело отозвался Гамба, – совсем наоборот! Она никогда не чувствовала себя лучше, потому что, когда лорд Драммонд на минуточку вышел, чтобы принести ее манто, она мне сказала: «Гамба, уложи за ночь наши вещи – завтра на рассвете мы едем в Венецию».
И Гамба степенно удалился, Самуил же остался стоять как громом пораженный.
«Ах ты, черт возьми! – говорил он себе. – За каким дьяволом мне теперь тащиться с ним на эту венту?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































