Текст книги "Адская бездна. Бог располагает"
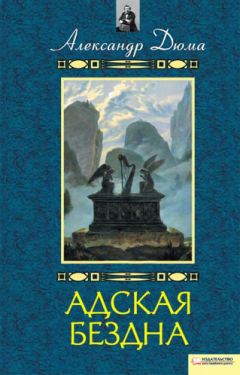
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 58 (всего у книги 67 страниц)
L
Сатисфакция
Граф фон Эбербах взял руки Олимпии в свои.
– Благодарю! – воскликнул он. – Да, я вам верю. У меня потребность верить вам. Я обманулся в стольких нежных чувствах и привязанностях, что, клянусь, безмерно тронут, встретив такую искренность и постоянство.
Олимпия, я от всего сердца благодарю вас за это чувство, уже столь давнее, доказательства которого я получил от вас лишь сегодня.
Значит, рядом со мной было преданное сердце, а я прошел мимо, даже не заметив этого. Я вас не знал, да и, верно, не мог бы узнать.
Не упрекайте себя, что не пришли ко мне восемнадцать лет назад. Я не смог бы вас полюбить, как не полюбил ни одну из тех женщин, что одна за другой внушали вам беспричинную ревность.
Теперь настал черед Олимпии с удивлением посмотреть на него.
– Ах, – продолжал он, – если бы вы знали, что было у меня на сердце в то время, когда я пускался в эти скандальные похождения, что забавляли или возмущали всю Вену, вы бы не стали завидовать ни Розамунде, ни госпоже фон Розенталь, ни даже Берте Маленькая ножка. Я поднимал шум вокруг себя, чтобы заглушить голос, безутешно рыдавший в глубине моего сердца.
Я не способен на чувство, которое было бы достойно вас. Мое сердце умерло вместе с той единственной женщиной, которую я любил, – Христианой.
Олимпия вздрогнула, не сумев скрыть вспышку радости.
– Это правда? – прошептала она.
– Никогда, – продолжал он, – Христиана для меня не умирала. Милый, бедный мой ангел! Вы, наверное, знаете, какой ужасный конец постиг ее.
Подобные впечатления, они, видите ли, не могут изгладиться в человеческой памяти.
Живешь, потому что животный инстинкт поддерживает тебя и ведет; пытаешься забыть, зажмуриваешь глаза, затыкаешь уши, но все видишь разверстую бездну, все тебе слышится страшный одинокий вопль, что доносится с ее дна. И тогда твое сердце становится гробницей этой несчастной женщины, не имеющей иной могилы. Носишь ее с собой повсюду. Притворяешься, будто пьянеешь от вина, поешь песни, смеешься, влюбляешься. И чем нестерпимее страдаешь, тем глубже погружаешься в пучину развлечений и беспорядочных вздорных выходок.
Когда вы, сударыня, присылали мне записки, советуя не забывать Христиану, вы думали тем самым отвратить меня от оргий и скандалов, но вместо этого ввергали в их пучину еще глубже.
Сударыня, именно потому, что я слишком хорошо помнил Христиану, я жег свою жизнь с двух концов, ибо с потерей этой женщины жизнь стала для меня невыносимой.
Она кинулась в пропасть, я очертя голову бросился в бездну греха – каждому своя погибель. Я обрету свою.
– Так вот как это было? – вскричала Олимпия. – Ах, если бы я знала!
– Что вы могли бы сделать? – вздохнул граф фон Эбербах.
– Я бы такое сделала, Юлиус, что, вероятно, изменило бы жизнь нас обоих.
– И что же именно? – недоверчиво спросил граф.
– Что прошло, то прошло, – сказала она. – Но я думала, что должна просить у вас прощения лишь за один свой поступок, Юлиус, а теперь вижу, что за два.
В это мгновение солнце, опустившееся уже до самого горизонта, вдруг скрылось за ним, оставив по себе в непрерывно густеющих сумерках лишь два или три облачка, озаренных розовым сиянием.
Юлиус заметил, что стемнело, и встал.
– Я не прощаю вас, Олимпия, – сказал он, – я вас благодарю. Но вы правы, что прошло, то прошло, и ваша любовь для меня теперь не более, чем этот прощальный отблеск солнца, покидающего наше полушарие. Теперь в небесах все поглотит мрак ночи, а в моем сердце – мрак ненависти.
– Есть один человек, – произнесла Олимпия строго, – которого вы действительно имеете право ненавидеть.
– Да, Лотарио.
– Нет, Самуил Гельб.
– У вас есть доказательства? – спросил он отрывисто.
– О! Это такие доказательства, – сказала Олимпия, чьи глаза вдруг наполнились слезами, – такие, что даже затем, чтобы спасти вашу жизнь и душу, я несколько мгновений колебалась, представить ли их вам.
– Говорите.
– Но вы же сказали, что верите мне. Знаете, ведь если то, что я вам расскажу, не убедит вас, мне останется только умереть от стыда и горя. Повторите еще раз: вы верите в мою искренность, не правда ли?
– Верю так же, как в предательство Лотарио.
– То, что я должна вам рассказать, – выговорила Олимпия, делая над собой страшное усилие, – восходит ко временам еще более давним, чем ваше пребывание в Вене, к той поре, когда я знала и любила вас.
Вы тогда только что женились и поселились в Эбербахском замке.
– Но там со мной не было никого, кроме Христианы, как же вы могли в то время знать меня и любить?
– Не прерывайте меня, прошу вас, – сказала Олимпия. – Всего моего хладнокровия и всех сил едва хватает на то, чтобы сказать вам то, что я должна сказать. Вы верите в дружбу Самуила Гельба, а я покажу, какова его дружба к вам. Вы сомневаетесь в том, что он погубил Фредерику, так я вам докажу, что он погубил Христиану.
– Погубил Христиану?! – вскрикнул граф фон Эбербах.
– Да, – сказала она. – Христиана бросилась в пропасть, но был некто, толкнувший ее туда. Это самоубийство было по сути убийством, убийцей же был Самуил Гельб.
– Кто вам сказал? – произнес Юлиус, вдруг смертельно побледнев.
– Слушайте, – сказала она, – и в конце концов вы все поймете.
И она стала рассказывать или напоминать ему все то, что происходило между Христианой и Самуилом начиная с пасторского дома в Ландеке и кончая Эбербахским замком. Здесь было все: первый невольный порыв неприязни, которую внушила простодушной пасторской дочке жестокая насмешливость Самуила; неосторожность Юлиуса, не скрывшего от старинного товарища неблагосклонности к нему Христианы, злоба, вызванная этим у такой тщеславной и властной натуры, как Самуил, его угрозы Христиане, эти бесстыдные заявления, о которых она не осмелилась рассказать мужу из боязни тем самым вызвать ссору между ним и Самуилом, чье неотразимое владение шпагой ей было известно, наконец, внезапная болезнь маленького Вильгельма, приключившаяся в самый день отъезда Юлиуса в Америку к умирающему дяде, вмешательство Самуила и условия чудовищного торга – цена, за которую он продал матери жизнь ее ребенка.
Юлиус слушал, задыхаясь, стиснув зубы, с горящей головой; молнии сверкали в его глазах.
– О! – с болью вскричала Олимпия, пряча лицо в ладонях. – Какая это была отвратительная, страшная минута, когда несчастной матери пришлось выбирать между мужем и ребенком! Что могла сделать бедняжка, попавшая в сети этого демона? Бедный малыш Вильгельм задыхался в своей колыбели, он молил о спасении. Врач прибыл бы не раньше чем через два часа: он тридцать раз успел бы умереть.
И вот, встав между ложем матери и колыбелью, мужчина сказал: «Я подарю вам всю жизнь вашего сына взамен десяти минут вашей». Ах! Такие испытания превыше сил человеческих, людскому сердцу этого не вынести! О, мужьям никогда нельзя покидать своих жен, если у них есть дети!
Она умолкла, будто не могла продолжать. И граф фон Эбербах не посмел просить ее об этом.
Но она заговорила вновь.
– Такой жестокий торг был предложен, и… – прибавила она быстро, резко, будто спешила покончить с этим, – и он свершился.
– Свершился! – вскричал Юлиус, словно обезумев от бешенства.
– Ребенок выжил, – сказала Олимпия. – Но не надо так дрожать, это еще не конец. Мы пока ближе к началу, чем к развязке. Слушайте же.
Господь не дал своего благословения гнусному договору, превратившему материнскую любовь в орудие злодейства. Он не хотел обречь это хрупкое невинное дитя на долгую будущую жизнь, запятнанную таким стыдом и бесчестьем.
Он не пожелал, чтобы Вильгельму этот позор пошел впрок. Мальчик умер. Христиана пожертвовала мужем и при том даже не смогла уберечь сына! Женщина погибла, но и мать ничего не выиграла!
Ужасающее положение, не правда ли? Но и это не все. Христиане, только что положившей в гроб своего ребенка, пришлось испытать нечто еще более страшное: она почувствовала у себя под сердцем другого.
– Боже! – простонал Юлиус.
– Поймите, какая бездна кошмаров таилась в этих словах: другой ребенок! От кого это дитя? Ужасный торг произошел в ночь того самого числа, когда вы покинули Христиану. Так чьим же был ребенок, трепет которого она ощущала в себе? Кто был его отцом – Самуил или вы?
Юлиус не произнес ни звука, но выражение его лица было красноречивее любых слов.
– Не правда ли, положение воистину душераздирающее? Христиана не могла покончить с собой, ведь она убила бы не только себя. И вот она ждала, одинокая, мрачная, задыхаясь от горечи, кляня небо и землю, то думая, что ребенок, которого она ждет, ваш, и тогда ей хотелось любить его, то представляя, что отцом стал другой, и тогда ей хотелось умереть, чтобы и дитя умерло в ней.
Столько ударов, следующих один за другим, – это было выше ее сил.
Такая юная, по природе совсем не созданная для бешеных страстей, она по ночам просыпалась, вздрагивая, и волосы у нее вставали дыбом при мысли о вашем возвращении. Рассказать вам все было так же чудовищно, как все от вас скрыть, жить между вами двумя с этим черным секретом в душе, касаться ваших уст устами, оскверненными прикосновением другого, быть вам женой, побывав в чужих объятиях, – все это ураганом проносилось в ее бедном мозгу, и ей казалось, будто ее рассудок уносится прочь, как сухой листок, гонимый зимним ветром.
Она сходила с ума.
В день смерти Вильгельма, – а это случилось вечером, в тот самый час, когда она согласилась на отвратительную и бесполезную сделку, – Христиана рухнула на колени, сама почти мертвая, оледеневшая. Ударившись об пол, она почувствовала, как в ответ на встряску что-то в ней странно дрогнуло. В этот миг она поняла, что вот-вот станет матерью.
Тут же прибежал ваш отец и, спеша ее утешить, протянул ей письмо, где вы сообщали о своем прибытии из Америки и обещали возвратиться домой завтра же.
Это было уж чересчур, и все разом: кончина Вильгельма, ваше возвращение и вдобавок роды, как раз заявившие о себе: ни одно существо из плоти и крови не вынесло бы этого. Она поняла, что готова окончательно помешаться.
Вашему отцу она ничего не сказала, впрочем, он вполне объяснил себе ее состояние смертью Вильгельма.
Однако, едва барон фон Гермелинфельд лег спать, она выскользнула из замка и, полуодетая, побежала к Гретхен в ее хижину.
Гретхен и сама в те дни сделалась не менее безумной, чем она. То, что поверяли друг другу две эти бедняжки, могло бы растрогать даже чудовище.
Гретхен поклялась навек сохранить в тайне все, что сейчас произойдет.
Христиана разрешилась от бремени и потеряла сознание.
Когда она пришла в себя, рядом не было ни Гретхен, ни ребенка. Ребенок был мертв, и Гретхен ушла, чтобы похоронить его.
Христиана не хотела ждать возвращения Гретхен.
Ею владела одна единственная мысль: никогда больше не встречаться со своим мужем.
Она встала, написала прощальную записку, со всех ног бросилась к Адской Бездне и, умоляя Господа о прощении, кинулась туда вниз головой.
– Но откуда вам известно все это? – спросил Юлиус.
– Если все это правда, – сказала она, не отвечая на его вопрос, – то разве Самуил Гельб не чудовище?
– О! Не хватает слов, чтобы сказать, кто он такой.
– И теперь, когда вас так поразило его вероломство, подумайте, кто из двоих предатель: верный, честный Лотарио или этот негодяй, обесчестивший и убивший Христиану?
– Хоть одно доказательство! – в ярости завопил Юлиус. – Дайте мне хотя бы одного свидетеля, и я убью не Лотарио, а Самуила!
– Свидетеля? – повторила Олимпия. – Какой свидетель вам нужен?
– Есть только одна особа, чье слово было бы верным доказательством, потому что, обвиняя, она обвинила бы и себя. Но эта особа… до сей поры я считал, что она умерла.
– Возможно, – обронила Олимпия.
– Возможно? – повторил Юлиус, и его голос сорвался, невыразимое волнение перехватило горло.
– Посмотрите на меня, – сказала Олимпия.
И она встала.
Теперь они стояли друг против друга. Последний гаснущий свет вечерних сумерек падал на лицо Олимпии, уже полускрытое мраком, который стер детали, оставив лишь общие очертания. Потемки затушевали, уничтожили все изменения, которые время оставило на этом благородном, прекрасном лице.
Олимпия смотрела на Юлиуса уже не властным взглядом гордячки-актрисы, а с невыразимой нежностью любящей женщины.
Ее взор, лицо, движения – все это вдруг как молнией пронзило сердце Юлиуса, и он вскричал:
– Христиана!
Через два часа после сцены, которую мы только что описали, Юлиус, Лотарио и прусский посол были втроем в том самом кабинете, где утром граф фон Эбербах бросил перчатку в физиономию своему племяннику.
Юлиус обратился к прусскому послу.
– Господин посол, – произнес он, – благодарю вас за то, что вы соблаговолили провести в этой комнате несколько минут вместе с нами. Но будьте покойны, мы не задержим вас более чем на мгновение.
Сегодня утром здесь в вашем присутствии было нанесено оскорбление, и также здесь и при вас сегодня вечером оно должно быть заглажено. Я признаю и во всеуслышание объявляю, что находился в заблуждении, что стал жертвой грубой ошибки, игрушкой в руках бесчестного предателя.
Затем, повернувшись к своему племяннику, он сказал:
– Лотарио, я прошу у вас прощения.
И он преклонил колено.
Лотарио бросился вперед и удержал его.
– Мой дорогой, мой добрый отец! – воскликнул он со слезами на глазах. – Обнимите меня, и никаких слов не надо.
И они упали в объятия друг друга.
– Право же, – сказал посол, – я просто в восторге, что все разрешилось подобным образом. Я всем сердцем уважаю Лотарио, искренно привязан к нему и потому надеялся, что за всем этим скрывается какое-то ужасное недоразумение, которое в конце концов разъяснится. Я счастлив убедиться, что не ошибся.
Граф фон Эбербах пожал ему руку.
– Что ж! – произнес он. – Если вы хоть немножко любите Лотарио, я хочу просить вас кое-что сделать для него и для меня.
– Говорите, – сказал посол. – Я весь к вашим услугам.
– Дело вот в чем, – начал Юлиус. – По причинам более чем серьезным Лотарио необходимо на какое-то время исчезнуть. Он должен был сегодня вечером или завтра возвратиться в Гавр, чтобы присутствовать при отплытии немецких эмигрантов и дать последние инструкции чиновнику, уполномоченному помочь им обосноваться на новом месте. Так вот, Лотарио просит позволения самому заменить этого чиновника и сопровождать эмигрантов.
– Если он всерьез хочет этого и если это так необходимо… – проговорил посол.
– Да, – отвечал граф фон Эбербах. – Таким образом он исчезнет на то время, которое мне требуется; входя в посольство, он постарался остаться незамеченным, и выйдет отсюда с теми же предосторожностями. Надо, чтобы ни одна живая душа не видела его с сегодняшнего утра. Через три месяца он вернется, сослужив службу своей стране, а мне позволив завершить то, что я должен сделать.
– В таком случае договорились.
– Он отправится под вымышленным именем, хорошо? Нужно, чтобы никто в Гавре не смог опознать его.
– Я выдам ему паспорт на любое имя, какое он пожелает.
– Благодарю вас, граф, – сказал Юлиус. – А теперь, Лотарио, отправляйся без промедления. Одна лишняя секунда может все испортить. Попрощайся с его превосходительством и обними меня.
Уже сжимая Лотарио в объятиях, Юлиус шепнул ему:
– Поцелуй меня еще раз за твою жену, за Фредерику.
LI
Юлиус готовит отмщение
Христиана была счастлива, но вместе с тем ее томили две новые заботы, занявшие место прежних печалей. Юлиус, несомненно, очень добр и великодушен в первом порыве радости от встречи с ней, но кто знает, как он в глубине души оценивает ее прошлое? Он с готовностью принял все объяснения Лотарио и дал ему самую блистательную сатисфакцию, но каковы теперь его планы на будущее?
Мысли об этом были для нее как две черные тучи на ясном небе радости.
На следующий день после отъезда Лотарио Юлиус, отделавшись от Самуила под тем предлогом, что он нуждается в отдыхе, велел подать экипаж и помчался к той, кто для целого света еще оставалась Олимпией, но для него носила теперь только имя Христианы.
Она ждала его и встретила кроткой, печальной улыбкой. Юлиус тотчас заметил ее озабоченность: еще одно доказательство любви.
– У вас грустный вид, моя Христиана, – сказал он.
Она покачала головой.
– Я не хочу, чтобы ты грустила, – продолжал он. – Ну скажи, отчего ты печальна?
– На то есть несколько причин, увы!
– Каких причин?
– Угадайте их, Юлиус, потому что я не осмелюсь сама их вам назвать. Но понять их даже слишком легко.
– А, так вас все еще тревожит прошлое?
– Да, прежде всего прошлое.
Юлиус взял руки жены в свои.
– Христиана, – сказал он, – в целом свете есть лишь один человек, который вправе судить вас, – это я. Так вот, я, ваш муж, оправдываю вас, я вас люблю и говорю вам, что вы самое чистое, самое благородное создание из всех, кого я когда-либо встречал, а ваш грех из числа тех, за которые святые не пожалели бы отдать всю свою добродетель.
– Вы очень добры, – сказала Христиана, растроганная и благодарная. – Но это не единственная вина, которую вам надобно мне простить.
– Это вы говорите о тайне, которую хранили семнадцать лет, об одиночестве, на которое вы меня обрекли? Но послушайте, Христиана, и здесь что ни случилось, все к лучшему. Да, эта ошибка отдалила вас от меня, но ложные страсти, внушавшие вам столь неосновательную ревность, были лишь выражением отчаяния, рожденного любовью к вам; но и само это заблуждение, сколь бы жестоким по отношению к нам обоим оно ни казалось, может статься, было милостью Господней.
– О, докажите мне это! – перебила Христиана. – Ведь меня мучает самое настоящее раскаяние, как подумаю, что вы тосковали обо мне, а я не пришла, покинула вас во власти пустых утех, блистательной скуки, всех этих обжигающих наслаждений, что оставляют по себе столько пепла в сердце человеческом. Ах, как же я не услышала зова вашей души, почему не прибежала?
– Если бы вы прибежали, Христиана, если бы вы тогда сказали мне все то, что я узнал теперь, только подумайте, к чему бы это привело.
Я дрался бы с Самуилом. Лучшей возможностью для меня было бы, если бы он убил меня. В этом случае я хоть обрел бы покой, но вы, что за жизнь была бы у вас после того, когда к прочим горестям прибавилась бы моя смерть? Вы бы обвиняли себя, упрекали в том, что все мне открыли, стали бы видеть в самой себе причину моей пролитой крови. Но предположим, мне, вместо того чтобы умереть, удалось бы убить Самуила. Какое существование было бы нам уготовано тогда, если мы оба постоянно чувствовали бы, что та роковая ночь встала между нами?
Сегодня я оправдываю вас, я вас благословляю, ибо близость смерти пригасила во мне страсти, душа моя стала спокойной и справедливой. Я сужу обо всем хладнокровно, и мне не приходит в голову попрекать вас несчастьями, которые вы претерпели, как я не попрекну несчастную жертву пистолетным выстрелом, которым злодей в упор сразил ее.
Но посудите сами, восемнадцать лет назад, при всей пылкости юных лет и всей ревности влюбленного, мог ли я рассуждать столь здраво, стал ли бы разбираться, была в том ваша вина или нет? От гнева кровь бросилась бы мне в голову, и я бы злился на вас за беду, несомненно принесшую вам больше страданий, чем мне.
Я сам бы измучился и вас сделал бы несчастной. Даже если бы я нашел в себе силы скрыть от вас обуревающие меня чувства, какое смущение вы бы испытывали передо мной! Как трудно вам было бы выдерживать мой взгляд, неотрывно устремленный на позорное пятно, осквернившее нашу честь, пусть вопреки вашей воле, но какая разница? Что у нас была бы за любовь – у меня, скрывающего горькое, злое чувство, и у вас, невинной и запятнанной?
Ах, Христиана, утешьтесь, лучше порадуйтесь тому, что избавили нас обоих от такого ада. Зато сейчас время, страдания и разврат истощили во мне все запасы ревности и тщеславия.
И вы тоже – ваши муки, любовь и преображение, дарованное искусством, искупили все и освятили вашу душу.
Итак, лишь теперь мы можем быть рядом без того, чтобы вы краснели, а я впадал в грех несправедливости. Как видите, вам не надо себя упрекать за то, что вы продлили нашу разлуку: я далек от того, чтобы негодовать на это, напротив – я вас благодарю.
– О, это я должна благодарить вас! – вскричала Христиана, сжимая руки Юлиуса. – Я глубоко тронута вашими добрыми словами.
Вы могли бы сделать для меня прошлое источником безутешных угрызений, вы же, напротив, вменяете мне его чуть ли не в заслугу. Спасибо, спасибо!
И тем не менее на следующий день Юлиус снова застал Христиану удрученной. Былое очистилось, но теперь грядущее давило на нее всей тяжестью сомнений, мраком неизвестности.
Юлиус снова принялся с нежной настойчивостью расспрашивать ее.
– Увы, мой Юлиус, – сказала она, – я не могу прогнать тревожных мыслей. Вы были добры и полны любви, как сам Господь Бог. Но, к несчастью, отпущение грехов не может отменить прошлого. Оно все еще нас держит, оно не отпустит. Если бы я все вам рассказала восемнадцать лет назад, вы бы дрались с Самуилом Гельбом и мы были бы несчастны. Но если бы я все рассказала год назад, вы бы не женились на Фредерике и мы могли бы быть счастливы.
Юлиус ничего не ответил, только опустил голову.
– Да, – продолжала она, – вот к чему привело мое молчание. Эти бедные дети, любящие друг друга, разлучены…
– Не надолго, – промолвил граф фон Эбербах.
Но Христиана его не слушала.
– А вы, – продолжала она, – вы муж сразу двух жен.
– Перед Господом у меня есть лишь одна и никогда не было другой.
– Да, но перед законом? И нам, чтобы видеться, придется скрываться. Если станет известно, что вы бываете здесь, свет назовет меня вашей любовницей, и Фредерика подумает, что я занимаю ее место, в то время как это она занимает мое! Вот в какое положение мы попали. И выхода из него нет.
– Вы ошибаетесь, Христиана: выход есть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































