Текст книги "Трикотаж. Обратный адрес"
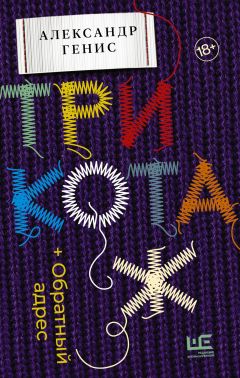
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
1
Твердо зная, чего хочу, я стыдился себе в этом признаться, пока не встретил Петю Вайля. Это произошло у нас за столом, на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Отец любил праздники больше жизни. Собственно жизнь его интересовала лишь в ожидании праздника, которое он ценил еще больше, умело растягивая по пути к рынку.
Туда мы ходили каждое воскресенье – до завтрака и ввиду него. Праздничной была уже дорога к базару, ибо натощак все казалось интереснее. За молодцеватым и нелепым в нашем старинном городе стеклобетонным вокзалом открывались ангары для дирижаблей, составлявших военно-воздушные силы независимой Латвии, так и не спасшие ее от соседа. После войны в них торговали снедью. Под ажурной крышей непомерной высоты летали голуби, ласточки, стрижи, воробьи и чайки.
– Ты еще скажи аисты, – ворчит жена, и чаек я вычеркиваю.
На открытом воздухе продавали сезонный товар. Осенью, которая в наших краях начиналась когда хотела, – лисичками (почему-то литрами), зимой – квашеной капустой с ледком, нежно хрустевшим на зубах. Весной лучше всех был румяный, как ангел, помидор ценой в чекушку. Но сколько бы он ни стоил, без него завтрак был неполным, ибо только томат умело оттенял малосольную латвийскую селедку и молодую картошку с того же базара. Всю эту роскошь венчал “Кристалл” из открывавшегося в одиннадцать магазина, который без дураков назывался “водочным”.
Чем старше я становился, тем больше уходило водки и тем многолюднее оказывались завтраки. За ними легко смешивались, иногда выпадая в коридор, русские, латыши и евреи двух поколений. Но и в нашем вавилоне явление Пети произвело неизгладимое впечатление. Он выделялся всем и сразу: полный и румяный, Вайль тоже походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным – ни сверстникам, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петя знал все и учился на одни пятерки, вернее – их получал, потому что вообще никогда не учился, зато все читал. Причем собраниями сочинений. Когда мы познакомились, он добивал 30-томник Диккенса. Стихи из него выползали, как ленты из уст фокусника: беспрестанно и пестрые. Женскому полу – слезливое: “Девушка пела в церковном хоре”, нам – экзотическое: про жирафа на озере Чад, остальным – Сашу Чёрного.
Видимо, Петя готовил репертуар зимой, потому что летом жизнь его протекала на виду. С первыми грачами он покидал родительский кров, куда возвращался, лишь отгуляв октябрьские праздники. Петя повсюду носил с собой портфель со сменой белья и зубной щеткой. В кармане хранились маникюрные ножницы, курить он уже бросил и больше ни в чем не нуждался, ночуя там, где его оставило разгульное вдохновение. Чаще всего – у нас на кушетке. Всегда желанный гость, Петя был живым праздником и нравился абсолютно всем, умея соглашаться так, будто спорит. Слушать его было все равно что читать “Три мушкетера”: смешно и ничего всерьез.
Со мной он разговаривал на равных, хотя я был еще маленьким, но достаточно большим, чтобы принимать участие в общем никогда не прерывающемся веселье. На свою беду я задирался от трагической неуверенности в себе – как все, а не только начинающие разночинцы. Со временем я убедился, что разночинцами являются все авторы, кроме одного бодрого анацефала, который уверял, что не сочинил плохой строки. Даже Бродский признавался в неуверенности и ценил ее, считая контролем качества. Еще позже я догадался, что непишущие страдают не меньше пишущих, но тогда, по малолетству, я мучился у всех на виду. Боясь, что меня не примут за другого, я боролся с постыдной, как прыщи, застенчивостью и выдавал себя с головой: врал, пил, курил и фонтанировал.
Петя, однако, готов был прислушаться к фонтану и что-то из него вылавливал. Вскоре, несмотря на несуразно гигантскую – три с половиной года – разницу в возрасте, мы стали встречаться вдвоем и гулять по городу, случайно заходя на выставки. На одной, посвященной дагерротипам, я сказал, что экспозиция могла бы включить портрет Лермонтова. Чем-то Пете понравилась эта вполне безумная реплика, и он предложил написать что-нибудь вместе.
К тому времени Вайль уже сотрудничал с нашей “Молодежкой”, украшая, как тогда было принято, любую газетную статью учеными и причудливыми ассоциациями. В репортаже из мирного хозмага, где зачем-то торговали упряжью, в текст врывались верховые опричники Ивана Грозного. Я был не лучше, отличившись в университетском сборнике лженаучной работой “Черный юмор у протопопа Аввакума”.
Петино предложение застало меня врасплох и привело в восторг. Писать вдвоем было не так страшно. Соавторство, как просодия, снабжало формой и уменьшало ответственность до приемлемого уровня. Текст становился, в сущности, анонимным: его автор не я, а мы.
2
В поисках темы мы шлялись по Риге, выпивая по выходным и будням что придется, но не где придется. Экзотический алкоголь, вычитанный у Хемингуэя с Ремарком, нам заменяли еще более экзотические напитки: молдавский кальвадос, венгерский ром, летом – алжирское вино из танкеров, и круглый год – портвейн бобруйского разлива. Одну гадость мы закусывали другой: пирожками с требухой (она же – подлятина), студнем из столярного клея и плавленым сырком с подходящим названием “Дружба”, к которому у меня нет претензий.
В трудных случаях можно было обойтись без закуски, но не без компании. Этика нашего пьянства категорически осуждала одиночество с бутылкой, считая его патологической крайностью. Отделяя клинический симптом от вакхического синдрома, мы строили пьянку как преображающее действительность произведение всех искусств. Оглядываясь, я понимаю, что наш идеал назывался Gesamtkunstwerk, хотя из-за скромности тогдашних властей мы еще не знали, что Вагнер дебютировал там же, где и мы, – в Риге.
Иными словами, наши пьянки носили бескомпромиссно творческий характер, и других я всю жизнь не признавал. Идя за Буддой, мы следовали средним путем и стремились держать струну натянутой. Разливая в меру, мы не давали ей ослабнуть, чтобы не переставала звучать музыка беседы, но умели и задержаться со следующим стаканом, чтобы струна не порвалась. Умело балансируя на пике опьянения, мы умудрялись не выпадать из фазы, и нам не хватало бесконечного в северных широтах летнего дня.
Иногда он начинался с университетских экзаменов, которые я умел сдавать быстро и с наслаждением.
– Главное – не задумываться, – сразу понял я и всегда брал билет первым, заменяя выученное решительностью.
Остальное было делом техники. Исчерпав ответ начальной фразой, я рассказывал, что знал, а не о чем спрашивалось. Между первым и вторым тянулись жидкие нити сомнительных аналогий. Чтобы удержать ломкую конструкцию от краха, требовалась известная интеллектуальная эквилибристика, развлекавшая наших профессоров, скучающих гарнизонных жен. К одиннадцати все кончалось, и мы шли в магазин.
О, это нежаркое утро экзаменационной сессии. Оно расстилалось контурной картой, которую мы, как Зикмунд с Ганзелкой, заполняли маршрутами дружбы. Как бы далеко от центра они ни заводили, к вечеру мы все равно оказывались в старом городе. Центр всякой пьянки, он украшал ее пейзаж живописными ведутами. Лучшие предлагали три старших шпиля рижского неба. У церкви Екаба он был самый крутой, но с загогулиной, под которой прятался волшебный колокол, оживавший, когда под ним пройдет неверная жена. Сам я никогда не слышал звона, потому что власти от греха подальше заткнули его вместе со всеми остальными колоколами города.
У знаменитого Домского собора выпивать приходилось украдкой из-за толпившейся здесь милиции. Зато пусто было в средневековом дворе, откуда открывался уникальный, известный лишь нам вид на церковь Петра со снесенным в первые дни войны и все еще не отстроенным шпилем. Примостившись между сараями крестоносцев, мы так строили мизансцену тоста, что в кадр попадало только вечное: звезды, луна, руины.
О чем мы пили? Обо всем, что позволяло накинуть на себя сеть утонченных аналогий и забавных параллелей. Мечтая сделать реальность наглядной, как глобус, мы сталкивались с той же трудностью, что Сизиф. Но взяв на вооружение его девиз “Движение – всё, цель – ничто”, каждый день начинали заново, не позволяя себе отвлекаться на мелочи жизни, включая свадьбу.
Я женился первым. Шафером был, конечно, Петя. Гости гуляли три дня, не заметив, что мы с молодой отбыли в соседнюю Литву. Страна подпольного сюрреализма, она славилась дерзкими плакатами Вильнюса, гротескным театром Паневежиса и, конечно, мэтром непонятного, символистом Чюрлёнисом. В его каунасский музей у нас ездили, чтобы поклониться несмежной реальности. Супружескую жизнь мы начали в курортной Паланге, где хранилась любимая балтийская реликвия: трактор из янтаря. Брачную ночь мы скоротали на вокзале: я – на скамейке, она – в комнате матери и ребенка, что было, прямо скажем, преждевременно.
Когда, и очень скоро, пришла Петина пора жениться, ничего не изменилось. Райка, как ее звали до старости, была как мы, еще и хуже. Она жила в такой старой Риге, что в ее квартиру вела винтовая, словно в крепостную башню, лестница. С нее я снес в обнимку Райкино приданое: холодильник “Саратов-2”. Самодельная стена делила мансарду на две каморки. В одной стояла бочка с брагой, в другой ее пили. Больше всего Райка любила приключения и могла отправиться встречать зарю в зоопарк, где, ошибившись забором, чуть не попала в вольер к медведю.
Оба брака не разбавили наши отношения. Любовь считалась филиалом дружбы, и с Петиной свадьбы я ушел на четвертый день, когда бутылки сдали дважды.
3
Проблема заключалась в том, что нам довелось жить в слишком красивом городе. Страдая от конкуренции, мы испытывали сокрушительное давление архитектуры: и выпуклого барокко, и стрельчатой готики, и кудрявого ар нуво. На фоне старого все новое было уродливым, как многоэтажная гостиница “Латвия”, которую хотели снести, не успев достроить. Мир вокруг нас нуждался не в революции, а в реставрации, и авангард не представлялся выходом.
Чтобы обсудить метафизический вызов и найти выход из тупика, мы собрались в Колонии Лапиня. Она находилась в центре города, но не имела с ним ничего общего. Миниатюрный рай огородников, Колония напоминала аграрный улей, в котором копались озверевшие без земли горожане, в основном – латыши. Недавно оторвавшиеся от почвы, они тосковали по отобранным хуторам и растили тут все, что помещалось на трех грядках.
В буднее и пасмурное утро Колония пустовала, и мы удобно устроились под забором, закусывая принесенное сорванным за оградой огурцом.
– Прекрасное нуждается не только в гениальном творце, – говорил один из нас, ибо мы тогда не спорили, – но и в талантливом компиляторе.
– Другое дело, – подхватывал другой, ибо наша беседа подразумевала не состязание, а бескорыстное уточнение определений, – что создавать одни произведения из других значит преумножать сущности без необходимости. Нам нужен все тот же средний путь, пролегающий между выцветшим вымыслом и так и не зацветшей ученостью.
– Мир, – соглашались мы с нарастающим от портвейна восторгом, – нельзя придумать, мир нельзя описать, но его можно сгустить, как осенний свет в витраже. Нам не нужно придумывать персонажей, достаточно выбрать из тех, что есть. Нам не нужны герои, достаточно тех, кого мы назначим. Нам не нужна экспансия вымысла, достаточно углубить, что дано, и окружить неизвестное. Между оригинальным и украденным прячется от сглаза неистоптанная зона тавтологических явлений: литература о литературе, истории про историю, культура в культуре, а это – целый мир, схваченный фасеточным зрением мух, то есть муз.
Язык заплетался, солнце добралось до зенита, и нас застали врасплох хозяева, торопившиеся в обеденный перерыв прополоть любимую грядку. Ситуация напоминала басню Крылова “Философ и огородник”, но вторые, не признав в нас первых, намотали на руку ремни, готовясь к расправе. Однако убедившись по огрызку огурца в незначительности хищения, колонисты отпустили нас с миром, пристыдив на дорогу. И мы, покинув, как юные Каин с Авелем, чужой Эдем, отправились на поиски жанра, счастливые тем, что нашли себе занятие по душе на всю тогда еще бесконечную жизнь.
11. КГБ, или Гедонисты1
Как все значительное, кроме Академии наук, которой досталась сталинская высотка, оказавшаяся непригодной для Дома колхозника из-за отсутствия конюшни, Комитет государственной безопасности располагался на Ленина. Эта центральная улица города по давней традиции носила имена всех оккупировавших Латвию вождей – от царя до фюрера. Знаменитый среди рижан Угловой дом, построенный для нуворишей еще до обеих мировых войн и уцелевший в них, гордился застекленным куполом, ионическими колоннами, ажурными балконами и другими архитектурными излишествами. Они не помогали работе органов, но и не мешали им.
Рижане обходили Угловой дом стороной, не поднимая лишний раз глаза, даже когда оказывались в модном магазине “Сыры”, располагавшемся на противоположной стороне улицы. Именно поэтому, заняв в нем очередь, я смотрел прямо перед собой, уткнувшись взглядом в поясницу Ульяны Семеновой. 213-сантиметровая звезда латвийского баскетбола то– же пришла за “Советским камамбером”, ничем, кроме названия, не отличавшимся от сырка “Дружба”.
Сам я ни разу в КГБ не был, но готовился к встрече сколько себя помню. Мое антисоветское воспитание началось под голос BBC и закончилось в августе 1968-го, когда я быстро повзрослел, встретив во время поездки на Карпаты танки. Местные на них не смотрели, хорошо зная, чем это кончается, но мы с отцом не отводили глаз.
Разгром Пражской весны помог отцу свести счеты с советской властью, которой до этого он еще давал шанс исправиться, читая нам вслух Евтушенко. В тот день, когда вышел журнал “Юность” с “Братской ГЭС”, меня не пустили в школу. Вместо этого мы всей семьей отправились в лес. Улегшись под красными балтийскими соснами, я слушал про осветителя Крамера и прочих героев поэмы, простивших родине ее преступления в надежде на то, что она одумается и станет такой, какой обещал Ленин.
Танки на узком австро-венгерском шоссе оказались роковым аргументом власти, и вскоре мы всей семьей, отказав ей в доверии, поменяли Евтушенко на Солженицына, которого читали по ночам, передавая друг другу жидкие странички самиздатской печати.
С тех пор Прага никогда не отходила ни далеко, ни надолго от моей жизни, напоминая о себе троицей: Францем Кафкой, солдатом Швейком и не менее бравым генералом Майоровым. Последний командовал теми самыми танками. Жена Майорова, выкрашенная хной до цвета медного чайника, преподавала у нас на филфаке выразительное чтение, то есть руководила декламацией патриотических стихов, показывая руками, как ставить смысловое ударение на местах про народ и родину. После Лотмана, которого нам открыли более прогрессивные профессора, предмет был несложным и давался даже троечницам из Латгалии.
Майорова редко теряла благодушие, угощала студентов шоколадными конфетами, вспоминая боевую молодость, когда ее муж еще был простым полит– руком, а не главнокомандующим Прибалтийского военного округа. Бешеной я ее видел лишь однажды, когда мерный ход занятий прервала студентка с латышского потока, зашедшая в аудиторию, чтобы сделать объявление для товарок общежития. Извинившись, девушка обратилась к ним по-латышски, отчего Майорова побледнела и взвизгнула.
– На территории Союза Советских Социалистических Республик, – выразительно сказала она, – извольте говорить на человеческом языке.
Спрятав глаза от стыда за наш Союз, мы слушали, как застенчивая студентка, изучавшая латышскую, а не русскую литературу, извинялась на человеческом языке с тем сильным акцентом, который выдавал провинциальное происхождение. В Риге все, кроме хулиганов из бандитского Московского форштадта, прилично говорили по-русски.
Майорова любила принимать экзамены на дому – из демократизма и чтобы показать трофеи. Генеральская чета жила напротив памятника Ленина в сдвоенной квартире, занимавшей весь этаж некогда доходного дома. В дверях мы столкнулись с хозяином. Поклонившись на всякий случай в пояс, я громко поздоровался.
– Ы-ы, – ответил Майоров, но я, начитавшись Гашека, ничуть не удивился, думая, что генералы не владеют членораздельной речью.
Снисходительно выслушав мою структуралистскую интерпретацию “Стихов о советском паспорте”, Майорова угостила чаем с конфетами “Мишка на Севере” и предложила осмотреться.
– Неужели Фальк? – осмелев, спросил я, показывая на синий пейзаж.
– Муж жалуется, что аляповато, – вздохнула Майорова, – но работа – музейная.
В приоткрытые двери виднелась анфилада комнат, уставленных стеллажами с богемским хрусталем. Столько посуды мне довелось видеть только в Павловском дворце.
– Чехи надарили, – объяснила Майорова, – и как им было отказать?! От такой чумы избавили.
Когда мы вышли за могучие двери, однокурсницы насплетничали:
– Для уборки покоев Майорова нанимает самых уродливых домработниц, но ничего не помогает, и девиц меняют, как только залетят.
2
Мы знали, что советская власть вечна, как всемирное тяготение, но именно постоянное давление придавало азарт нашим шуткам, песням и стонам.
– Ни одно слово не пропадет зря, – твердили собутыльники, кивая на телефон, считавшийся любимым инструментом госбезопасности.
Но сам я, честно говоря, никогда не верил, что кто-то может и впрямь фиксировать ту смурь, что мы несли за чаем и водкой. К тому же я никогда не видел сотрудника КГБ и не мог его себе представить. В той среде, где я вырос, чекиста считали полумифическим существом: гарпия с партбилетом. Как у греков, эти фантомы, сотканные из суеверного страха и распаленной вином фантазии, вызывали вечный художественный интерес. Что ни скажешь, всё в жилу и смешно:
– Андропов сломал руку.
– Кому?
Допуская сверхчеловеческие способности органов, мы отказывали им в человеческих. Вообразить за нашим столом чекиста было не проще, чем игуану или Бонда. Тем сильнее я удивился, когда школьный товарищ, став студентом столичного вуза, спросил, стоит ли ему отправиться по распределению в КГБ, чтобы заняться там чистой наукой. Брызжа слюной, выкатывая глаза и вырывая волосы из молодой бороды, я исполнил песню протеста без слов. Но он меня понял и занялся не чистой, а прикладной наукой на том же ядерном реакторе, где моя мама работала с мирным атомом, выращивая помидоры на подоконнике.
Пожалуй, мы верили в КГБ примерно так, как просвещенные эллины – в эту самую гарпию: факт природы, приукрашенный фольклором. При этом я знал, что дед сгинул в киевском чека, и понимал, что в такой осторожной стране стучать должен каждый третий. Но знание это было сугубо головным и служило фоном, на котором вышивались наши бесшабашные разговоры.
Советская власть нам казалась не только страшной, но и смешной: раньше – как Хрущев, позже – как Брежнев. За ним мы следили с любовной пристальностью. Однажды, одуревший от безделья, я смотрел в прямом эфире, как и без того разукрашенный генсек получал в награду парадную саблю, усыпанную бриллиантами. Когда толстый генерал протянул ему оружие, Брежнев отпрянул в комическом ужасе и поднял руки вверх, показывая, что сдается. Ловя власть на мелких глупостях и больших подлостях, мы коротали юность, пестуя лакомое чувство метафизической исключительности. Запертые, словно в пещере Платона, в однопартийной, мягко говоря, системе, мы не надеялись ее ни изменить, как наши предшественники-шестидесятники, ни покинуть, как сделали это чуть позже сами.
Нам оставалось только одно: оправдать собственное существование здесь и сейчас.
“Глупо думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым”, – говорил Будда.
Но до него было далеко, и мы нашли себе гуру рядом. Никто, кроме нас с Вайлем, о нем не слышал, и это нам нравилось еще больше, ибо позволяло считать Попова нашим открытием.
3
Я напился, когда познакомился с Валерием Поповым. У меня не было другого выхода. Мы начали вечер в бродвейском ресторане с того, что я обещал сопровождать каждый тост цитатой. К ночи их набралось столько, что Попов решил покончить счеты с жизнью.
– Лучше дня уже не будет! – воскликнул он. – Попасть первый раз в Америку и тут же найти человека, который шпарит тебя наизусть.
Мы оба уцелели, и я не перестаю его цитировать, потому что афоризмы Попова сыграли в моей жизни примерно ту же роль, что красная книжечка для хунвейбинов. Я черпал из его книг мудрость, которая такой даже не прикидывалась. Иногда его диалог излучал истому:
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.
– Плохо.
– А меня?
Иногда автор делился своим безграничным – надвидовым – гуманизмом:
Мимо прошел ёж с лягушкой во рту.
– Не желаете? – спросил он. – Освежает.
Попова, как, собственно, все важное и уникальное, я цитирую по памяти. Она лучше знает, что хранить, не спрашивая – зачем. Раз помню, значит, было надо, дорого и кстати: резонанс.
Найдя нужный нам язык, мы извлекли из Попова мозг костей и рецепт спасения.
Реальность, – утверждал наш с Вайлем догмат веры, – не бывает сплошной, а тайна счастья прячется в вычитании. Нужно всего лишь убрать (с глаз долой, из сердца вон) вату будней, чтобы не мешала сторожить, узнавать и встречать хохотом великие мгновения беспричинной радости.
– Хоть бы зубы у вас заболели, – сказал Довлатов, когда, уже в Нью-Йорке, мы поделились с ним благой вестью.
Ему этот молодежный, словно из “Мурзилки”, гедонизм был категорически чужд, нам – в самый раз. Хуже, что, открыв истину, мы не могли ею не поделиться. Не выдержав молчания, мы с Вайлем написали в молодежную, естественно, газету первый совместный опус – о Попове.
По дороге к печатному станку мы обнаружили, что вместе писать нельзя: стыдно. Письмо как акт слишком физиологично. Слова зачинаются, рождаются, иногда выплевываются. Делать это на глазах другого – не только неприлично, но и негигиенично. Усвоив первый урок, впредь мы не повторяли ошибок и следующие пятнадцать лет сочиняли вместе и писали врозь, поклявшись никогда не раскрывать авторство статьи, эссе, главы, абзаца. Нам нравилось жить с тайной, и я унесу ее в могилу, как это поторопился сделать Вайль.
Властям, однако, наш коллективный дебют не принес той радости, которой мы стремились поделиться, и Петю выгнали из газеты. Трудно, вернее, скучно вспоминать, за что. Интересным в этом процессе был сам процесс. Опротестовав, как было тогда модно в свободолюбивых кругах, решение администрации, Петя настоял на публичном судебном разбирательстве.
В ту охочую до правосудия эпоху суды были нашими гражданскими праздниками. Поскольку никто не питал надежды на успех, процесс носил характер не юридический, а эстетический, и Вайль две недели сочинял красноречивое последнее слово, требуя приобщить его к делу.
Судья приобщил, и скоро Вайль, как и я, устроился в профессиональную пожарную охрану, которая отличалась от любительской тем, что не гасила пожары на производстве, а заливала их в себе – привычным портвейном и экзотической “Березовой водой” на спирте, хоть и техническом. Петя ходил дежурить на один завод, я – на другой, но оба мы ничего не делали, даже не пили, боясь оказаться на дне, где ползали наши коллеги.
Пора признаться, что пожарная охрана дала мне несравненно больше университета. Книги я и без него читаю, но никогда мне уже не встретить таких людей, какими были мои сослуживцы. Один испражнялся, не снимая галифе. Другой спал с дочкой. Третий нюхал бензин, когда кончалась выпивка. Самым невзрачным казался начальник караула Вацлав Мейранс, получивший пост за канцелярский почерк. Умея подписываться с росчерками, он любил грамоту, хотя с трудом разбирал написанное. Однажды, страдая от насильной трезвости, Мейранс пристроился ко мне, когда я проверял диктанты, подрабатывая учителем в свободное от университета, дружбы и пожарки время. Изучив все сорок тетрадей, Мейранс одобрил одни и осудил другие диктанты, так и не поняв, что текст тот же. Наверное, его учили, что показания всегда разнятся.
Дело в том, что в прошлом Мейранс заведовал отделением КГБ в мятежной области Курземе. Там, на западе Латвии, в густых чащах, выходящих к высоким дюнам открытого Балтийского моря, он искоренял “лесных братьев”, их друзей, родичей, соседей и подвернувшихся под руку, пока не спился – не от ужаса перед содеянным, а от доступности самогона, который варили из браги на каждом вражеском хуторе. Прожив с Мейрансом бок о бок два года, я, что бы ни говорила Ханна Арендт, не обнаружил в нем ничего банального. Когда умерла его мать, труп удалось похоронить с третьего раза, потому что Мейранс пропил первые два гроба, купленные парткомом невезучего завода.









































