Текст книги "Трикотаж. Обратный адрес"
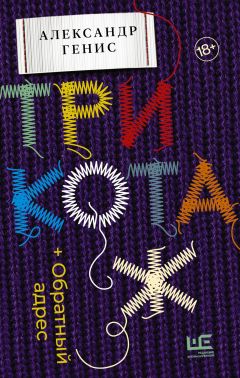
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
1
Лишь оглядываясь, я понял, что нельзя попрощаться разом и навсегда. Расставание, как и сближение, – процесс, растянутый во времени, а не только в пространстве. Особенно когда речь идет о такой родине, которая неизвестно как называется и где находится. Я точно знал, что она – не СССР, Латвии еще не было, России – уже, хотя в Америке мне довелось встречаться с теми, кто ее застал и вспоминал добрым словом. Один из них – престарелый и элегантный князь, который не чинясь представился Мишей.
– При царе, – сказал он, – в нашей бедной России не все было ладно, но хотя бы еврейчики знали свое место и не лезли в политбюро.
На “Свободе” про царя говорил только заядлый монархист Юра Гендлер.
– Дед служил токарем на петербургском заводе, – рассказывал Юра, – и бабушка его ругала, когда он приносил жалованье серебром и золотом, потому что тяжелые монеты рвали карманы.
Я не очень верил, ибо золотые деньги видел только в музее, но серебряные попадались в Латвии, особенно в провинции, где пятилатовики с изображением балтийской Фортуны Лаймы носили на цепочке как оберег от советской власти. Такую монету маме подарили на атомном реакторе латышские коллеги, которые помнили, что капитализм тоже не сахар.
Наш золотой запас состоял исключительно из книг и пришел в Америку морем в дощатом контейнере. Эти тщательно отобранные тысяча томов могли свести с ума вменяемого человека и обрадовать моего завуча. Она выросла из пионервожатой до учителя словесности, попутно внушив мне истерическое отвращение к школьной программе. Возможно, поэтому я думал, что не смогу прожить на чужбине без Белинского, Писарева, Герцена и “Литературной энциклопедии”, добравшейся до Аверинцева лишь к последнему – девятому – тому.
Конечно, не только мы – все эмигранты везли с собой библиотеки. Одни – для детей, другие – на черный день. Тогда многие верили, что книги – те же деньги, раз они печатаются на бумаге. Но в Америке никто не знал, что с ними делать, кроме одного моего знакомого. Он рассовал привезенную библиотеку между наружными и внутренними стенами дома. Книги служили прекрасной теплоизоляцией и не занимали чужого места.
У меня они стояли на своем и выживали нас из квартиры. Не в силах привыкнуть к изобилию, я до сих пор покупаю по книжке в день, хотя уже давно разуверился в том, что они прибавят ума и спасут от старости. В молодости, однако, я свято верил в первое и ничего не знал о второй. Книги, как радуга в Библии, казались знаком завета между мной и прочитавшим их народом. В конце концов я решил считать их родиной и предложил Вайлю написать учебник по любви к ней.
Сперва мы хотели назвать его “Хрестоматией”, но Довлатов отговорил, убедив в том, что читатели примут книгу за сборник чужих текстов. Украденное у школы название “Родная речь” было немногим лучше, но мы и не собирались скрывать, что полдела за нас сделала традиция. Оглавление, над которым мы, сочиняя “Шестидесятые”, целый год бились, в этом проекте за нас написал канон. Не подвергая сомнению школьную программу, мы приняли ее априори – как единственную работающую конституцию в истории отечества.
– Не важно, – решили мы, – что в нее попали Радищев и Чернышевский, а не Лесков и Бунин. Важно, что именно с таким списком выросли мы, отцы, деды и, отчасти, прадеды.
Классика соединяла и приобщала, делая русскими всех, кто знает Пушкина или хотя бы им клянется. Универсальная, как таблица умножения, но национальная, как хоровод и водка, наша речь, утрамбованная в классную шпаргалку, была действительно родной.
Это еще не значит, – не преминули взбунтоваться мы, – что вся она нам нравится.
Собственно, в этом и заключалась тихая дерзость замысла. Мы не собирались, как с ужасом сочли многие, писать антиучебник. Это было бы так же просто, как переправлять советское на антисоветское в эмигрантской прессе. Мы хотели правды, но готовы были ее заменить искренностью: прочесть то, что положено всем соотечественникам так, будто в первый раз, и честно рассказать о том, что получилось. Задача оказалась труднее, чем думалось. Чужая эрудиция, как пыль, садится на твои страницы, и, чтобы стереть ее, нужны осмысленные усилия и воля к невежеству.
Я поступал так. Прежде чем садиться за главу о том авторе, которого мне назначил жребий, я педантично обчитывал свой предмет до тех пор, пока критические суждения и биографические подробности не начинали повторяться. Затем, загнав узнанное в подкорку, я брался за оригинальную книгу и, трепеща от охотничьего азарта, следил за тем, как разворачивается текст, притворяясь его автором. Это панибратское чтение сродни заклинанию духов, и, войдя в транс, я догадывался, что автор напишет в следующем абзаце даже тогда, когда этого не помнил. Материализовавшаяся писательская тень оживала, как каменный гость, и утаскивала меня по ту сторону переплета. Слова здесь существовали в жидкой форме. Поэтому они могли свободно выбирать, в какую фигуру им сложиться, прежде чем застыть на бумаге. Чтобы удержаться на плаву в словесной протоплазме, надо забыть всё, что о ней читал, освобождая место для любви или равнодушия. Мне до сих пор кажется, что писать о чужом можно тогда, когда чувствуешь его своим, как капитан Лебядкин: “Басня Крылова моего сочинения”.
Пытаясь плавать с классиками, я конечно, подражал Синявскому, с ними гулявшему. Поэтому мы больше всего гордились теми страницами, которыми он предварил нашу “Родную речь”.
Много лет спустя, когда я давно уже писал в одиночку, мне понравилось поступать с живыми как с мертвыми. Я не садился за стол, пока не чувствовал интимного родства с автором. Иногда, как в случае с Веничкой, этому помогал бесспорный восторг, иногда, как с книгами Сорокина, – ужас. Но чаще меня бескорыстно радовали и тугие сюжетные пружины Пелевина, и кружевные сказки Толстой, и одушевляющая магия Саши Соколова, и бесконечные закоулки Искандера, и лингвистический фетишизм Бродского, не говоря уже о псевдопростой прозе Довлатова, служившей точилом и наковальней.
Из любимых писателей мне хотелось выстроить собственную эстетику. Идя от частного к общему – от арифметики к алгебре, – я мечтал о литературе, избавившейся от всего затупившегося и заезженного. Со временем текстов набралось на книгу, но я не решался ее печатать, пока не подружился с критиком Марком Липовецким.
– Статьи пишутся на случай, – пожаловался я, – и вместе с ним устаревают.
– Чтобы стать если не литературой, то уж точно ее историей, – сказал Марк.
Вооруженный этим тезисом, я выпустил книгу с названием, определявшим мое отношение к унылому герою рептильной прозы: “Иван Петрович умер”.
– И не один раз, – заметили рецензенты.
2
Классика – конвертируемая валюта русских, но в Америке она имеет хождение лишь в пределах университетских кампусов. Все они неотразимы и напоминают что-то другое: Гарвард – Кембридж, Йель – Оксфорд, Эмори – Акрополь. И в каждом – музей, собравший, как Ноев ковчег, каждой твари по паре: мумии, драхмы, Кандинский.
Первым, кого я встретил, попав в университетскую Америку, был неизбежный Хвостенко, навещавший пышный куст вузов, разросшийся вокруг жилья Дикинсон.
– Летом вы ее не застанете, – извинились местные, – зато зимой можно увидеть следы Эмили на снегу.
У преподававшего там же Бродского тоже были каникулы, и всей русской культурой заправлял Хвост. В городской галерее выставлялась его дзенская живопись, в городском театре шла пьеса “Запасной выход”, в студенческом – инсценировка поэмы “Москва – Петушки”. Лёша поставил ее с той степенью достоверности, которую позволял туземный набор бутылок, включавших “Смирновскую”. Вместо нее после спектакля внесли корытце с марихуаной, отчего я почувствовал себя чужим и на этом празднике жизни. Нас, однако, студенты понимали хуже, чем мы – их.
– Этот язык, – с накопившейся горечью сказал мне профессор, выводя мелом на доске слово “консирватория”, – нельзя толком выучить, что и доказывают те, кому он родной, не говоря уже о посторонних. И действительно – я знал только одного американца, безукоризненно владевшего русским.
– Я справился с ним от отчаяния, – оправдывался Джон Глед, – ибо вырос в провинциальной дыре. Мы развлекались раз в году, когда в автосалон привозили машины новых марок. По сравнению с этим даже ваш родительный падеж казался увлекательным.
К старости Джон, разочаровавшись в русских не меньше, чем в остальном человечестве, выпустил два учебных пособия по евгенике.
– Под собственным именем или доктора Менгеле? – спросил я Гледа, но он не обиделся.
Обычно слависты, чтобы сохранить лицо, говорят с нашими по-английски, предлагая практиковаться в русском беззащитным студентам, для которых мы – безличные носители языка, пиджака и галстука.
Поначалу недоступность родной речи внушает чувство ничем не заслуженного превосходства.
– Повторяйте за нами, – веселимся мы, – “Лягушки, выкарабкивающиеся на берег”.
Зато потом приходит отчаяние от одиночества, которое в Америке не с кем разделить, кроме русских. Всё, что мы в себе ценили и воспитывали, не пролезает сквозь игольное ушко лингвистической немочи. Но и наоборот! На чужом языке ты можешь сказать не что хочешь (это и на своем непросто), а то, что проходит между Сциллой английских идиом и Харибдой простой, но ненормальной грамматики. Пытаясь раздвинуть скалы, мы норовим высказаться на их языке по-своему – с инверсиями вместо вопросов и подмигиванием вместо глаголов, – но такое понимают одни соотечественники.
Смешная самиздатская пьеса Николая Вильямса “Алкоголики с высшим образованием” начинается с того, что герой, с трудом продрав глаза, будит товарища по пьянке лаконичным вопросом: “Ты, деньги есть?” В доморощенном английском переводе это звучит так: You, money is?
Конечно, со временем привыкаешь.
– С волками жить, – вздыхала соседка Довлатова, – по-волчьи выть.
Хуже всего, что на другой язык нельзя перевести слова, не затронув произносящую их личность. Одним ее не жалко, другим за нее больно, мне – страшно, особенно когда пытаешься по-английски шутить, сочинять или ругаться. Моего брата чуть не убил пуэрториканский дворник, потому что в пылу ссоры оба пользовались американской бранью с бо́льшим энтузиазмом, чем хотели и собирались.
Лучшее в американских студентах то, что в отличие от двоечников из ссыльного поселка Вангажи, где я имел глупость преподавать Пушкина, они светятся радушием, испытывая умеренную жажду знания. В русской классике им ближе всего “Дама с собачкой”. Девочкам рассказ нравится, потому что описывает чистую любовь адюльтера, мальчикам – потому что короткий. Но и те и другие сражаются со зверски непонятным языком. Об этом мне сказал Дэвид Ремник, который, до того как стать редактором “Ньюйоркера”, писал о перестройке и изучал в Москве русский язык.
– По-вашему, – грустно сообщил он, – я говорил ужасно, как животное.
Сразу поняв безнадежность ситуации, Бродский с первого дня вел занятия по-английски, предпочитая, чтобы студенты мучились с его английским, а не он – с их русским.
Штатный профессор Дартмутского колледжа и второй поэт русской Америки Лев Владимирович Лосев себе такого позволить не мог, о чем он молчал в прозе и писал в стихах:
Однако что зевать по сторонам.
Передо мною сочинений горка.
“Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребенками”.
Отлично, Джо, пятерка!
3
СЛосевым было лестно дружить, что я и делал, пока он не умер. Называть его полагалось Лёшей, отнюдь не из фамильярности. Его отец Владимир Лифшиц был известным автором, и когда сын пошел по той же дороге, ему пришлось взять псевдоним: Лев Лосев. Однако в статьях – в отличие от стихов – он пользовался своим настоящим именем: Алексей Лифшиц. Это раздражало читателей, потребовавших объяснений, что он и сделал.
– Иногда я подписываюсь Алексеем, иногда Львом, – написал Лосев, – но в этом нет ничего уникального, потому что точно так же поступал Толстой.
Для друзей он сочинил композитное имя Лёша, которым его всегда и называли.
Мы разительно отличались. Во-первых, он голосовал за республиканцев и в разгар скандала с Моникой Левински чуть не оставил меня без ужина, когда я взялся защищать Клинтона из мужской и партийной солидарности.
Во-вторых, если не считать баранины, мы не сходились во вкусах. Лосеву нравились Солженицын и Петрушевская, мне – Абрам Терц и Сорокин. К счастью, мы находили общий язык за той же бараниной, безусловно восхищаясь Бродским.
В-третьих, Лёша во всем походил на профессора, а меня жена звала Шариком. Однажды, делая вид, что приехали на ученый симпозиум, мы вместе отдыхали на гавайском острове Мауи, славящемся черным пляжем вулканического происхождения. Сам вулкан начинался у моря, возвышался на 2000 метров и не давал мне покоя. Не стерпев вызова, я позволил отвезти себя глухой ночью к покрытому легким снежком кратеру, чтобы насладиться рассветом. На вершину мы поднялись на автобусе, спускались – на велосипеде. На крутом серпантине он, несмотря на мое сопротивление, развивал 60 миль в час, что вдвое превышало степенный островной лимит, но с этим ни я, ни тормоза ничего не могли поделать. Когда шоссе выплюнуло меня на пляж, где загорал Лосев, я с трудом перевел дух и спросил Лёшу, играет ли он в гольф. Лосев, не вставая с песка, застонал от ужаса.
Сибарит, филолог, гурман и поэт, Лосев оживал за обедом, который мы с ним делили на трех континентах. Самый вкусный – за столом у них с Ниной. Заросший книгами дом, сад с ароматными травами, буфет с редкими бутылками, камин – зимой, веранда – летом, за Норковым ручьем зеленеют вермонтские горы. Лосев строил свою жизнь как английский джентльмен и русский западник.
– Чехов в Оксфорде, – фантазировал я.
Но стихи у него были настолько другие, что, когда цикл “Памяти водки” перевели на английский, Лосева, опасавшегося за педагогическую репутацию, не обрадовала слава “барда Норкового ручья”. Тут надо сказать, что лосевские стихи явились поздно и вдруг. Первую подборку предваряло вступление Бродского. Но это еще ничего не значило.
– Меня настолько не интересуют чужие стихи, – признавался поэт, – что я лучше скажу о них что-нибудь хорошее.
Вчитавшись, мы влюбились. Стихи Лосева были интересными, как авантюрный роман, смешными, как анекдот, и ловкими, как цирковой трюк. Лёша писал их так, будто, пропустив два века, продлил восемнадцатое столетие до наших дней. Полная интеллектуальной эквилибристики и затейливого остроумия, его поэзия служила не романтическому самовыражению, а самой себе. Искусная вещь из языка, она отказывалась походить на ту, что писали современники. Меньше всего – на Бродского, ибо Лосев тщательно следил, чтобы их дружба не просочилась в поэзию.
Из уважения к музам Лёша всегда читал стихи стоя, мы – в машине, когда отправлялись к нему в гости. Тонкого сборника хватало на 300 миль дороги, так как, дойдя до последней страницы, декламация возвращалась к первой.
В литературоведении Лёша мог быть педантом, в критике – византийцем, в гостях – незаменимым, дома – тороватым хозяином, но больше всего мне он нравился спутником. Мотаясь по конференциям и странам, мы всегда сбивались в один угол, украсив его смешным и вкусным. За столом мы редко говорили о серьезном, если не считать стихов и родины. Однажды я задал Лёше вопрос, с которым часто пристаю к друзьям и к себе:
– Кем бы вы хотели родиться?
– Русским, – не задумываясь ответил Лёша и прочел только что написанное:
Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овёс,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.
Лосев гениально вписался в университетскую Америку так, чтобы она не мешала ему быть собой. На работу он ходил пешком, кампус был его кабинетом, студентам он рассказывал то, что было самому интересно. Например, о чем говорят литературные звери. Получалось, что русские – в “Каштанке” – о маленьком человеке, американские – такие как Белый Клык – о Ницше.
Из года в год навещая эту красиво выстроенную жизнь, я не мог себе представить, что она может кончиться. Лосев – мог.
– Как-то, – рассказывал он, утрируя питерское “ч”, – я в ненастье зашел в булоччную, где пахло теплым хлебом, играла музыка Моцарта и за прилавком стояла неотличчимая от ангела кудрявая блондинка.
– Рай? – уточнил я, хотя и так понял.
– Хорошо бы, – сказал Лосев без улыбки.
29. Родина, или Борщ1
Живя в России, я бы не поверил, что Достоевского разлюбить проще, чем борщ, но, перебравшись за границу, убедился в том, что первый приедается, а второй – нет. И это при том, что они, еда и Достоевский, связаны друг с другом, но от противного. В книге “Не хлебом единым” Бахчанян собрал кулинарные фрагменты из сочинений великих писателей. У Достоевского Вагрич выудил одно маловнятное “бламанже”. Не зря в романе “Преступление и наказание” все отрицательные герои – толстые, положительные – тонкие, включая худосочного Лебезятникова, одумавшегося к концу книги.
В Америке Достоевский представляет всех русских и отвечает за них, но мне в него верилось с трудом. И когда я специально приехал в Вашингтон на инсценировку “Преступления и наказания”, то заскучал, узнав из постановки Любимова, что нельзя убивать старушек. Никто и не собирался.
– Этический гиперболизм, – сказал мне Парамонов, – свойствен и русским сказкам. Если пришел гость, то надо сразу резать козла да барана, ничего не оставляя на черный день.
– Поэтому, – согласился я, услышав, что речь идет о съестном, – зов отчизны лучше слышен за столом, где нам так трудно обойтись без черного хлеба, соленых грибов и кваса для окрошки. Родина живет в кислой среде, и катализатором ностальгической реакции является именно и только водка, а не текила, виски или балалайка.
Убедившись в этом, соотечественники за рубежом первым делом заводят гастрономы. В мое время все их снабжал оптовик Разин.
– Из тех самых, – скромно сказал он, знакомясь.
Раньше Разин жил в Харбине, где преподавал электротехнику на китайском, пока не бежал от Мао. В Америке он создал бакалейную империю, опираясь на гастрономическую апологию.
– Недоразвитая социалистическая экономика, – втолковывал он мне, – меньше портит продукты. Поэтому русская клюква кислее массачусетской, польские огурчики ядренее немецких, и “Ессентуки”, особенно 17-й номер, надежнее лечит нас с утра, чем беззлобная вода Perrier.
Но прежде чем согласиться и вернуться к родной кухне, мне надо было исчерпать экзотику нью– йоркских ресторанов, особенно – азиатских.
– В китайском, – наивно рассуждал я, – ничего не понятно, а в японском и понимать нечего.
Избавиться от этой глупости мне помог Иосиф Бродский. В свое оправдание могу сказать, что в тот жаркий день он скучал в углу. Напуганные гости толпились, флиртовали, выпивали и закусывали поодаль, прячась от ледяного взгляда сражающегося с зевотой классика.
– Простите, Иосиф, – бросился я в прорубь, – что бы вы посоветовали…
– Из книг? – холодно перебил он.
– Нет, – струсил я, – из японской кухни.
– На бэ, – слегка оживился поэт, и я отошел окрыленный.
Но истоптав Манхэттен и изучив полсотни меню, я не нашел среди суши, темпур и раменов ни одного блюда, начинающегося на бэ. Тогда, решив рискнуть с трудом заработанным, я просто заказал то, что велел Бродский.
– Хай! – согласился метрдотель и зажег у меня под носом газовую плиту. Из кухни засеменила официантка с подносом. На нем громоздилась нарядная снедь: кудрявая капуста-напа, длинный лук, розовые лепешки из рыбной муки, белокожие грибы-эноки, креветки и другие менее знакомые морские гады. Все это в нужном порядке официантка топила в супе, булькающем в намеренно простодушном глиняном горшке. Именно он, как и все, что в нем варилось, называется по-японски “набэ”.
2
Если судить по той же книге Бахчаняна, меню самого Бродского носило меланхолический оттенок и мстительный характер: яблоко в залог, ломоть отрезанный, сыр дырявый, глушеная рыба и блюдо с одинокой яичницей.
– Но в жизни, – свидетельствовал его друг, биограф и сотрапезник Лёша Лосев, – Иосиф “жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок”, всему предпочитая домашние котлеты Юза Алешковского, холодец в “Самоваре” Романа Каплана и китайские рестораны, в одном из которых он съел столько креветок, что в зале раздались аплодисменты.
Узнав об этом, мы с Вайлем решили заманить Бродского на античный обед, списав его у Марциала. Выбрав из его эпиграмм доступное, мы остановились на цыплятах с капустой и пироге с айвой. Последнюю, не сумев купить, мы похитили в нашем средневековом музее Клойстерс. Его монастырский дворик и сейчас украшает декоративная, но плодоносная айва. Ограбив дерево, мы унесли добычу под полой плаща, чтобы еще раз процитировать Марциала:
Скажешь, отведав айвы, напоенной
Кекроповым медом:
“Эти медовые мне очень по вкусу плоды”.
Обед сопровождала бесценная “вода Нерона”, которую мог себе позволить лишь император, и то – самодур: ее доставляли в жаркий Рим с горных вершин в обшитых верблюжьей шерстью сосудах. Мы обошлись льдом из холодильника.
Но главным лакомством трапезы предполагалась латынь. Я знал ее не лучше Онегина, хотя честно зубрил в университете, борясь с непобедимым, как Десятый легион, третьим склонением. Хорошо еще, что у Бродского были те же пробелы. Решив переводить элегиков, он для сверки взял у меня Проперция на русском и до сих пор не вернул.
Бродскому меню чрезвычайно понравилось, но в гости он не пришел. В тот вечер вместо обеденного стола его ждал операционный. Я знаю усатого медбрата, ассистировавшего хирургу.
– Мне довелось видеть, – говорил он всем, – сердце поэта.
В больнице, которая в Америке и без того проходной двор, к Бродскому вела народная тропа. На стенах коридора висели бумажки со стрелкой и надписью Brodsky. Даже в лазаретной распашонке из бумазеи в цветочек он не терял величия и напоминал Воланда перед балом. Возле койки сидела ослепительная, как Маргарита, девица, с которой Иосиф играл в шахматы.
Обрадовавшись принесенной елочке (“в Рождество все волхвы”), Бродский поморщился, когда мы принялись хвалить только что прочитанного Борхеса.
– Великий мастурбатор, – сказал Бродский, и только годы спустя я догадался, как он умудрился объединить Борхеса с Дали: когда все можно, ничего не интересно.
3
Писать о еде мы принялись отчасти из ностальгии, отчасти – с похмелья. Чтобы нас не приняли всерьез, мы выпросили заголовок книги у довлатовской сестры Ксаны. Тем не менее “Русская кухня в изгнании” была призвана служить оправданию родины перед Западом. Уловив вызов, Бахчанян изобразил на обложке Алёнушку, примостившуюся на бутерброде из “Макдоналдс”. У нее (я потом специально выяснил в Третьяковке) и без того глаза безумные, словно у вакханки, – того и гляди растерзает братца Иванушку, привидевшегося ей козленочком. Но, сидя на гамбургере, Алёнушка вызывает жалость, как всякий соотечественник, которого Америка вынудила променять котлету, пышную от взбитого в пену мяса с мелко натертым луком в нежной мучной, а не грубой сухарной панировке, на туповатый бургер, хвастающийся расовой чистотой: 100 % beef.
В книге мы с азартом защищали отечественные рецепты, выгораживая зону безопасного патриотизма вокруг форшмака из вымоченной в молоке селедки с яйцом и яблоком, рыбной солянки с каперсами, а не только маслинами, и запеченной в горшочке говядины с приправленной имбирем жидкой сметаной. Родная кухня вместе с родной словесностью оседают на дно тела и души. Борщ и Крылов требуют своего и не унимаются, пока мы не отдадим им должного в меню и речи.
Конечно, с привитым в юности вкусом можно бороться омарами и диетой, но окончательно отделаться от него нельзя ни по эту, ни по ту сторону, в чем убеждает могила Бродского на Сан-Микеле. Самая оживленная на острове мертвых, она по обычаю скифов и варягов снаряжает поэта необходимым – шариковыми ручками, сигаретами, чужими стихами и его любимыми конфетами “Коровка”.
“Русскую кухню” мы затеяли на манер советского отрывного календаря, помещавшего на обратной стороне листка уморительные рецепты, вроде “365 блюд из черствого хлеба”. Но не желая, как он, жульничать, мы писали эту книжку сперва – на кухонном, потом – на обеденном и, наконец, – на письменном столе. Каждой главе предшествовал затейливый ужин с литераторами. Мы готовили домашний буйабес для взыскательного Лёши Лосева, в благодарность написавшего предисловие к нашей книге. Мы делили барана с Алешковским, угощали Аксёнова осетром из Гудзона, сочинили сто витиеватых бутербродов для Синявского и накормили богатыми щами западника Вознесенского.
Чаще всего мы трапезничали с Довлатовым. Презирая кулинарные заботы на словах (невежда, кричал он на меня, любить можно Фолкнера, а не рыбу), на деле Сергей и сам был изобретателен в застолье. Так, он придумал лепить пельмени, одевая фарш в тестяную рубашку дальневосточных дамплингов. Этот единственный удачный плод евразийской ереси превращал пир в субботник, которым мы наслаждались не меньше, чем “Новым американцем”. Приобретенные в нем уроки газетной верстки сказывались за готовкой. На кухне мы с Вайлем трудились слаженно, будто гребцы на байдарке.
Писать о еде оказалось еще интереснее, чем ее есть и готовить. Уже в одиночестве я продолжил экспериментировать с гастрономической беллетристикой. Из слияния кулинарной прозы с путевой получился особый жанр с заимствованным у сказки названием “Колобок”. Легкий на ногу (если бы она у него была), он любит путешествовать и служит русским ответом быстрому питанию заморского фастфуда.
Сочиняя “колобки”, скатившиеся в одноименный сборник, я каждый писал будто рецензию. Вычленял главных героев, изучал их предысторию, описывал центральную коллизию, перечислял художественные приемы, средства и цели, оценивал общий фон и вникал в настроение. На выходе я стремился получить иероглиф чужой кухни.
Каждый, – обещал я читателю, – кто научится его читать, сможет побыть иностранцем.
Хотя бы за обедом, потому что в любой стране завтракать лучше яичницей. По утрам даже опытный странник слаб, труслив и, как это случилось со мной на рассвете в токийском отеле, может не понять, откуда черные глазки у лапши, оказавшейся при ближайшем рассмотрении сушеными мальками.
Соблазн гастрономической эссеистики в том, что обычная проза предпочитает приключения духа, тогда как кулинарная позволяет высказаться молчаливому телу. Способная вызвать чисто физиологическую реакцию, вкусная литература содержит в себе неоспоримый, словно похоть, критерий успеха. Если, начитавшись Гоголя, вы не бросаетесь к холодильнику, пора обращаться к врачу.
Эрос кухни, однако, раним и капризен. Его может спугнуть и панибратский стёб, и комсомольская шутливость, и придурковатый педантизм – обычный набор пороков, которые маскируют авторское бессилие в кулинарной сфере, как, впрочем, и в половой.
Несмотря на общность цели – пробудить возбуж– дение, – писать о сексе еще труднее из-за краткости сюжета. Я понял это, сочиняя в горячие 1990-е годы колонки для русского “Плейбоя”. Быстро исчерпав тему, я перешел к старинной японской прозе, правда, женской. (Меня выручили характерные для того времени обстоятельства: журнал расторг контракт, когда редактора выгнали, а издателя убили.) Зато кулинарная тема неисчерпаема, как жизнь, природа и остальное мироздание. Свято веря, что лучше всего мы можем постичь его съедобную часть, я все еще пишу о еде с бо́льшим трепетом, чем о любви и политике. Вторая всегда проходит, третья – никогда, и только первая не теряет румянца и оптимизма.
4
Русская кухня в изгнании” не отравила никого, кроме авторов. Заслонив всё написанное, она выдавала себя за шедевр, не уставая издаваться и переводиться.
– Это как Шерлок Холмс, – утешал Довлатов.
– И так же глупо, – бушевал я, – как хвалить сыщика за игру на скрипке.
Не придумав выхода, мы смирились, поняв, что глупо спорить с успехом. Причину его следует искать не в писателях, а в читателях, которым беззастенчиво льстит эта книжка.
– Раз на чужбине, – говорит она, – нельзя обойтись без родины, значит, она – магнит. Кулинарная ностальгия сковывает беглеца с отечеством, не давая из него сбежать совсем и навсегда.
Я и не пытаюсь.
– Что вы больше всего любите? – спросил меня интервьюер.
– Свежий батон и жареную картошку, – честно ответил я, подписывая распухшее за счет картинок юбилейное издание “Кухни”.
Именно оно свело нас с Вайлем в последний раз на московском фестивале, где мы варили публичную уху из пяти рыб. После выступления к нам за автографом протолкалась столь очаровательная поклонница, что мы не поверили своему счастью и правильно сделали.
– Мама послала? – напрямую спросил Петя.
– Бабушка, – поправила его девица, и мы догадались, что пришла старость.
Но тогда, в середине 1980-х, до нее было далеко, и “Русская кухня” казалась промежуточным финишем. Затянувшееся прощание состоялось и, рассчитавшись с родиной по всем долгам – от борща до Пушкина, – мы приготовились к другой, американской жизни, что бы это ни значило и чего бы это ни стоило.
Вот тут-то, как всегда некстати, в планы вмешалась советская власть: она пошатнулась. В России началась перестройка и, что куда важнее, гласность, грозившая отменить смысл нашего пребывания за границей.









































