Текст книги "Трикотаж. Обратный адрес"
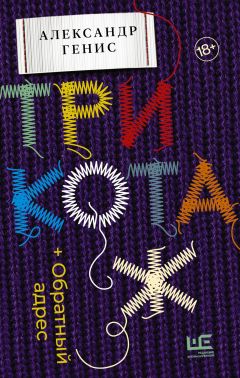
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
1
Вернувшись из отечества, мы почувствовали, что соавторство стало нас тяготить, как нагота – Маргариту после бала у Воланда.
На то были мириады причин, но главная скрывалась от нас обоих. Теперь я думаю, что за тринадцать лет (столько же писали вместе Ильф с Петровым) наша парная личность просто сносилась от безжалостной эксплуатации. Маска была уместна на карнавале, но следующим утром она выглядела глуповато.
– Праздник чувства окончен, – любил с надрывом цитировать Надсона мой отец, убирая со стола пустые бутылки, – погасли огни, сняты маски, и смыты румяна; и томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана.
Литература была нашим капустником и субботником, и мы категорически отказывались принимать ее и себя всерьез. Нас звали “ребята” и никогда – по отчеству, ибо у Вайля не было костюма, а у меня и пиджака. Но когда у Пети поседела борода, а мой сын пошел в школу, богемный статус стал натужным и нарочитым. В детстве я видел, как взрослые танцевали твист: они плясали слишком старательно.
Не обошлось и без советской власти. Сходя на нет, она умирала, как мы жили: хихикая и ёрничая, особенно – в отвоеванных у партии газетах. Лучшая из них – “Независимая” – выходила под тацитовым лозунгом Sine ira et studio и печатала не только актуальное, но и сокровенное. Например, занявший целую полосу виртуозный психоаналитический этюд, в котором автор, Борис Парамонов, выступал в своем излюбленном жанре “парад эрудиции”. Опус назывался “Говно” и не оставил никого равнодушным.
Как и для перестроечной прессы, соавторство для нас было стёбом: продолжением свободной пьянки на территории солидного противника. У этого досуга, однако, оказались серьезные последствия, и я говорю не о книгах. Соавторство подразумевало (1) общность реакций и впечатлений, (2) симметрию поведения, (3) неизбирательное сродство и (4) взаимозаменяемость.
Первое означало, что нельзя писать одно, а думать другое и по-разному. Второе требовало от меня целовать дамам ручки, если так поступал подлиза Вайль. Третье объяснялось тем, что нам нравилось то же самое: еда, античность, смешное. В-четвертых, практика выковала общий стиль, которым мы пользовались по очереди, с трудом отличая себя от друга.
От всего этого Довлатов приходил в ужас, считая преступлением делить, а не умножать личность. Сам он не любил псевдонимы и лишь в исключительных случаях подписывался инициалами С. Д.
Все, что не есть Я, – то кричит, то шепчет его проза, – мне не принадлежит и читателей не касается.
С тем бо́льшим неодобрением Довлатов следил за тем, как, веселясь и ухая, мы добровольно отдаем половину себя другому.
– Это все равно, – ворчал он, – что делить невесту.
Кроме того, мы уже написали то, что собирались, и немало из того, что хотели. Теперь нам предлагали тиражировать жанр и сочинять все, чего от нас ждали: вторую “Родную речь”, не говоря уже о “Русской кухне”.
Более того, мы добились своего. Однажды нас узнали на улице в Париже. Патриоты напечатали фельетон “Барыги с Брайтон-Бич”. В русском Нью-Йорке нас дразнили, пародировали и путали.
– Умно, – хвалил Дмитрий Александрович Пригов, – двоих запомнить легче, чем одного.
– Какой у вас маркетинг? – интересовался изощренный филолог Жолковский, от которого я впервые услышал это слово.
Говоря короче, мы слили две фамилии в одну, и нам она надоела. Но разлепиться оказалось труднее, чем сойтись. Вначале-то мы ничем не рисковали, теперь нам мешала конкуренция: общее наследство в шесть книг, одна из которых вышла тиражом в 100 тысяч и была рекомендована средним школам, видимо, для изготовления шпаргалок.
– Раньше был один писатель, – нашелся Петр, – теперь их стало трое: Вайль-и-Генис, Вайль, Генис. Первый бросал вызов остальным, и прежде всего мы постарались разойтись подальше. Вайль решил полюбить джаз, я – одиночество.
Мне было проще. Всю жизнь я обходился без записной книжки, редко звонил и не писал письма, а только подписывал их. В нашем камерном государстве обходительный Вайль был министром внешних сношений. Я всё еще прятал застенчивость разночинца за хамоватыми манерами и вступал в общение после Петиной увертюры – на всё готовое.
Но теперь демократия кончилась, я стал абсолютным монархом себя, и это значило, что молодость прошла. Она и так тянулась дольше, чем положено.
2
Итут зазвонил телефон.
– Сэр Майкл, – представились на другом конце.
– Сэр так сэр, – глупо ответил я, подозревая, что мне что-то продают.
Но Майкл и правда был сэром, как положено называть лордов в той стране, что позвала меня в жюри премии “Букер”. Мне в нем очень понравилось. Слева сидел академик Иванов, который все знал, справа – Булат Окуджава, которого все знали, напротив – сразу два лорда и между ними – их шофер с черными ногтями. Он стрелял сигареты то у правого, то у левого лорда, что привело меня в демократический экстаз.
Английский плебс, – говорил я себе, – не вешал свою аристократию, а сравнялся с ней достоинством. Беседа, естественно, шла о литературе. Англичане хотели про Афган, Окуджава настаивал, чтобы премию получил фронтовик, Иванов болел за полиглота, я – за Сорокина, про которого не хотели и слушать. Зато мне удалось пропихнуть Пелевина, получившего за сборник рассказов “Синий фонарь” малого “Букера” – на вырост. Спонсором премии был тот самый шофер, Фрэнсис. Он оказался сыном Грэма Грина и водил не только машину, но и собственный самолет, на котором прилетал в Москву, где его ждала любимая женщина трудной судьбы, жившая на 2-й улице 8 Марта.
С Пелевиным я познакомился позже, в московском ресторане, прикрывавшем кулинарное убожество стёбным, как всё тогда, меню. На обед Виктор заказал три порции “Государственной премии” и рассказал о своем методе работы.
– Водка и велосипед, – объяснил он, – выпиваю маленькую, качу в лес, падаю в траву и наблюдаю жизнь насекомых.
На прощание мы сфотографировались. Перед камерой Пелевин прихорошился: надел зеркальные очки и замотал лицо шарфом.
– Человек-невидимка? – спросил я.
– Если бы, – вздохнул Виктор, искавший популярности от обратного.
Букеровская премия привела меня в осенний Питер и бросила там одного на целую неделю, которую я поделил между гостеприимным Арьевым и неотразимым городом. Второй начинался прямо за окном первого: видом на канал Грибоедова у Спаса-на-Крови.
– Сейчас еще ничего, – бодрился Андрей, – но в белые ночи жизни нет. Каждые полчаса нас будит рыдающий голос экскурсовода: “И тут злодейская рука террориста оборвала жизнь любимого государя”.
В остальном Арьев был самым терпимым из всех знакомых мне писателей. И самым молчаливым тоже. В застолье Андрей редко солировал и не мешал это делать другим. Но именно над его шуткой на следующий день досмеивались гости. Как-то мы обсуждали горячие научные проблемы в смешанной русско-американской компании.
– Вот вам в Америке ничего не говорят, – упрекал нас московский журналист, – а в “Комсомольской правде” уже объявили о рождении клонированного человека.
– Иначе и быть не может: “Россия – родина клоно́в”, – заключил Арьев, переиначив анекдот о слонах времен борьбы с космополитизмом.
– А то, – согласился журналист, слишком молодой, чтобы помнить нюансы предыдущей эпидемии патриотизма.
В другой раз мы с Арьевым были на симпозиуме в Лас-Вегасе. Как известно, в этом городе есть архитектура на любой вкус – от египетских пирамид до венецианских палаццо. Из уважения к заморским гостям местный университет, богато живущий на прибыль с рулетки, поселил нас в отеле, замаскированном под высотный терем. Наутро после банкета помятые гости испуганно лупились на пряничные наличники и пестрые купола.
– “Москва – Петушки”, – окрестил мизансцену Арьев.
А недавно и не от него я узнал, что в Пасху Андрей навещает питерскую тюрьму, чтобы передать заключенным, как это водилось еще до революции, пироги и книжки.
3
ВПетербурге меня настиг момент истины, но я не понял какой.
Впрочем, той по-прежнему голодной осенью 1993 года этого никто не знал наверняка. Советская Россия вмещалась в антисоветскую, как круг в квадрат, отчего по углам оставалось лишнее место.
– Нужны колхозы? – спрашивали у американского эксперта и нобелевского лауреата.
– Не знаю, – отвечал тот, – главное – раздать собственность.
– Кому?
– Не знаю, – опять говорил эксперт, – разыграйте в лотерею, любой хозяин будет лучше государства.
Общественность ему не верила и настаивала на строительстве новой экономики по шведскому образцу.
– Не выйдет, – твердил эксперт, – в России слишком мало шведов.
Устав спорить о том, что делать, народ перешел к вопросу, кто виноват.
– “Эльцин мразь – с России слазь”, – прочел я на плакате у боевитой старушки. Оборотное Э намекало на еврейское происхождение президента и ставило на нем точку.
Не ввязываясь в споры, я молча свернул в сторону, продолжая свой тихий роман с Петербургом. Он вынудил меня впервые в жизни затормозить, чего я ему никогда не забуду. Каждое утро я выбирал себе улицу и осматривал ее всю, не выпуская из рук дореволюционного путеводителя (несмотря на историю, в городе не поменялись даже номера домов). Вникая в петербургскую архитектуру, я находил с ней много общего: вся она была, мягко говоря, заимствованная.
– Хорошие авторы одалживают, великие – воруют, – не без зависти сказал один поэт про другого.
Как тот же Шекспир, Питер сросся в ансамбль, который был больше и лучше нахватанного.
Но меня интересовала не красота, а польза. СПб расположился между двумя городами моей биографии. Рига состояла из органической старины, которую не могли испортить ни сталинская высотка, ни памятник красным стрелкам. Нью-Йорк накрывал шведский завтрак для странника, выбирающего себе меню на час, на день, на жизнь. Зато Петербург учил произволу перевода: он переделывал чужое в свое, не оставляя швов и складок.
Бродя по городу, я завидовал той беспрекословной покорности, с которой экзотическая эстетика примирялась с родным пейзажем. Колоннада портиков защищала от чахлого солнца. Суворов мерз в римских латах. Голые статуи кутались в рогожи. И только маятник Фуко с просветительским презрением к локальным деталям резал воздух под куполом Исаакиевского собора, доказывая, что Бога нет, раз Земля вертится.
Историю в Петербурге можно было принять за аттракцион, но, в отличие от Диснейленда, она повторялась всерьез и выглядела крупнее оригинала. Живя на краю родной географии, СПб являл альтернативу отечественной судьбе: он примерял на себя Европу, и она была ему к лицу.
Это тоже Старый Свет, – сообразил я, прикинув, каким здешнее видится из-за океана.
Петербург навел на резкость мою картину мира. Их, миров, оказалось не три, как нам втолковывала политэкономия, а два: Старый Свет и Новый. Я жил в обоих и мог сравнивать. Собственно, об этом мне и удалось написать первую собственную книжку “Американская азбука”. Азбучные истины в ней располагались в алфавитном же порядке, пропускались сквозь две призмы и преломлялись таким затейливым образом, что заурядное осложнялось сюжетом и обрастало метафорами.
– Филигранная работа, – похвалил Соломон Волков, – яйца Фаберже.
Но Арьев не одобрил это сравнение.
– С фамилией Генис, – сказал он, – о яйцах лучше не упоминать.
Труднее всего в этом опусе мне давалось единственное число личного местоимения, и “Я” в “Азбуке” появилось лишь тогда, когда она добралась до “Яхты”.
Благодарный Питеру за вдохновение, я каждый день набирался у него мудрости в одиночку и уже привык говорить сам с собой, когда появился Герман и мы, как советовал Мандельштам, отправились в Царское Село. Опустошенная погодой и политикой аллея парка вела к кукольному замку с башней и флюгером.
– При большевиках, – сказал я, сглотнув слюну, – здесь подавали миноги.
– Забудь, как звали, – отрезал Алексей.
Из упрямства я толкнул ржавую дверь, исписанную словом из трех букв, зато по-английски: sex. Неожиданно легко она открылась. Внутри сияли огни и белели скатерти.
– Миноги есть? – обнаглев, спросил я.
– А как же! – ответил официант, и мы выпили под них с мороза.
Алексей решил, что в ресторане снимают кино из прежнего времени, но я не согласился, считая, что он сам во всем и виноват. Герман так упорно творил вторую реальность, что от напора прохудилась первая.
Вымысел продавливает действительность и отпирает двери, включая заржавевшие от простоя. Вблизи художника колышется завеса, в щель дует и происходят мелкие чудеса.
Много лет спустя мы встретились с Германом в Пушкинских Горах. Он уже не пил, но еще завидовал и по вечерам рассказывал о встречах с вождями, включая предпоследнего.
– Родину любишь? – спрашивал Ельцин Германа, зажав того под мышкой.
– Как не любить, – еле выдавил режиссер и был отпущен по добру и с наградой.
Послушать Германа приходил белый, словно сбежавший из фильмов Тарковского, жеребец. Он даже ржал вместе с нами.
– Как его зовут? – не сдержав, как всегда, праздного любопытства, спросил я у пришедшего на веселый шум конюха.
– Герман, – ответил тот и повел купать коня в пруду, покрасневшем от заката.
33. Ноев ковчег, или Семейное1
Даже Бог не без греха. Он сам раскаялся в одном – в том, что создал нас. В Библии так и сказано: “Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем”. Но Ему стало жаль собственное творение, к которому у Бога не было претензий, если не считать людей. В остальном мир был прекрасен, особенно фауна, лучшим представителем которой Бог хвалился перед Иовом. “Вот бегемот: ноги у него, как медные трубы”.
Мне кажется, что и Ноя Бог выбрал не за особую праведность, не помешавшую ему напиться при первой возможности, а как дельного директора зоопарка. Собрав зверей на развод, Ной построил из смолистого дерева гофер ковчег-теват. С иврита это слово можно перевести как “сундук” или “рундук”, в котором мой киевский прадед торговал дамским платьем на Евбазе. Обшитая крепкими досками лавка наглухо, как ковчег, закрывалась со всех сторон, что спасало от погромов, но не от советской власти. До нас рундук дошел лишь в семейных преданиях. С ковчегом дело обстоит не лучше, и его обломки до сих пор ищут археологи и маньяки разных стран и трех вероисповеданий. Больше всего в этих разысканиях повезло русскому авиатору Владимиру Росковитскому, который в 1916 году, облетая Арарат, якобы нашел в горном озере на высоте 4300 метров остатки ковчега и описал его.
– Изнутри, – рассказывал летчик, перебравшийся к тому времени в Америку, – ковчег напоминал огромный курятник, снаружи он был сколочен из олеандровых бревен, исписанных загадочными рунами.
Несмотря на войну, Николай II отправил на место находки сразу две экспедиции библеистов-скалолазов. Одна пропала целиком, вторая – не совсем, но из-за начавшейся революции результаты исследований не дошли до научной общественности. Однако несколько уцелевших бревен ковчега сумели все-таки доставить на Волгу тайком от взявших верх большевиков-богоборцев. Об этом рассказал последний участник экспедиции солдат Федор Батов, скончавшийся в 1969 году.
– Чтобы скрыть от безбожных властей драгоценные бревна, – вспоминал солдат, – их использовали для постройки баржи купца Неметова.
Но вскоре судно отобрали, чтобы перевозить арбузы трудящимся. А в начале 1930-х баржа села на мель и вмерзла в лед возле небольшого приволжского села Духовницкое. Председатель райисполкома Безруков велел разобрать судно и построить здание школы из спасенных бревен. В этой сельской школе появились странные учителя, как-то: преподаватель трех языков бывший полковник царского генштаба Михаил Золотарев, приятель Бунина филолог Ленге и Прасковья Перевозчикова, служившая фрейлиной у матери Николая II.
– Возможно, – предполагает волжский археолог– самоучка Алексей, избегающий называть свою фамилию, – в задачу именитых педагогов входил перевод рунических надписей.
Так или иначе, бревна ковчега оказывали бесспорное ментальное воздействие на учащихся школы. Из ее стен вышли 60 докторов наук и несколько академиков, включая физика Гурия Марчука, последнего советского президента Академии наук. Кроме того, в духовницкой школе учились 38 профессоров, 29 заслуженных деятелей науки и летчик-космонавт Александр Баландин. Большая часть ученых стала физиками-ядерщиками, вероятно, потому, считают местные, что ковчег был на атомном ходу.
– Индиана Джонс, – скажут маловеры, но я точно знаю, что всё это – правда.
Во-первых, с тех пор как в перестройку магические бревна растащили неизвестные, школа в Духовницком перестала поражать мир талантами. Во– вторых, в этой школе учился мой тесть Вениамин Иванович Сергеев, который звал себя Веня и был самым необычным человеком из всех, кого мне довелось встречать.
Веня виртуозно врал на голубом глазу. Они у него были того интенсивного цвета, который мне напоминал о тельняшке, а жене – о врубелевском Пане. Лысый и приземистый, Веня выдавал себя за увальня, каким он точно не являлся. Однажды мы с ним нырнули в Даугаву вместе, но, когда я всплыл, он уже приближался к другому берегу, показывая с каждым могучим рывком круглую, как у пингвина, грудь.
– Так, небось, – с восхищением сказал я, – вы и Волгу переплыть можете.
– Вдоль, – согласился тесть.
Анархист с непреодолимой склонностью к браконьерству, он годами жил без документов. Советскую власть Веня ненавидел по личным причинам, веря, что она принадлежит евреям, к которым он относил любое начальство – от Брежнева до участкового, сдуру конфисковавшего паспорт тестя.
Он умел делать все, кроме полезного: разбирать, но не собирать часы, фотографировать, но не проявлять пленку. Даже рыбу, без которой этот коренной волжанин не мог жить, Веня промышлял в порту, где она сильно пахла керосином.
Когда мы поженились, я всего этого не знал, поскольку тесть забыл прийти на свадьбу. Да и остальные гости не обращали на нас особого внимания, если судить по тому, как они орали “горько”, не заметив, что молодые уже два дня как отбыли в свадебное путешествие по родному краю балтийского символиста Чюрлёниса. Нас провожала моя мама.
– Запомни, сынок, – сказала она, – холостым плохо везде, а женатым – только дома.
2
В сорок я вспомнил, что двадцать лет женат и никогда об этом не задумывался. В молодости брак не мешал дружбе, а если мешал, то прекращался, чтобы не мешать.
Мораль советского человека живо напоминала конфуцианскую. Просвещенные бонзы, считая секс естественным отправлением, иногда занимались им, не отрываясь от государственных дел. Но публичное проявление супружеской любви, а тем паче нежности, осуждалось как постыдная несдержанность. Китайские поэты воспевали мужскую дружбу, наши – тоже, пренебрегая при этом половыми различиями: “Старик, ты кормила Алёшку грудью?”
Проще говоря: жену стеснялись, любовницей гордились, даже когда ее не было. Брак был ареной вечных ссор и источником глуповатых анекдотов.
– Был день, когда вы не ругались с матерью? – спросил Гендлер отца, умершего за месяц до своего столетия.
– Был, – ответил тот, подводя итог 75-летнему браку, – но он был прожит зря.
Мои провели вместе шестьдесят лет, не переставая жаловаться друг на друга. Потаённая нежность требовала дергать жену за уже седую косичку.
Но я, оставшись без соавтора, прервал родовую традицию: мне понадобился редактор, желательно свирепый. Сперва, опасаясь непотизма и семейственной снисходительности, я нарочно бесил жену, прежде чем дать ей текст на правку, но быстро выяснил, что напрасно боялся.
Читая с Вайлем друг друга, мы всегда выбирали выражения. Сомнительное место отмечалось точкой на полях, но, если оно оказывалось дорогим и важным, мы делали вид, что след оставил не карандаш, а муха. Попеременно выступая то критиком, то автором, каждый из нас избегал резкости и тогда, когда ее следовало бы навести. Такт и трусость делали совместный текст итогом немых компромиссов. С Ирой о них речь не шла. Дочь своего отца, она во многом походила на него. Ира научилась фотографировать и ловить съедобную рыбу. Политике она, как и Веня, не доверяла и не церемонилась с чужими, тем более – со мной.
Ее редакторские претензии не сводились к точкам и удовлетворялись истреблением абзацев, а иногда и страниц. Ее интересовали не интеллектуальное усилие, не доказательная логика, не широта кругозора и глубина эрудиции, а ничем не замутненная чистота повествовательной линии. Понаторев на нашем факультете в филологическом жаргоне, Ира свела его к отточенным резюме.
– Каша, – говорила она, и я беспрекословно вычеркивал вымученный силлогизм, скрывающий за длинными словами то, чего не понимал и сам автор.
– Не включается, – говорила она, и я выбрасывал первую страницу, чтобы начать текст без разгону.
– Ну и что? – говорила она, и я присочинял эпилог.
– Убавь громкость, – говорила она, и я размазывал финал, чтоб замаскировать эффект.
Когда Ире было скучно, она не стеснялась зевать, когда забавно – хмыкать, и я с трепетом сторожил просмешки, делая вид, что не слежу за ней.
Начавшись с литературы в 213-й аудитории рижского филфака, наш брак успешно боролся за жизнь. Ира всегда делала что хотела, в чем я убедился, когда мы купили водяную кровать.
В 1980-е такие вошли в моду, и я не устоял: они напоминали о Джеймсе Бонде. Заменяя бедным яхту, налитый водой матрас вносил в семейный быт сдержанную экзотику и доступную роскошь. Дубовая рама, однако, не проходила в двери. Пытаясь втиснуть покупку в проем, мы покорежили косяк, поцарапали стену и замуровали спальню. Измерив рулеткой все, до чего дотянулся, я с цифрами в руках доказал, что выхода нет.
Переночевав на ковре в гостиной, утром я ушел верстать “Новый американец”, а вечером кровать была внутри. Ира отказалась объясниться, и я годами перебирал варианты, остановившись в конце концов на телепортации.
Кровать, надо сказать, не оправдала ожиданий. Она вызывала морскую болезнь, и мы обрадовались, когда гектолитр воды из прохудившегося матраца залил соседей. Утихомиривая их, мы распилили монстра и выбросили по частям. Тайна, однако, сохранилась и не давала мне покоя. С тех пор я стал присматриваться к жене, особенно по ночам, после триллеров про ведьм и вампиров.
Главным из ее парапсихологических свойств бы-ло сверхъестественное упрямство. Приняв решение, в том числе – вопиющее, она не вступала в переговоры со мной, судьбой и начальством. Ира не верила в любую иерархию, отрицала просвещенный софизм и шла, не разбирая дороги, к цели, внушенной ей разумом, случаем или капризом. Еле успевая уворачиваться, я и тут вспоминал маму, которая брала свое тихой сапой.
– Муж, – твердила она, – в семье голова, а же– на – шея.
Но Ира не верила в дипломатию. Выслушав мои цветистые аргументы, она не вступала в риторическое соревнование, а поступала по-своему: часто – с умом, иногда – с пользой, но всегда – без оглядки.
Чтобы выжить в таком браке, я вел себя как посол в тоталитарной державе: предлагал на выбор два варианта – плохой и тот, что мне нравился.
Серебряную свадьбу, – размышлял я вслух, – можно отметить, собрав сто гостей в брайтонском ресторане, а можно – вдвоем в Венеции.
Отель “Дом Рёскина” стоял на набережной канала Джудекки. Туристы с лайнеров заглядывали к нам в окно, и мы махали им, не вылезая из постели. К годовщине я подарил ей синюю птицу работы стеклодува с Мурано. Она мне открыла секрет водяной кровати.
– Чтобы она пролезла в спальню, – сказала жена, – надо было открутить деревянный порог перед дверью.
– Слава богу, а то я уже подумывал об экзор– цизме.
3
Набрав – вместе с родителями – век супружеского опыта, я решусь сказать, что с годами брак приобретает устойчивость не пирамиды, а небоскреба, безнаказанно виляющего под порывами любого ветра, не исключая ураганного, как в случае с “Сэнди”.
За его приближением мы следили по телевизору. Захлебываясь от возбуждения, синоптик предупреж– дал, что ураган высадится на берег между статуей Свободы и мостом Джорджа Вашингтона.
– Это же мы, – правильно рассчитала жена и предложила переехать в узкий коридор, чтобы нас не раздавила крыша.
Я возражал, надеясь увидеть приливную волну в десятиэтажный дом. В нашем было два этажа, и оба стонали. В самый интересный момент телевизор пискнул и отключился вместе с остальным электричеством. Стало страшно, темно и скучно. Натянув одеяло на голову, мы ждали худшего и незаметно заснули.
Утром обнаружилось, что у одних соседей ураган сдул крышу, у других – выбил окна, у третьих – повалил уже пожелтевший клен, и мы долго любовались им с балкона под нежарким осенним солнцем, пока я не вспомнил о холодильнике. В нем прозябали без тока три сотни закрученных на зиму пельменей. Позвав друзей, мы быстро, чтобы успеть до заката, пообедали дважды и разошлись в тихой темноте. Ураган стер все, что принес прогресс: радио, светофоры, связь, интернет. Оставались, как у Пушкина в Михайловском, книги, но только днем – вечером приходилось экономить свечи. Когда осталась одна, мы перешли на аварийный режим и взялись за Мандельштама. Запалив с одной спички фитиль, я читал первую строфу, которую мы толковали, погасив свечу.
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
– Мандельштам, – начинал я, ссылаясь на Парамонова, – поэт культуры.
– Тогда почему, – удивлялась она, – ему не страшно в лесу, да еще и одному?
– Ну, он не совсем один – с крестом. Еще хорошо, что с “легким”, который ничего не перечеркивает.
– И раз “опять”, значит, привык: своя ноша не тянет.
– Если путь не ведет к Голгофе.
– Он себя и не сравнивал. Но ведь помнил, будто уже в двадцать лет знал, что ему предстоит, – заключал я и зажигал огарок, чтобы прочесть следующую строфу.
За неделю без света мы едва закончили сборник “Камень”, и я жалел, когда починили электричество.
– Любовь посредством Мандельштама? – заинтересовался рассказанным фрейдист Парамонов.
– Камасутра книжника, – поправил я его, заодно решив, как назвать свою любимую книгу.









































