Текст книги "Трикотаж. Обратный адрес"
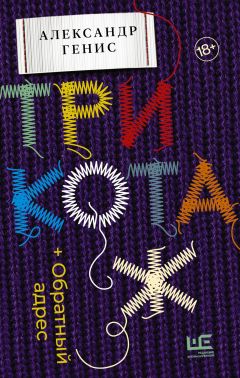
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
1
Мы хотели сменить адрес – нам предложили сменить родину.
– Путь к свободе, даже если вам придется сорок лет шляться по пустыне, лежит через Обетованную, – сказал Миша Циновер и, недоверчиво взглянув на нас, добавил: – Я имею в виду Израиль.
Его недоверие было вполне оправданным. Все мы, включая выросшего на Евбазе отца, были липовыми евреями. Настоящие мне впервые встретились (и не понравились) в Бруклине. Дома такие не попадались, и не случайно. Советский еврей был им иногда, узнавая своих, как в масонской ложе – по тайным, но всем известным приметам. Например, на танцах, как это случалось в знаменитом юрмальском ресторане “Лидо”, где ближе к закрытию плясали “хава-нагилу” и “семь-сорок”.
Будучи декоративным, наше еврейство всего лишь оттеняло универсальные черты советского человека. Пожалуй, лишь еврей и мог им считаться. У латыша была своя национальная идентичность, в которую ему разрешали рядиться на праздник песни. Национальность русских включала в себя всех остальных.
“Русский уголовник, – пишет New York Times, – Олжас Улугбеков…”
Но у евреев национальности не было вовсе. Поэтому у великого Похлёбкина в книге про кухни народов СССР еврейская кулинария выдавлена на последние страницы, которые она делит с блюдами народов Крайнего Севера, лучшим из которых, не могу умолчать, автор считал еще живого тюленя.
Вместо первичных национальных признаков власти предлагали евреям вторичные: журнал “Советиш Геймланд” со стихами Арона Вергелиса. Обходясь без языка, корней и религии, мы вместо Торы читали Шолом-Алейхема и заменяли притчи Талмуда анекдотами про Рабиновича. Что касается Бога, то брат в Него не верил, я – сомневался, отец путал с фаршированной рыбой. В сущности, только ее и можно было безоговорочно причислить к иудейскому племени. Остальные были потерянным коленом. Теперь нам предстояло найтись под руководством Циновера.
Как все евреи, Миша был физиком до тех пор, пока не решил уехать на историческую родину. Получив отказ на выезд в Израиль, он вылетел с того самого атомного реактора, вокруг которого кучковалась наша техническая интеллигенция, и, став евреем по основной, а не побочной специальности, открыл семинар отказников. На этой работе он тратил энергии не меньше, чем на прежней вырабатывал реактор.
Циновер был неотразим. Он источал оптимизм и не верил в будущее. Не зная, когда это кончится, он знал – где и готовился к встрече с новой отчизной, дерзко и шумно прощаясь со старой. Стремясь наполнить каждый день ожидания, Циновер занимался всем сразу: с физиками – физикой, с гуманитариями – Шестидневной войной и со всеми – английским, преподавая его новичкам по американскому бестселлеру “Исход”, считавшемуся сионистской пропагандой.
В квартире Циноверов на Авоту, той самой улице, где жил дедушка Мандельштама, никогда не закрывались двери – буквально. Открыв их нараспашку, евреи бросали вызов властям, хитроумно до наглядности убеждая их в своей лояльности.
Мы не делаем ничего беззаконного, – означала политика открытых дверей, – нам нечего скрывать от этой страны, ибо мы не считаем ее ни своей, ни исправимой.
В этом было что-то торжественное, почти библейское, если бы не жаловавшийся на гвалт отставник, живший на той же лестничной клетке.
Отпусти народ мой, – отвечал ему Циновер, – и можешь захлопнуть за нами двери.
2
Мы полюбили Циновера, хотя сначала пришли от него в ужас: ему было все равно, что есть.
– Миша разрезает батон вдоль, – чуть не плача, рассказывал впервые побывавший у них в гостях отец, – кладет внутрь сырой лук и называет это обедом.
Вскоре, однако, все изменилось: мы научили Циновера завтракать до ужина, он нас – быть евреями, насколько это возможно. Вникая в родные, как объяснил нам Циновер, традиции, мы радовались новым праздникам. Правда, разогнавшись на пути к Западу, мы сперва прибавили к некороткому семейному прейскуранту католическое Рождество, встречая его экуменическим компромиссом: и с жареным гусем, и с гусиными шкварками.
Узнав об отступничестве, Циновер нас пожурил и приобщил к настоящей Пасхе, а не той, на которую мы красили яйца. Отмечать Песах в Риге было не так просто, потому что мацу не продавали, а обменивали на муку в синагоге, скрывавшейся на старинной улочке Пейтавас. Опасаясь прозелитизма, приставленные к пекарне органы строго следили за паритетом сырья и продукта.
Первый (и последний, как я с огорчением должен признать) седер прошел с оглушительным успехом. Соседка вызвала милицию, бабушка спрятала в своей каморке запретный дрожжевой хлеб, гости не расходились до завтрака и после него.
Но если с телом иудаизма нам удалось разобраться, то дух его оставался непросветленным, пока Циновер не затеял самиздатский журнал “Еврейская мысль”. На первых порах выяснилось, что редколлегия не знает, чем еврейская мысль отличается от любой другой, особенно – русской. Поэтому в дебютном номере мы поместили белогвардейские стихи Цветаевой, антисемитские статьи Розанова и – до ку– чи – еврейские анекдоты.
К следующему выпуску Циновер навел порядок, раздав всем актуальные задания. Одному выпал реферат книги Зенона Косидовского “Библейские сказания”, другому – рецензия на Талмуд. Примкнувший к нам из чувства протеста марксист Зяма взялся набросать страничку-другую про Филона Александрийского. Мне поручили написать статью про стихи Хаима Бялика, но она Циноверу не понравилась.
– Ты упустил главное, – вздохнул он – Белик, или как там его, боролся против безродных космополитов.
– Как Сталин? – опешил я.
– Вроде того, – согласился он, – настоящий еврей живет на родине.
– В Бруклине, – добавил грузный Яша, который уже три года мечтал перебраться поближе к американскому кузену, державшему бензоколонку на Атлантик-авеню.
Остальные недипломатично молчали. Несмотря на еврейские мысли и узкую карту Израиля, висевшую теперь у нас дома вместо мезузы, далеко не все в нашей веселой мишпухе готовились стать евреями навсегда или даже надолго.
Дело в том, что евреи, диссиденты по праву рож– дения, даже сами у себя не вызывали доверия и были избранным народом, обладающим возможностью сбежать – не куда, а отсюда.
– Несправедливо, – говорили мне в Америке, – что только евреев не выпускают из России.
– Несправедливо, – поправлял я, – что только евреев и выпускают.
Зато при Брежневе евреем мог быть любой. В эмиграции я встречал их всех: казаков, армян, цыган, молокан, даже вотяка. По правилам игры, которые соблюдались тем строже, чем меньше в них верили, у отъезда за границу было одно оправдание – стремление к воссоединению семьи. Никого не смущало, что любовь к указанному в вызове израильскому дяде перевешивала чувства к оставшимся дома родителям, братьям и детям от предыдущего брака. Потешаясь над проформой, мы придумывали несуществующим родственникам биографию и профессию. Мой дядя был учителем, у Вайля – садовником, у Циновера – сионистом. Не удивительно, что он один собирался в Израиль и доехал до него.
Остальных грызли сомнения. Меня у евреев смущали заглавные буквы на тех же местах, что и в школьном учебнике. Вновь слушая про Народ и Родину, я пугливо озирался, боясь, что меня заподозрят в пафосе. Я не хотел любить евреев за то, что они евреи. Я восхищался Израилем как Римом, Карфагеном и Афинами, но не мог его считать национальным домом, потому что не знал, что такое национальность, и никогда не был у нее дома. Но главное, интересуясь еврейской, как, впрочем, любой другой историей страстно и безоглядно, я любил лишь русскую литературу и готов был заниматься ею в любой точке планеты, где бы мне это позволили.
“В Бруклине”, – повторил благодушный Яша, и, забегая вперед, скажу, что он оказался прав.
3
Израиль давал путевку в жизнь. Она называлась визой и выдавалась в ОВИРе толстыми тетками. Мы обзывали их парками. Они пряли наше будущее, решая, кого отпустить, кого придержать, кого оставить, как им казалось, навсегда.
– Пути еврейской судьбы, – говорил Циновер, – так же неисповедимы, как у гоев, но мы знаем, кто виноват и что делать.
– Что? – спрашивали семинаристы.
– Учиться, учиться и учиться, как говорил Моисей евреям в пустыне.
Семинар и в самом деле процветал. Заезжие физики, которые за границей тоже были евреями, читали лекции на дважды непонятном языке. Американские туристы (я и не знал, что в Риге такие бывают) рассказывали про Иерусалим, показывая отпускные снимки. Нам объяснял каббалу тайный хасид. Мы штудировали уголовный кодекс. Разучивали государст-венный гимн “Ха-Тиква”. Учинили капустник на Пурим. Зачитывали письма с исторической родины на географическую. Пили “Кристалл” и ругали власти, твердо веря в то, что они ловят каждое наше слово.
Отказ отправлял в лимб, и мы наслаждались всяким днем, проведенным в транзите, даже не догадываясь, что это называется буддизмом. Ввиду перемен все неудобства казались, как на даче, временными, не исключая и советскую власть. Незыблемая для других, нам она представлялась чужой и комичной, вроде полуживого Брежнева.
Научившись ни на что не обращать внимания, отказники ждали конца отказа или просто конца, как это делал Марьясин. Начальник легендарного ВЭФа, выпускавшего транзисторные приемники “Спидола”, с помощью которых осуществлялась беспроводная связь с Западом, в отместку был приговорен к бессрочному пребыванию на Востоке. Не чая дожить до перемены адреса, Марьясины транжирили нажитое, пока от прежнего преуспевания не остались посеревшие от хода времени вымпелы за громкие победы в социалистическом соревновании.
Нам особенно транжирить было нечего, поэтому в расход был пущен неприкосновенный запас. Расчетливо выбирая жертв, мы обменяли 13 томов Рабиндраната Тагора на два воскресных завтрака. Федина хватило на один, зато золоченый шеститомник Шиллера – до сих пор жалею – помог отметить мой двадцать четвертый день рождения.
– В Бруклине Шиллера – завались, – утешали одни гости.
– Будешь его читать, – добавляли другие, – когда устанешь подметать тротуары.
Готовясь к этой перспективе, мы осваивали смежные профессии. Я оттачивал мастерство в обращении с брезентовым рукавом, который простаки зовут пожарным шлангом. Вайль на пару с моим братом освоил выгодное ремесло окномоев. Боясь высоты, Петя сидел на подоконнике спиной к улице и декламировал Киплинга, пока Игорь драил стекла.
Другие отказники устроились не хуже. Поскольку на интеллигентную работу их не брали, они зарабатывали на вольных хлебах больше, чем раньше. Плотный Яша рыл могилы. Пунктуальный Циновер по вечерам включал немногочисленные в Риге неоновые рекламы, а по утрам гасил их. Рассеянный Зя– ма сторожил аквариумных рыбок, пока, зачитавшись, не забыл воткнуть в розетку вилку обогревателя, из-за чего все экзотические разновидности замерзли, а отечественные лишь проголодались. Но лучше всего бы– ло разгружать вагоны со съестным. Однажды я перетаскал 4 тонны апельсинов, после чего двадцать лет к ним не притрагивался.
Всякий труд был почетен и никакой не принимался всерьез. Понимая, однако, что каникулы не длятся вечно, все потихоньку готовились к западной жизни, которую теперь считали настоящей – то есть не временной, а вечной. Пытаясь ее себе представить, я опирался на смутные вести в виде заграничных открыток, которыми изредка со мной делилась моя прежняя любовь Сула. На одной была Вена, на другой – верблюд, на третьей – Красное море, где она купалась с женихом-саброй. Открытки казались видениями с того света – небо на них было безоблачным, словно в райских кущах.
Зная из отечественной прессы, что там ничего не дают даром, мы загодя собирали документы для резюме, которым намеревались соблазнить работодателей. Поскольку всякая свобода чревата свободным рынком, в Риге возникла индустрия отъезда, кормящая переводчиков, машинисток и нотариусов. Никто из них не был на Западе, но все они знали, что там пропадешь без дипломов, аттестатов и прочих доказательств профпригодности. Вздыхая от непомерных трат, я отдал в перевод документы и получил обратно всю свою жизнь от метрики до брака на английском, в двух экземплярах, заверенную нотариусом и скрепленную казенной печатью. Папку с бумагами венчал диплом филолога, к которому прилагались безупречные результаты сданных в университете экзаменов. Их портила одинокая четверка по атеизму. Я получил ее из-за вечно мучивших ме– ня сомнений, но надеялся, что она мне не навредит, став тонким доказательством мятежного духа.
Сложив в рюкзак интеллектуальный багаж всей семьи, мы с братом повезли его в Москву, где представлявший Израиль голландский консул переправлял документы по адресу – в свободный мир, чтобы это ни значило.
Увидав вываленную на стол гору дипломов, даже привычный к евреям консул вежливо удивился.
– Как у вас говорьят, – пошутил он, – собака не перепрыгнет.
Я никогда не слышал, чтобы у нас так говорили. И никогда больше не видел этих документов, не удосужившись открыть толстый конверт, наконец нашедший нас в Бруклине.
Но сперва власти решили расстаться с родителями. Отец поклялся бросить курить, когда впервые в жизни увидит Запад. Как только поезд пересек австрийскую границу, он выбросил окурок в окно. Мне кажется, он еще тлел, когда я отправился по тому же маршруту.
15. Брест, или Долгое прощание1
Родители покинули отчизну так, как, по их мнению, она того заслуживала: по-пижонски, с одним чемоданом. В нем лежали мамин сарафан и пляжная рубаха с лошадьми на красном лугу, в которой отец считался неотразимым в Дзинтари. Нам предстояло перевезти через железный занавес все остальное, включая сумасшедшую те– тю Сарру.
Последний осколок Евбаза, она, как все там, никогда не служила и провела жизнь между моей бабушкой и дядей Колей, которые приходились ей суровой сестрой и мягкотелым мужем. Когда он умер, Сарра, потеряв и без того хрупкую связь с реальностью, перебралась в сумасшедший дом, где пациентов привязывали к кроватям без простыней.
Отец ее оттуда вытащил и перевез в Ригу. Тете Сарре было все равно. Она не узнавала даже меня, я ее – тоже. Высохшая, как стручок неизвестного растения, она никак не походила на мою смешливую тетку, которая “махерила” с взятками, играя со мной в “66”. Собственно, из-за нее я научился считать раньше, чем читать. Теперь Сарра молча сидела на кушетке и ждала, когда ее отравят. Чтобы предупредить покушение, она ела только крутые яйца, которые сама себе варила. Весть о переезде она приняла нервно: долгим, ни к кому не обращенным криком без слов. Мы приняли это за “да”, потому что ни у нас, ни у нее не было другого выхода.
С остальным было не проще. Нам предстояло разрушить устоявшуюся за полвека жизнь и прокутить ее руины. Власть обменяла имущество, накопленное тремя поколениями, если считать фарфоровую балерину Ульянову, доставшуюся нам вместе с Саррой по наследству, на твердую валюту: 90 долларов на нос. Мешавшая округлить сумму десятка бесила и умиляла сразу. Ведь где-то в недрах правительства особые люди, шевеля губами, крутили ручку арифмометров, чтобы не приблизительно, а с точностью то третьего знака оценить движимое имущество эмигранта. Про недвижимое никто не заикался: ключи – в домоуправление и поминай как звали.
Нам, впрочем, и этот расклад казался царским. На доллары приходили смотреть гости. И дом разорять оказалось так же весело, как строить: субботник наоборот. Распродажа началась, естественно, с книг. Разделив библиотеку на необходимое и любимое, мы отправили тонну первого морем и принялись торговать последним. Обеспечив будущее редкими за океаном Герценом и Белинским, мы избавлялись от зачитанного, легкомысленного и англоязычного: Джека Лондона, Марка Твена, Майн Рида, Конан Дойля, О’Генри, даже Жюля Верна.
Первый же покупатель стал последним. Молодой офицер, не торгуясь, купил всё на корню за 1000 рублей, составлявших мою годовую зарплату в пожарной охране.
– Куда бы ни услали, – говорил он, лаская изодранные переплеты, – с ними я нигде не пропаду.
Окрыленные барышом, мы разбазаривали наш дом крещендо. В комиссионку шла мебель, кроме обеденного стола, посуда, кроме рюмок, опустевшие (жуткое зрелище) книжные шкафы. Один мы спустили с нашего четвертого этажа не раскрутив, отчего он, теряя на каждом лестничном пролете четверть стоимости, стал к первому этажу дровами.
Никогда – ни до, ни после – я не чувствовал себя таким богатым. Деньги казались шальными и были временными. Их срок жизни измерялся днями, как зимой у сугроба, а летом у бабочки. Каждый вечер мы провожали застольем, балуя себя молдавским коньяком и местной миногой. С утра, уже брезгуя сдавать бутылки, мы собирали диковинный скарб в дорогу. Прислушиваясь к советам бывалых, мы запасались тем, что обладало, по их сведениям, безу– словной ценностью за границей. В стандартный набор, способный ввести в ступор психиатра, входил фотоаппарат “Зенит” с цейссовской оптикой, деревянные ложки без счета, янтарь и натуральные кораллы, которые знатоки выковыривали из старинных украинских монист. Хуже всего был большой слесарный набор.
– Без него, – говорили эксперты, – нет смысла соваться на Запад.
Я так и не понял, почему, но рашпиль, тиски и струбцина заняли свое место в двух из семнадцати чемоданов. В других помещались семейный архив, кастрюля, запас белья, бабушкина перина и пищевой НЗ: не портящаяся на чужбине твердокопченая колбаса, югославские пакеты с куриным супом “Кокоша юха”, справедливо считавшимися манной эмигранта, а также елочные игрушки на первое время. С этим багажом нам предстояло отправиться на вокзал после того, как мы исчерпаем прощание торжественными проводами. Они, объединяя в себе тризну, акт граж-данского неповиновения и грандиозную пьянку, требовали мужества, здоровой печени и отчаяния. Прощаться приходили либо те, кто готовился к отъезду, либо те, кому было нечего терять. Часто это были одни и те же люди.
Оставив загашник на дорогу, мы вложили все оставшиеся деньги в водку. Не удивительно, что я ничего не запомнил, кроме спящего у входных дверей Лёвы, в обычные, а не праздничные дни торговавшего раритетами в букинистическом магазине. Присыпанный перьями из разодранной в вакханальном экстазе подушки, он, объединяя античную мифологию с христианской, походил на усопшего ангела.
На перрон нас провожала страшно помятая, будто с картин Босха, толпа. Мы шатались, пассажиры шарахались. Когда мы ввели в купе покорившуюся судьбе тетю Сарру, погрузили семнадцать чемоданов, Вайля и марксиста Зяму, провожавших нас до Бреста, я понял, что не успел сделать главного: в последний раз поваляться на диване с книжкой и сказать бабушке то, что всю жизнь хотел.
2
Поезд дальнего следования отчаливал так плавно, будто считал себя кораблем. За окном неторопливо уплывали в прошлое не успевшие опохмелиться друзья и близкие. Из виду навсегда исчезли родные шпили. Не зная, как к этому отнестись, мы отправились глушить преждевременную тоску. В вагоне-ресторане уютно бряцал судок с солянкой, но водки все равно не хватило. В Минск, где мне не довелось до тех пор бывать, поезд приходил в пять утра и стоял пятнадцать минут, но я все равно нашел у кого купить прощальные пол-литра. Я все еще был на родной земле, которая кончалась в Бресте. На границе мы наконец расстались с друзьями.
– Ариведерчи, – легкомысленно бросил Вайль, рассчитывавший нагнать нас в Риме.
Растроганный Зяма меня обнял и попросил не очернять родину.
– Думаю, она справится без меня, – высокомерно ответил я и шагнул в будущее, открыв матовую дверь таможни.
За оцинкованными, как в морге, столами чиновники лениво потрошили багаж лысого еврея. Юля и нервничая, он рассказывал им анекдоты про Рабиновича. Таможенники смеялись, но не теряли бдительности, встряхивая носки, перелистывая страницы и ощупывая швы.
Когда – и очень нескоро – дело дошло до нас, таможня начала с книг и бумаг. Заметив “Ивана Денисовича” в домашнем переплете, усатый дядька в зеленой форме посуровел.
– Солженицын, – сухо объяснил он, – к провозу запрещен.
– На Запад?
– Куда угодно.
Вслед за Александром Исаевичем в кучу запретного угодили домашний фотоальбом, дипломная работа “Булгаков и мениппея”, которой я надеялся поразить просвещенную часть Запада, и классный дневник с замечанием моей первой и до сих пор не прощенной учительницы Ираиды Васильевны. Время шло, досмотр не кончался, венский поезд уходил, а мы все еще не могли проститься с отчизной.
– Ничего страшного, – объявил старшой, – отправитесь следующим.
– В Варшаву?
– Один хрен.
Не считавшаяся полноценной заграницей Польша была паллиативом, но располагалась на полпути.
Попав наконец в поезд и оставшись без попутчиков, мы очумело озирались и, боясь пропустить польскую столицу, выскочили на остановку раньше. Осознав по беспроглядной тьме Варшаву-товарную, мы влезли обратно на ходу, пихая в спину тетю Сарру. Она не роптала. С момента отъезда к ней частично вернулся разум. Приняв эмиграцию за эвакуацию, она решила, что мы не едем к немцам, а бежим от них, притворяясь, как это было с ней в прошлый раз, цыганами.
За цыган нас и приняли на столичном вокзале. Больше всего мы боялись остаться без билета и застрять на территории Варшавского пакта. Дожидаясь утра, мы раскинули табор возле еще закрытой кассы. Пока Сарра завтракала сваренными про запас крутыми яйцами и сторожила семнадцать чемоданов, я отправился осматривать достопримечательности, не рискуя удаляться от вокзала дальше первого магазина. Мне не удалось узнать, чем он торговал, ибо витрину украшала прозрачная ваза с тысячью гвоздик: половина – белых, половина – красных. Сняв на всякий случай кепку, я отправился обратно, оставив Польшу на потом.
Когда касса открылась, мы были первыми и единственными покупателями. Буднично купив билеты на Запад и не удостоившись взгляда таможенников, знавших, что после русского шмона им нечего делать, мы сели в поезд и отправились в путь, считая границы. В Чехословакии мы купили через окно горячую сосиску – здесь еще брали наши последние рубли. Только к ночи поезд пересек австрийскую границу. Аграрный пейзаж не изменился, но я все равно высунулся в окно и втянул в себя воздух. Пахло навозом.
В Вену мы прибыли глухой ночью в состоянии полной эйфории. Стоя на перроне в чужом городе незнакомой страны с семнадцатью чемоданами и полоумной тетей на руках, мы смеялись и обнимались, пока не пришел полицейский.
“О, полицай!” – закричали мы и обняли его тоже. В участке все быстро выяснилось, и нас отправили на такси в пансион Zum Türken, где собирали других предателей. От переживаний жена заговорила с шофером на безупречном немецком, который с прохладцей учила в школе. Пораженный произношением венский таксист растрогался и решил прийти ей на помощь:
– Фройляйн, я же вижу, что вы – волжская немка. У нас, на свободе, вам больше незачем скрывать происхождение. Бросьте этих евреев, – сказал он, ткнув пальцем на заднее сиденье, – и живите на всю катушку.
3
Вернувшись в Ригу через треть века, я обнаружил, что мой квартал изменился лицом. Магазин модных платьев, который безо всяких на то оснований назывался “Лотосом”, переродился в бутик. Гастроном, где по ночам второгодник Максимов с завидной прибылью торговал водкой, больше не держит спиртного. В книжном магазине литературу и детективы продавали в разных отделах, второй, естественно, больше. На месте пышечной, но все в той же декоративной избе расположился ночной бар “Аризона”. Проходной двор вырос в молл. Магазин с хомутами торгует эротическим инвентарем. Пункт по приему утильсырья, куда я в пионерском раже таскал макулатуру, стал киоском и продавал то, что раньше покупал. В бомбоубежище устроили тир. “Палладиум” обветшал, но там всё еще показывали американские фильмы. Исчезли очереди у водочного магазина, уставленного “Рижским бальзамом” (“Неужели люди пьют его добровольно?” – спросил меня американский приятель). Нет больше “Приема стеклотары”, куда мы ходили через день, а по понедельникам дважды.
Но дом остался. Разлука его преобразила, хотя на первый взгляд ничего не изменилось. Серый и незатейливый, он по-прежнему лишен тех архитектурных излишеств, которые делают Ригу неотразимой. Здесь не было ни средневековых башенок, ни завитушек купеческого барокко, ни рубленых девизов протестантской этики (Labor Omnia Vincit), ни самодельной мифологии ар-нуво, ни стилизаций кирпичной готики, ни социалистических звезд, снопов и рогов изобилия. Собственно, на фасаде вообще ничего не было, кроме цемента и окон без наличников. Однако именно это обстоятельство и делало его минималистским памятником функционального зодчества, провозгласившего орнамент преступлением. Теперь мой дом красовался на всех открытках, но он уже был не моим.
Зайдя для разгону во двор, я узнал только липу. Она стала еще старше, но сохранилась лучше меня. Лужа высохла, мусор убрали. Хибару дворника запирала стеклянная дверь с непонятной, а значит финской, табличкой. Зато машина была шведской – Volvo, и хозяин на меня вежливо косился.
– Я сюда каждый день выбрасывал мусор, – объяснил я, и он перестал улыбаться.
Махнув на него рукой, я свернул в родной подъезд, но уперся в цифровой замок, куда уже не сунешь универсальную открывалку – двухкопеечную монету, да и откуда она у меня возьмется?
Найдя на табло квартиру номер 9, я нажал кнопку и, услышав “Ko, ludzu?”, сказал по-английски, что жил здесь раньше.
– Not anymore, – ответил домофон, и я, не став спорить, отправился домой, за океан, убедившись в том, что там мне и место.









































