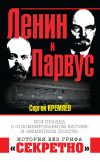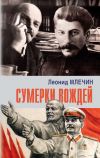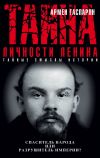Читать книгу "Катастрофа. История Русской Революции из первых рук"

Автор книги: Александр Керенский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Были подняты тысячи рук, и все они поклялись служить своей стране и Революции до самого конца. Это была действительно новая жизнь, зародившаяся в стенах Думы. Зажглись новые огни надежды и устремления, и массы как будто связывались таинственными узами. С тех пор мы пережили много прекрасных и ужасных событий, но я до сих пор чувствую великую душу народа, как и в те дни. Я чувствую эту ужасающую силу, которая может быть поведена на великие дела или подстрекаема к ужасным преступлениям. Как цветок обращается к солнцу, так жаждала света и правды вновь пробудившаяся душа народа. Люди следовали за нами, когда мы пытались поднять их над материальными вещами к свету высоких идеалов. Как и тогда, я придерживаюсь мнения, которое сейчас многим кажется абсурдным: я верю в дух народа, чьи здоровые, творческие силы выйдут в конце концов победителями, победив смертоносный яд, влитый в них за эти долгие годы, увы, не одними большевиками. Сколько было таких отравителей – большевики всего лишь оказались логичнее, настойчивее, смелее и бессовестнее остальных.
У нас было много неприятностей в те первые дни революции с заключенными в Министерском павильоне министрами, сановниками, бюрократами, генералами и полицейскими чиновниками. Некоторые эпизоды всплывают в памяти. Помню приезд Горемыкина, маленького и очень старого человека, дважды побывавшего председателем Совета Министров. Было утро; кто-то остановил меня и сообщил об аресте Горемыкина. Я пошел в комнату Родзянко, куда его привели. В углу сидел очень старый джентльмен с чрезвычайно длинными бакенбардами. Он носил шубу и был похож на гнома. Вокруг него стояли депутаты, священники, крестьяне, чиновники. Не могли отвести глаз от знаменитого Горемыкина с его цепью ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Старик нашел время, когда встал, чтобы повесить его на шею, поверх своего старого утреннего жилета. Арест Горемыкина произвел на депутатов, может быть, даже большее впечатление, чем вчерашний арест Щегловитова. Умеренные встревожились, думая, не лучше ли отпустить его. Всех интересовало, как я поступлю с этим человеком, носившим очень высокий титул «тайного советника первого класса». Я задаю ему обычный вопрос:

И.Л. Горемыкин
– Вы Иван Логинович Горемыкин?
– Да, – ответил он.
– Именем революционного народа, вы арестованы, – сказал я и, обратившись к окружающим, добавил: – Пожалуйста, вызовите караул.
Появились два солдата. Я поставил их по обе стороны от Горемыкина. Некоторые депутаты, озабоченные судьбой «его высокопревосходительства», теснее обступили упавшего и растерянного старика, пытались вступить с ним в разговор и как бы выражали свое сочувствие. Я попросил их отойти. По моей просьбе старик встал, скорбно позвякивая цепью, и я провел его в Правительственный павильон, среди почтительного молчания депутатов.
Я должен отметить, что в это время многие депутаты Думы не понимали, как глубоки гнев и негодование петроградских масс против вождей и представителей старого режима. Они не поняли, что только арестовав и проявив некоторую строгость по отношению к бывшим сановникам, мы можем удержать толпу от самосуда. Я помню, что в мое отсутствие депутаты по доброте душевной освободили Макарова, бывшего министра внутренних дел, министра юстиции и члена Сената. В бытность его министром внутренних дел 4 апреля 1912 г. на Ленских золотых приисках в Сибири произошел расстрел рабочих, вызвавший возмущение всей России. Отчитываясь об этом происшествии перед Думой, Макаров произнес ненавистную фразу, ставшую крылатой: «Так было, так будет!»
Нетрудно представить, что было бы, если бы такому министру милостиво разрешили остаться на свободе. Что было бы, если бы этой новостью воспользовались агенты-провокаторы и демагоги, уже пытавшиеся возбудить народные массы на необдуманные и кровавые действия? Это неразумное и неоправданное освобождение произошло вечером. Когда я вошел в кабинет председателя Думы, Макаров только что вышел из него с добрыми пожеланиями депутатов. Я потребовал, чтобы мне сказали, где я могу его найти, и мне сообщили, что он, вероятно, ушел на верхнюю квартиру в здании Думы, потому что боялся возвращаться домой ночью. Я тут же взял двух солдат и поспешил наверх в квартиру. Я позвонил в звонок. Дама открыла дверь и закричала от ужаса при виде штыков моих солдат. Я успокоил ее и спросил: «Макаров здесь?» Она подтвердила, и я сказал: «Отведите меня к нему, пожалуйста». Министр сидел в удобной комнате, насколько я помню, это была столовая. Я объяснил, что его освобождение было недоразумением, извинился за то, что снова побеспокоил его, и провел его в павильон.
Опять же, поздно вечером 28 февраля, я проходил по коридору к маленькому входу, ведущему в комнаты Временного комитета Думы. У дверей бывшего кабинета Протопопова кто-то подошел ко мне. Он был неотесанным и неопрятным, но лицо его было знакомым.
– Ваше Превосходительство, – в голосе послышалась знакомая нотка. – Я пришел к вам по собственной воле и прошу арестовать меня.

А.Д. Протопопов
Я пригляделся. Это был Протопопов! Оказалось, что он два дня прятался в пригороде и дрожал от ужаса. Но когда он узнал, что с арестантами в Думе обращаются хорошо и что я ими руковожу, то пришел сдаваться. По крайней мере, так он объяснил мне этот вопрос. Мы стояли у дверей его бывшего кабинета, и его еще никто не замечал. Я знал, что если о его приезде станет известно, это плохо для него кончится. Ибо этого несчастного человека в то время, может быть, ненавидели больше, чем кого-либо другого, не исключая и самого царя. Я тихо сказал:

В.А. Сухомлинов
– Вы правильно поступили, что пришли, но молчите. Идите быстро и не показывайте лица больше, чем необходимо.
Когда дверь Министерского павильона закрылась за нами, я вздохнул с облегчением.
Кажется, был вечер 1 марта. Я присутствовал на заседании Военной комиссии, когда ко мне подбежал некто бледный и испуганный и сказал:
– Сухомлинова[1]1
Военный министр при царском режиме, осужден судом за государственную измену во время войны.
[Закрыть] везут в Думу. Солдаты ужасно возбуждены.
Я выбежал в коридор. Толпа напирала, не в силах сдержать свой гнев, зловеще бормоча. Они пристально смотрели на отвратительного старика, предавшего свою страну, и, казалось, готовы были наброситься на него, чтобы растерзать. Я не могу без ужаса вспоминать кошмар этой сцены. Сухомлинова окружила небольшая охрана, явно неспособная защитить его от разъяренной толпы. Но я твердо решил, что кровопролития быть не должно. Я присоединился к охране и возглавил ее сам. Нам пришлось несколько минут идти сквозь ряды разъяренных солдат. Я должен был употребить всю силу своей воли и весь возможный такт, чтобы сдержать бушующий людской поток, который вот-вот переполнит все границы. Я поблагодарил небо, когда мы прошли Екатерининский зал. Узкий коридор, который нам еще предстояло пересечь между Екатерининским залом и боковой дверью, ведущей в главный зал заседаний Думы, был почти пуст, но в полукруглом зале у дверей Правительственного павильона солдат было больше. Именно там мы пережили самые страшные моменты. Увидев, что добыча вот-вот ускользнет, толпа решительно двинулась в нашу сторону. Я быстро прикрыл Сухомлинова своим телом. Я был последней преградой, отделявшей его от преследователей. Я кричал, что не позволю им убить его, что не позволю им так опозорить Революцию. Наконец, я заявил, что до Сухомлинова они доберутся только через мой труп. Я стоял так, защищая предателя, один против разъяренной толпы. Это был ужасный момент. Но они начали колебаться, и я выиграл. Постепенно толпа отступила. Нам удалось вытолкнуть Сухомлинова в открывшуюся за нами дверь. Мы закрыли ее и преградили путь штыками караула. В павильоне появление Сухомлинова вызвало сильное негодование среди арестованных сановников. Ни один из них не хотел сидеть рядом с ним и находиться с ним в одной комнате.
Действительно, было очень трудно уберечь этих заключенных от судьбы, которая могла их постичь. Сначала они ужаснулись тому, что может с ними стать в этой «проклятой» революции, ибо вполне сознавали свою вину. Некоторые из них, как Белецкий, Протопопов и Беляев, бывший военный министр, внушали отвращение своим трусливым поведением. Другие, как Щегловитов, Макаров и Барк, напротив, вели себя мужественно и достойно. Особенно меня поразило спокойствие и самообладание Щегловитова. Все они, конечно, были готовы к худшему. Но они скоро увидели, что наша Революция не должна быть пародией на самодержавие,
Правые обвиняли и осуждают меня за снисходительность к левым, т. е. к большевикам. Они забывают, что по выдвинутому ими принципу я должен был начать с террора не влево, а вправо, что я не имел права проливать кровь большевиков, если не пролил предварительно потоки крови в первые дни и недели революции, когда я рисковал своим авторитетом и престижем в массах, борясь против требования жестокого наказания царя, всех членов падшей династии и всех ее слуг.
Я остаюсь решительным противником всех форм террора. Я никогда не отрекусь от этой «слабости», от этой человечности нашей февральской Революции. Настоящая душа русского народа – это милосердие без ненависти. Это достояние нашей русской культуры, глубоко гуманной и проверенной долгими страданиями. Оглядываясь назад на декабристов, на Владимира Соловьева, Толстого, Достоевского, Тургенева, на благородную, упорную борьбу всей русской интеллигенции против приспешников и палачей Николая II, как могла эта русская Революция начаться со смертной казни, с характерной привычкой самодержавия, устроив «Ее Величество Гильотину»?
С верой в справедливость своего дела мы начали Революцию и стремились к созданию нового российского государства, основанного на человеческой любви и терпимости. Когда-нибудь наши надежды осуществятся, ибо в те дни все мы посеяли семена, которые принесут плоды. Сейчас наши глаза ослеплены кровавым туманом, и люди, по-видимому, перестали верить в созидательную силу любви, в силу милосердия и прощения, которые только и способствуют росту национальной жизни и культуры. Говорят теперь, что эта гуманность была просто признаком слабости революционной власти, а на самом деле требовались большая решимость и сила, чтобы предотвратить и обуздать кровопролитие, подавить в себе и других порывы ненависти и мести, которые были взращенны веками самодержавия.
Сила нашей русской Революции именно в том, что она победила своих врагов не террором и кровопролитием, а милосердием, любовью и справедливостью, хотя бы на один день, на один час. Возможно, мне все это приснилось. Возможно, эта революция никогда не существовала, кроме как в моем воображении. Но тогда казалось, что он существует. Теперь все в России ошеломлены кровью. Одни ненавидят других вплоть до взаимного уничтожения. Но это пройдет, а если не пройдет, если русский народ так и не поймет красоты и величия своего первого порыва, то мы ошиблись и наша Революция не была прелюдией к той новой жизни, о которой мы все мечтали. но эпилог умирающей культуры народа, который вот-вот навсегда исчезнет в истории.
Я помню, как первую группу царских сановников переводили из Министерского павильона в Петропавловскую крепость. Это было ночью 3 марта. Мы не хотели помещать этих заключенных в камеры, освященные страданиями многих поколений русских революционеров, от декабристов и Новикова до наших дней. Но другие тюрьмы были разрушены 27 февраля, так что Петропавловская крепость была единственным местом, где можно было безопасно поселить этих новых и неожиданных гостей. Сами стены старой крепости, должно быть, содрогнулись, приняв тех, кто еще вчера отправлял сюда на страдания и смерть самых благородных и мужественных борцов за свободу.
Город отнюдь не был спокоен, когда мы столкнулись с необходимостью перевода министров в Петропавловскую крепость. Было бы крайне небезопасно осуществлять перевод днем или при любой огласке. Поэтому я и мои непосредственные помощники, ответственные за Министерский павильон, решили произвести перевод ночью, даже не предупредив охрану. К полуночи все приготовления были закончены, и я сам уведомил заключенных, чтобы они готовились к отъезду, не сказав им, куда они идут и зачем. Это были Щегловитов, Сухомлинов, Курлов, Протопопов, Горемыкин, Белецкий, Маклаков и Беляев.
Тайна переезда и враждебные лица солдат наполнили сановников ужасом. Некоторые из них потеряли последние остатки самообладания. Щегловитов был очень спокоен, но внутренне, вероятно, сравнивал свои ощущения с ощущениями многих своих жертв, которых таким же образом глубокой ночью забирали из Петропавловской крепости или какой-либо другой тюрьмы к месту казни. Протопопов еле держался на ногах, а кто-то другой, кажется, Беляев, вполголоса умолял меня сказать ему сейчас же, не ведут ли его на расстрел.
Я подумал о Горемыкине и подошел к нему. Он еще не надел свою шубу, и я заметил, что орденская цепочка уже не висела у него на шее.
– Что с вашим орденом? – спросил его я.
Старик заволновался и смутился, как школьник перед своим хозяином, но промолчал.
– Его у вас забрали? – настаивал я.
– Нет, – ответил он.
– Тогда, где же он?
Наконец бедняга дрожащим голосом расстегнул пальто и жилетку и стал вытаскивать из-под рубашки цепочку. Он знал, что ему не разрешат брать в тюрьму лишние вещи, но не мог расстаться со своей игрушкой. Я сделал исключение и позволил ему взять с собой свою драгоценную цепочку.
Перевод министров напомнил мне мой разговор с Щегловитовым 27 февраля, тотчас же по прибытии его в павильон. Он был еще совсем один, и я предложил ему, что если он питает хоть какую-то любовь к своей стране, если он хочет искупить вину за прошлое или желает хоть в этот час оказать России хоть одну достойную услугу, то он должен позвонить в Царское Село, или в любое другое место, которое он сочтет нужным, сообщить властям, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и призвать их сдаться народу. Но это он решительно отказался сделать.
Теперь я вернусь к событиям 28 февраля.
Я уже указывал, что прибытие войск гарнизона, всей гвардии, включая личную охрану царя, укрепило позиции Таврического дворца. Сопротивление полиции на улицах ослабевало, хотя в пригородах продолжалась частая стрельба. Это не давало нам повода для беспокойства, но наше положение в провинции было еще неясным, особенно в Москве, откуда мы еще не получали никаких известий. Обстановка в общем еще не была определена, и передвижения и поведение Николая II все еще оставались для нас загадкой. Почему он уехал из Ставки в Царское Село? Я думаю теперь, что он уехал в Царское, не сознавая абсолютной безвыходности положения, надеясь, быть может, умилостивить Думу уступками, а может быть, поехал повидаться с семьей, которой был предан, ибо большинство ее членов болело в то время.
Однако тогда это не казалось таким простым. В любом случае мы были вынуждены принять меры, так как не могли позволить царю приехать в Царское Село, так близко от столицы. Если бы он не мог или не захотел бы сам организовать какое-либо сопротивление, нашлись бы другие, которые могли бы попытаться его использовать. Временный комитет Думы постановил не пропускать царский поезд в Царское, а задержать его в пути и вести с ним переговоры в пути. Все понимали, что его отречение было необходимым и неизбежным. Уже в начале зимы в высших кругах зародились планы государственного переворота. Некоторые из этих планов были известны в армии, и все они были связаны с отречением Николая II от престола.
Наш комиссар Бубликов внимательно следил за царским поездом. Кратчайший путь из Могилева в Царское Село лежит через Витебск и Дно, дорога занимает от четырнадцати до шестнадцати часов. Царь выехал из Могилева утром 28 февраля. Временный комитет Думы приказал остановить поезд на станции Дно. Время шло. Была полночь. Мы слышали, что поезд направлялся в Псков, в штаб Северного фронта. Это означало, что царь намеревался обратиться к армии. Не помню, сколько часов длилась эта игра в кошки-мышки, но вчерашние «мыши» показали немалую ловкость в ловле своего «кота». Увидев, что дорога в Дно заблокирована, царь приказал поезду следовать в Бологое, где открывались две дороги – одна на Москву, другая на Петроград. Мы приказали перерезать дорогу в Бологом. В первый раз царь и его свита поняли, что им уже нельзя ехать, куда им вздумается, и ощутили силу, находившуюся теперь в руках ненавистной Думы. Из Бологого императорский поезд возвращался в Дно, откуда следовал в Псков. Я не помню, прибыл ли царский поезд в Псков на рассвете 1 или 2 марта. Кажется, это было все же четырнадцатого числа, хотя я смутно припоминаю, что в этот день Родзянко пытался связаться по телефону с царским поездом. Но, может быть, это царь пытался выйти на связь с Родзянко из Пскова. Впрочем, это не имеет большого значения, ибо к утру 2 марта генерал Русский, командующий Северным фронтом, не только получил от Родзянко телеграмму, объявлявшую от имени Думы, что государь должен отречься от престола, но уже обсудил этот вопрос по телефону с генералом Алексеевым в Ставке. Армия не воспротивилась отречению царя. Несмотря на формальное предложение царю отречься от престола в пользу своего наследника и сделать регентом великого князя Михаила Александровича, брата царя, судьба династии уже была решена. Я не хочу сказать, что Родзянко и другие члены Временного комитета намеренно обманывали Николая II, когда просили его отречься от престола на этих условиях. С другой стороны, я думаю, что утром 1 марта они были искренне убеждены, что можно будет объединиться с Михаилом Александровичем для спасения России. Но они обманывали себя. Я, например, ни на минуту не поверил, что этот план может быть реализован, и поэтому пока не стал возражать. Логика событий оказалась сильнее всех планов и предложений.

Великий князь Михаил Александрович
Я хочу отметить здесь, что все меры, предпринятые для перехвата царского поезда и изоляции его от связи с фронтом с целью заставить его отречься от престола, были предприняты без какого-либо давления со стороны Совета, хотя к вечеру 28 февраля Совет уже чувствовал, что достаточно сил, чтобы начать функционировать как авторитетная организация на основе равенства с Временным комитетом Думы. Военная комиссия Совета уже конкурировала с Военной комиссией Думы, издавая различные самостоятельные приказы. В ответ на приказ полковника Энгельгардта гарнизону был издан знаменитый «Приказ № 1», написанный в ночь на 1 марта. Я подробно рассмотрю этот приказ позже, а пока отмечу только время его издания. Я также должен отметить, что этот приказ относился только к петроградскому гарнизону и имел не больше и не меньше авторитета, чем приказы полковника Энгельгардта. Я подчеркиваю эти факты, потому что «Приказ № 1» был использован как сильное орудие нападения на Временное правительство и на меня в частности. Не вступая в данный момент в обсуждение его содержания, я хотел бы сказать раз и навсегда, что ни Временное правительство (которое еще не было сформировано), ни я не имели к этому приказу никакого отношения. Интересно отметить, что я лично впервые прочитал текст этого приказа в Лондоне, в конце 1918 г. Этот приказ явился одним из следствий особого состояния раздробленности и безвластия в Петроградском гарнизоне, а ни в коем случае не их первопричина, в чем его обвиняют.
28 февраля, 1 и 2 марта нехватка офицеров очень осложняла положение. Солдатская масса, освобожденная от уз дисциплины и повседневности, становилась своенравной и неуправляемой. Кроме того, солдат будоражили бесчисленные слухи о предполагаемых контрреволюционных заговорах со стороны офицеров (большая часть которых скрылась) и со стороны высшего армейского командования. Агитаторы внесли свою лепту в натравливание рядовых на офицеров. Должен, однако, сказать, что все ответственные элементы, от Родзянко и Исполкома Думы до Чхеидзе и Исполкома Совета, изо всех сил старались положить конец беспорядкам в петроградском гарнизоне и спасти офицеров от линчевали. Чхеидзе, Скобелев и другие члены их Исполнительного комитета неоднократно выступали перед солдатами, чтобы опровергнуть ложные слухи о контрреволюционных наклонностях офицерства и убедить в необходимости единства и доверия. Мы с Чхеидзе обратились с сообщением в гарнизон, в котором указывалось, что некое воззвание против офицеров, изданное якобы руководителями социал-демократической и эсеровской партий, было заведомо подложным, сфабрикованных агентами-провокаторами. Офицеры петроградского гарнизона вскоре приняли резолюцию о своей верности Революции и Думе. Резолюция была подписана Милюковым, Карауловым и мной. Резолюция была широко распространена, и я завершил свою первую речь в качестве министра юстиции призывом к солдатам повиноваться своим офицерам и подчиняться дисциплине.
Словом, говорить, что кто-либо из членов правительства сеет рознь между офицерами и солдатами, есть либо прямая клевета, либо полное непонимание фактов. Полковник Энгельгардт, Гучков, Караулов, Родзянко, Чхеидзе и я, а также все, кому приходилось иметь дело с петроградским гарнизоном в первые дни революции, вынуждены были в силу особых обстоятельств в Петрограде говорить не об офицерах вообще, а только об офицерах, верных народу и революции. Не мы, а ситуация заставила провести эту грань. Вскоре все эти недоразумения исчезли, но оставили шрамы, которые не стереть.
С первых же дней революции агенты-провокаторы, немецкие агенты и освобожденные на волю заключенные стали разжигать направленные против нас страсти. Чтобы понять опасность и действенность этой агитации, следует вспомнить, что одно только полицейское управление имело несколько тысяч агентов и агитаторов, шпионов и доносчиков, действовавших среди рабочих, войск и интеллигенции Петрограда. И там было немало вражеской агентуры. Эти джентльмены усердно трудились, распространяя анархию и беспорядок. Они печатали и распространяли призывы к резне, сеяли ненависть, усугубляли недоразумения и распространяли слухи, которые, несмотря на их ложность, не оказались так уж незначительны по воздействию на население. Мне сообщили (кажется, 1 марта), что кипы прокламаций самого нелепого характера, призывающих к резне и анархии, и якобы подписанный социал-демократической партией, был доставлен в помещение Совета. Предварительно заметив несколько подозрительных лиц, прятавшихся по советским кварталам, я отправился туда и действительно нашел множество самых постыдных прокламаций, напечатанных хорошим шрифтом и на хорошей бумаге, явно исходивших от полиции. Я их, конечно, тут же конфисковал, но мы не смогли вовремя перехватить все такие документы, так как слишком много негодяев работало над их распространением.
Одновременно распространялись «достоверные» сведения о революции в Германии вместе с призывом протянуть братскую руку восставшему германскому пролетариату. Революция в Берлине в марте 1917 года! Сколько простодушных людей восприняли эту новость добросовестно! Даже честные люди разъезжали по городу на автомобилях, распространяя объявления об этой мифической революции. Массы поверили этому слуху, потому что сердца многих тысяч уже пылали верой в то, что русская революция зажжет огонь братства в сердцах всех трудящихся мира и что по общему порыву рабочие и крестьяне всех воюющие страны положат конец братоубийственной войне.
Было бы большой ошибкой приписывать это пацифистское движение исключительно невежеству одних и предательству других. Ибо была искренняя вера в международную солидарность рабочих классов, весьма желанная, но не имевшая реальных оснований. Воображение русского социалиста, будь он рабочим или интеллигентом, создало собирательный образ «французско-британско-немецкого социалистического рабочего», которого не существовало нигде в трезвой, практичной, материалистической Европе. Этот воображаемый европейский пролетариат был просто идеализированным образом по подобию простого русского рабочего и интеллигента, т. е., голодного мечтателя, у которого нет на земле уголка, где он мог бы преклонить голову. Но на самом деле в распоряжении простого рабочего человека в Западной Европе много сытости и комфорта. Это может показаться парадоксальным, но это правда: русский пролетариат во сто раз меньше ненавидел бы и боролся с буржуазией и интеллигенцией у себя дома, если бы знал, что во всей Европе, во всей природе нет таких социалистов и такого социализма, как он и его вера. Но он этого не знал, и потому горел фанатичной верой в немедленное осуществление социалистического тысячелетия во всем мире, пока пламя его веры не уничтожило его и его несчастную страну. Все трагические явления, развернувшиеся в России после великой Революции, не были выражением первобытных сил варварства, как думают некоторые видные иностранцы и даже многие из представителей «культурных» классов России – за ними в действительности стоял комплекс гораздо более сложных материальных и духовных причин.
Утром 27 февраля Родзянко отправил вторую телеграмму Николаю II. В нем были следующие слова: «завтра может быть уже поздно». Это пророчество точно исполнилось. В ночь на 28 февраля стало совершенно ясно, что спасать династию уже поздно и что семья Романовых навсегда исчезла из русской истории.
К ночи 1 марта перед нами стояла только одна трагическая проблема: как спасти Россию от быстро распространяющегося распада и анархии. Перед лицом этой ситуации и задач, стоящих перед народом на фронте, необходимо было дать стране новое правительство. Оно не могло позволить себе проплыть без правительства и часа, а между тем уже три дня прошло без верховной власти, так как правительство князя Голицына и Протопопова к утру 26 февраля было парализовано. Дальше медлить было нельзя, ибо процесс распада шел с молниеносной скоростью, грозя уничтожить всю административную машину. При разрушенном административном аппарате ни одно правительство не смогло бы справиться с ситуацией. То, что произошло, действительно очень близко подошло к такому разрушению. Хотелось ускорить необходимые действия, заставить быстро принять решение. Задача требовала творческой работы, а не дискуссий. Он призывал к риску, а не к расчету. Было тягостное ощущение, что каждая минута промедления, нерешительности и ненужных расчетов – это невосполнимая потеря. Каждая минута в те дни стоила месяцев и лет обычного времени, и все же многие минуты были потрачены впустую. Вихрь захлестывал простой человеческий разум, и ход событий оставлял его позади на все увеличивающейся дистанции.
Однако к утру 1 марта основные черты нового правительства и его программы были уже намечены жирным шрифтом, и вслед за этим представители высших классов и буржуазии начали вести переговоры с демократией в лице Исполнительного комитета Совета. Я не могу дать отчет об этих переговорах, так как принимал в них мало участия. В тех редких случаях, когда я присутствовал, я сидел довольно пассивно и почти не слушал. Было спроектировано временное правительство, почти полностью состоящее из «буржуазных» министров, с двумя портфелями, зарезервированными за Советом. Временный комитет Думы предложил Чхеидзе министром труда, а меня министром юстиции. Эта довольно односторонняя установка была выдвинута из-за господствовавшей еще иллюзии, что на какое-то время думское большинство и вообще правящая верхушка сохранят власть и авторитет в стране.
Приглашение Временного комитета Думы прислать двух представителей в состав проектируемого правительства обсуждалось Исполнительным комитетом Совета в течение дня, 1 марта. Именно по этому поводу была принята упомянутая мною уже вкратце резолюция, объявлявшая, что представители революционной демократии «не могут вступить во Временное правительство, потому что правительство и вся революция буржуазны». Какие доводы приводили книжники и фарисеи социализма, чтобы склонить Исполнительный комитет к этому решению? Я не знаю. Но когда я услышал об этом, мне это показалось совершенно нелепым, ибо было очевидно, что вся реальная власть находится в руках самого народа.
1 марта передо мной встал болезненный вопрос: выходить мне из Совета и оставаться в правительстве или оставаться в Совете и отказываться от участия в правительстве. Оба варианта казались мне невозможными. Дилемма глубоко засела в моей голове, а решение созрело как-то само собой, ибо не было ни времени, ни возможности обдумывать проблему в суматохе дня.
В тот же день общее положение вновь вызывало беспокойство. Ходили туманные сообщения о какой-то катастрофе в Кронштадте. В Петрограде хулиганы напали на офицерскую гостиницу («Асторию»), врывались в комнаты, приставали к женщинам, совершали грабежи. В то же время известие о прибытии генерала Иванова и его войск в Царское Село быстро распространилось по столице и Думе, и, хотя повода для опасений на этот счет не было, толпа в Думе явно нервничала и волновалась из-за неопределенности ситуации. Около одиннадцати часов утра пришли присягнуть Думе Великие Князья, в том числе Кирилл, нынешний «претендент» на престол, Николай Михайлович и другие. Войска продолжали брататься с народом. Стрельба ослабла, и, несмотря на отдельные акты насилия, какой-то порядок был восстановлен. Была создана городская милиция и даже канцелярия революционного префекта. Усердно работали над восстановлением дисциплины в гарнизоне – в работе принимал участие и Гучков, который на следующий день стал военным министром.
Тем временем Революция в своем размахе распространилась на провинцию. Хорошие новости пришли из Москвы, где, как сообщил один из очевидцев, «все прошло как по маслу». Москва прощалась с прошлым радостно и дружно. Помню, как, приехав в Москву, 7 марта, я почувствовал, что не могу напиться чистого, свежего воздуха России, в котором так нуждался зараженный интригами и предательством Петроград.
Со всех концов России, из больших и малых городов приходили новости о наступлении Революции. Движение было уже всенародным. Тем больше было оснований торопиться с организацией нового правительства и расчисткой остатков старого. К вечеру 1 марта мы вовсю работали над составлением манифеста Временного правительства, которому завтра предстояло принять бразды правления. Мы были озабочены только созданием департаментов исполнительной власти. Вопрос о высших органах исполнительной власти Временным комитетом не обсуждался, ибо большинство комитета считало решенным, что великий князь Михаил примет регентство в период несовершеннолетия Алексея. Однако в ночь на 2 марта все без исключения согласились с тем, что Учредительное собрание должно «определить форму правления и конституцию страны», так что даже конституционные монархисты, которые утром 3 марта все еще поддерживали регентство, уже согласились с тем, что только народ имеет верховную власть и имеет исключительное право определять будущую российскую конституцию. Таким образом, монархия была отвергнута и единодушно отправлена в архивы истории.