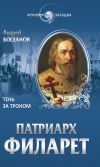Текст книги "Век Филарета"

Автор книги: Александр Яковлев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
Глава 2
Крестьянский вопрос
В 1860 году вышел в свет русский перевод Четвероевангелия, а в духовных академиях продолжали работать над переводом остальных книг Нового Завета. Дело русской Библии стронулось с места, и стало очевидным, что поворота вспять не случится.
Между тем событие, ещё недавно взволновавшее бы весь народ, ныне оказалось всего лишь в одном ряду с иными преобразованиями, начатыми в новое царствование. Первым из них было освобождение крестьян.
Дворянская Россия два года переживала все перипетии работы уездных и губернских комитетов, вынесших помещичьи проекты решения вопроса на обсуждение редакционных комиссий. Немногие умные головы догадывались, что решение предопределено царём, что горячие речи и многочисленные проекты не более как выпускание пара из первого сословия империи. Убедившись в нежелании дворянства поступиться частью своих прав, Александр Николаевич передал всё дело в руки петербургской бюрократии – министра внутренних дел Ланского, его правой руки – Николая Милютина и других горячих эмансипаторов – князя Черкасского, Юрия Самарина. Именно они вели дело не только к юридическому освобождению двадцати миллионов крестьянских душ, но и к наделению мужиков землёю. Лишаться ещё и земли помещики не желали.
Борьба шла в Петербурге упорная. Партию эмансипаторов возглавлял младший брат государя, великий князь Константин Николаевич, противостояли ему министр юстиции граф Панин и сам председатель Государственного совета престарелый князь Орлов. Государь выслушивал аргументы обеих сторон и не мог не признавать основательность тех и других. С одной стороны назревал крестьянский бунт, с другой – дворянский мятеж. И в том и в другом случае опасность грозила не только ему самому, но и стране, великой империи, во главе которой он был поставлен Божиим произволением.
Сорокадвухлетний император подчас впадал в отчаяние, но о том знали только его жена и духовник. И Мария Александровна, и отец Василий Бажанов, призывая к терпению и стойкости, уповали на милосердие Божие, на молитвы святителя московского Филарета.
1860 год выдался нелёгким для государя. Александр Николаевич по характеру был добр и мягок, а управление огромной империей вынуждало его постоянно к принятию решений, к выбору, результат коего нёс зачастую крушение многих надежд, а иногда случался и жестоким. И потому в ночных молитвах своих царь просил Всевышнего вразумить его и придать ему твёрдости. Судьба не спрашивает нас, готовы ли мы к несению того или иного бремени, а просто взваливает его на наши плечи – и тащи, покуда достанет сил…
Год начался болезнью и кончиною верного помощника генерала Ростовцева, твёрдою рукою проводящего в главной редакционной комиссии курс на освобождение крестьян с землёю. Радости крепостников не было предела. Уступая им, государь поставил на место Ростовцева графа Панина, одного из ярых противников эмансипации. Мало кто знал, что Александр Николаевич при назначении объявил графу свою твёрдую волю: вести дело в комиссии так, как было при Ростовцеве, и верноподданный граф мгновенно переменил фронт.
К счастью, к этому времени в Петербург из длительного плавания вернулся великий князь Константин Николаевич, на которого у государя были определённые виды.
В один из майских дней 1860 года в квартиру студента Александра Скабичевского, отсыпавшегося после вчерашней пирушки, вбежал некто странный в серо-зелёном халате и таком же колпаке. Хозяин оторвался от горшка с огуречным рассолом, принесённым сердобольной кухаркой, уставился на нежданного гостя и вдруг посерьёзнел, спустил ноги с кровати. Хмель сошёл.
– Писарев! Ты?! Как же так?
– Ты один? – отрывисто бросил гость и сосредоточенно оглядел комнату и крошечную прихожую Скабичевского, давно, впрочем, ему известные. – У тебя никого нет?
– Да кто у меня может быть… – растерянно начал Скабичевский, не зная, что делать. Но гость точно был друг Дмитрий, правда, пожелтевший лицом, с неряшливой, клочковатой бородкою, в нелепой одежде и с совершенно дикими глазами.
– Стой! – застыл вдруг Писарев. Медленно двинулся к входной двери и распахнул её. С лестницы потянуло запахом кислых щей. – Они где-то здесь…
– Тебя отпустили?
– Нет. Я сбежал. Пока Штейн делал обход больных, выпрыгнул в окно – и к тебе.
Скабичевский опешил. Подбирая слова, чтобы не спугнуть больного, он нарочито бодро сказал:
– Послушай, Писарев, а может, тебе вернуться в лечебницу?
Тщедушная фигурка в халате надвинулась на него.
– Вернуться? Они убьют меня!.. Я всё время жду, что они меня измучают и живого зароют в землю. Страшно! Я не хочу! Помоги мне!
Совсем недавно Писарев писал матери: «Ради Бога, мама, прочти это письмо… Если тебе сколько-нибудь дорого знать состояние моей души, выслушай меня спокойно и верь искренности моих слов, хотя бы они показались тебе странными… Я стал сомневаться и наконец совсем отверг вечность собственной личности, и потому жизнь, как я её себе вообразил, показалась мне сухою, бесцветною, холодною… Я нахожусь теперь в каком-то мучительном, тревожном состоянии, которого причин не умею объяснить вполне и которого исхода ещё не знаю. Мама, прости меня, мама, люби меня…»
Но как было сказать милой маме все, если он и сам боялся признаться себе в непонятном, но реальном и страшно мучительном перерождении. Вошедший в него скептицизм подчинил всего. Писарев усомнился в существовании дня и ночи, которые сливались для него в нечто серое с огненно-красной точкой, к которой надлежало идти, ибо там была истина. Всё, что ему говорили однокурсники и друзья, он мерил своей новой мерой и всем им перестал доверять. Да что друзья, – луна и солнце на небе виделись декорацией, частицей мистификации, устроенной, чтобы не допустить его к огненно-красной истине. Когда же лучший друг Николай Трескин стал подозревать его в краже книг из отцовской библиотеки и организовал слежку – о, он сразу их раскусил! – Писарев перестал выходить из дома, ведь на улице могли схватить и отвести в тюрьму!..
В минуты просветления Писарев думал о матери, от неё одной ожидая спасения. «Ради Бога, мама, прости меня, напиши ко мне. Ты не можешь себе представить, до какой степени тяжело чувствовать себя одиноким, отчуждённым от тех людей, которых любишь очень сильно и перед которыми глубоко виноват. Ты бы пожалела обо мне, друг мой мама, если бы знала, как я жестоко наказан за свою самонадеянность, за свой грубый эгоизм…»
Он писал письма и аккуратно складывал стопочкой на комоде. Надо было бы отнести на почту, но что-то внутри удерживало. А вдруг мать помешает достигнуть желанной цели, ставшей единственным смыслом его жизни. По ночам огненно-красное приближалось, светило, грело…
Обеспокоенные друзья позвали врача, без труда поставившего диагноз: тихое помешательство. Друзья обратились к университетскому начальству. Некогда отличного студента на казённый счёт поместили в хорошую лечебницу доктора Штейна близ Таврического сада. Доктор лечил его тёплыми ваннами, прогулками на воздухе, ежедневными гимнастическими упражнениями и приёмом железа внутрь. За полгода, к весне, состояние больного медленно улучшилось, хотя после посещения приходского священника он всякий раз впадал в сильное волнение, и потому доктор огородил его от приходов попа. После этого за первую неделю апреля Писарев то пытался повеситься (оборвалась верёвка), то отравиться, выпив целую чернильницу чернил (обошлось промыванием желудка).
– …Ты не выдашь меня? – Писарев робко посмотрел в глаза Скабичевскому. – Я бежал всю дорогу. Боялся, что догонят!
– Не бойся, – мягко сказал тот. – Я никому тебя не выдам.
– Ты напишешь маме?
– Напишу.
– Мама увезёт меня отсюда… – вяло продолжал Писарев, разом обмякший и ослабевший. – Мы поедем домой…
И вдруг упал в глубоком обмороке.
Варвара Дмитриевна Писарева вскоре увезла своего горячо любимого Диму в семейное имение Грунец Новосильского уезда Тульской губернии, надеясь, что он переведётся в Московский университет и не вернётся в Петербург. Пока же всё лето Дмитрий разгуливал вечерами по усадьбе и деревне в костюме из ярко-красного ситца (из какого бабы шьют сарафаны), а днём с нечеловеческой быстротой писал важный философский трактат, покрывая мелким, бисерным почерком по двадцати страниц в день.
Мало кто в столице и немногие в университете знали о болезни студента Писарева, такой ничтожной величиною он виделся в ходе ускорившегося исторического развития России. Но скоро, совсем скоро и он внесёт свой вклад в это ускорение.
Решившись уступить помещичьей партии, император опасался гнева разочарованных мужиков. Направить их готовы в нужном направлении могли бы сельские священники, но московский старец-митрополит упорно противился втягиванию Церкви в государственное дело. Александр Николаевич смог убедить в важности сего главу Синода митрополита петербургского Григория, человека умного и деятельного, но тот вдруг скоропостижно скончался в июне. Новый первоприсутствующий митрополит Исидор, призванный из Киева, оказался боязлив и осторожен, не возражая государю, тянул время и не давал определённого ответа.
Каждодневная и упорная борьба шла в Главном комитете по крестьянскому делу, главой которого император поставил брата Константина. Слава Богу, у того доставало терпения и сил на споры с занудой Паниным и явными главарями помещичьей партии князем Орловым и князем Гагариным.
Москва жила слухами, а пока готовилась к зиме. В Замоскворечье, Сокольниках и за Калужской заставой хозяйки в купеческих и мещанских домах закупали у огородников огурцы и капусту для соления; сушили грибы, закладывали картошку, репу, свёклу, морковь, брюкву, а крепкие сорта яблок, переложив соломою, укладывали в бочки. Ребятишки хрустели боровинкою или антоновкою, а то и кочерыжкою.
На Пречистенке, Остоженке, Арбате, Поварской оживали дворянские особняки. Возвратившись из поместий, иные хозяева зачастили в Опекунский совет, а другие готовились к осенним балам, положившись в делах на волю Божию.
Пришедшему на митрополичье подворье протоиерею Иоанну Борзецовскому первый встреченный послушник сказал, что нынче приём отменен, владыка болен. А дело отца Иоанна, настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, не терпело отлагательства. Прошло уже несколько месяцев, как стараниями прихожан собраны были деньги на возобновление холодного храма. Требовалось одобрение владыки на рисунках икон. Уже и мастеров нашли, и материалы закупили, а начать не смели.
Отец протоиерей на всякий случай вошёл в приёмный покой и обратился к секретарю митрополита Николаю Васильевичу Данилову.
– Не могли бы вы как-нибудь передать высокопреосвященному сии рисунки?.. Не сомневайтесь, всё составлено по канонам!
– О чём вы просите, батюшка! – с досадою ответил Данилов. – Владыка не встаёт с постели и просил послать за доктором!
– Виноват… – тяжело вздохнул настоятель. – Дело-то стоит… Боюсь, мастеров у нас переманят.
Всё же отец Иоанн медлил уходить, приметив, что секретарь задумался.
– Покажите мне, батюшка, ваши рисунки, – неожиданно попросил он. – Так… так… Алексей, можно доложить владыке об отце настоятеле.
– Не смею, не приказано, – ответствовал молодой послушник и с укором глянул на отца Иоанна.
Батюшка смутился. И чего он, в самом деле, лезет к больному митрополиту! Ну, замедлится возобновление холодной церкви – велика ли беда? Значит, такова воля Божия… Уходить надо…
И всё-таки стоял, ожидая ушедшего во внутренние комнаты секретаря. Данилов вернулся через несколько минут и объявил:
– Пожалуйте, владыка вас просит.
– Что вы сделали? – испугался отец Иоанн. – Я лишь передать хотел… Ну чего я буду тревожить больного? Моё дело неважное и не к спеху!..
– Пожалуйте, пожалуйте, после поговорим, – с непонятной полуулыбкою отвечал секретарь. – Уложитесь в десять минут.
Перекрестившись и сотворив молитву, со страхом миновал настоятель комнату с огромным зеркалом, с большим образом преподобного Сергия и портретом покойного митрополита Платона, открыл дверь, раздвинул тяжёлые малиновые портьеры и вошёл в кабинет. На диване с высокою деревянною спинкою лежал митрополит в холщовом коричневом подряснике, укрытый овчинным полушубком.
– Что у тебя, покажи, – слабым голосом спросил он, с трудом поднимая голову с высокой белоснежной подушки.
Протянутую кипу бумаг и рисунков принял с явной неохотой, но стал разбирать.
– Доброе дело делаете, доброе… Подай мне перо.
Отец Иоанн дрогнувшей рукою взял со стола одно из хорошо очищенных перьев, обмакнул в чернильницу и протянул митрополиту. В верхнем углу прошения тот аккуратно написал: «Дозволяю. М.м. Филарет» – и небрежно отложил бумагу.
– Премного благодарен вам, высокопреосвященнейший владыко! – с чувством сказал настоятель. – Не смею долее утомлять вас…
– Ты погоди… – голосом потвёрже ответил митрополит, разглядывая рисунки. – Этот вот для какого ряда иконостаса?
– Для верхнего, владыка. Образ Пресвятыя Троицы.
– Вижу. Слишком живо написано, благолепия недостаёт… В иконописи мы применяемся к обыкновенному восприятию человеческому, но видимое понимать надо духовным и высшим образом. Как в Писании сердце Божие значит благость или любовь Божию, так и на иконе руки Божии означают всемогущество… а тут кулачищи мужицкие. Исправить следует…
– Непременно, владыка! Так я пойду…
– Погоди. Ты присядь на стул… Образ Рождества Христова хорош. Смотри, чтоб на икону точь-в-точь перенесли… – Филарет отставил руку с картоном и, дальнозорко вглядываясь в рисунок, обратился к настоятелю: – Тут что хорошо – радость чувствуется! Рождение всегда радостно, потому что представляет торжество жизни. Тут же радость не одним родителям, не одной стране или роду – радость беспредельная, простирающаяся от неба до ада, всем людям вовеки!..
– Я было смутился, владыко, – решился вставить слово отец Иоанн, – что вместо осляти нарисована лошадь, а богомазы стоят на своём, дескать, так издавна принято.
– Оставь, – чуть махнул ладонью митрополит и, покряхтев, присел на диване, откинувшись на подушку, – А образ святителя Алексия-куда повесишь?
– Между окном и правым клиросом.
– Да у тебя ж там темно. Никто и не увидит.
– А мы, владыка, спилили росший рядом вяз, он тень давал, теперь намного светлее стало.
– Тогда ладно. Хорошо, что чтишь память митрополита нашего и чудотворца… Весь путь его – великое поучение для нас. Для исцеления агарянской царицы предпринял он путь в страну, омрачённую зловерием, подобно евангельскому Пастырю, оставил девяносто и девять овец ради одной заблудшей – сие заметь… Могло быть искание тщетно, но Дух Божий даровал ему силу для открытия очей телесных и просвещения искрой света духовнаго. Так ли мы с тобою, отец, поступаем?.. Иные пастыри играют себе на свирели, предками настроенной, иные превозносят искусство слова, третьи полагают всё дело священника в служении по древнему чину. Всё сие необходимо и спасительно, да не упустить бы познания о внутреннем состоянии овец, нам вверенных. А это у тебя апостолы…
Пятидесятилетний настоятель, четверть века прослуживший по московским храмам, воспитавший четырёх сыновей и трёх дочек, узнавший жизнь так, как может знать её умудрённый годами и тысячами людских исповедей священник, вдруг почувствовал себя юным учеником. С радостной готовностью школяра он внимал словам святителя, заглядывал в блестящие глаза, ощущал глубину мысли и силу чувства, стоящих за словами, в интонации Филарета, что невозможно передать на бумаге. Задав смущавший его вопрос о предопределении Божием, он вызвал владыку на долгое рассуждение об изначальном назначении человека к вечному блаженству и о своевольном уклонении человека от оного, с цитатами из Писания и отцов церкви. Память не изменяла семидесятивосьмилетнему митрополиту, слово оставалось сильно и увлекательно.
На вышедшего наконец из митрополичьих покоев отца Иоанна, вытиравшего пот со лба, с улыбкой обернулся секретарь.
– Что с вами?
– Ничего, – опешил протоиерей.
– Как – ничего! Час и двадцать минут вы держали больного митрополита и без сомнения утомили его.
– Напротив, это он держал меня и, слава Богу, кажется, ободрился.
– Теперь вы понимаете, почему я втолкнул вас к больному? – снова улыбнулся Данилов. – Не любит владыка болеть. Надобно дать ему дело, чтобы отвлечь от болезни. Занятия для него нужнее и благотворнее медикаментов.
1 января 1861 года великий князь Константин записал в дневник: «Вот начался этот таинственный 1861-й год. Что он нам принесёт?.. Крестьянский вопрос и вопрос Славянский должны в нём разрешиться… Может быть, это самая важная эпоха в тысячелетнее существование России. Но я спокоен, потому что верую и исповедую, что ничто не совершится иначе, как по воле Божией, а мы знаем, яко благ Господь. Этого мне довольно. На Бога надейся, а сам не плошай. Fais се que devras, advienne que pourra[57]57
Делай то, что ты должен делать, и будь что будет (фр.).
[Закрыть]. Прямо и верно. Да будет воля Твоя. Вот моя вера, вот моя религия, и затем я спокоен и уповаю на Господа Бога! Аминь».
В крещенские праздники Николай Милютин привёз в Мраморный дворец печатную корректуру высочайшего манифеста об освобождении крестьян. Усталый безмерно, но и воодушевлённый долгожданной победой, Милютин ожидал поддержки от великого князя в последней схватке с графом Паниным.
Сидели в музыкальной гостиной. Луч яркого январского солнца освещал бок чёрного рояля, узкую полоску на ковре и высокую вазу севрского фарфора, подаренную великому князю императором Наполеоном III. Милютин здесь уже бывал – не раз слушал игру Константина Николаевича на виолончели – и потому чувствовал себя свободно.
– Изволите видеть, ваше императорское высочество, – горячо докладывал он, – графу отчего-то не понравился текст манифеста, составленный мною и Самариным. Спрашиваю, что же именно неудовлетворительно – разводит руками, но в таком виде отказывается принять.
– Да, мне он писал, – сказал Константин Николаевич, тяготясь необходимостью сказать неприятное человеку достойному. Обиду Милютина как не понять: манифест войдёт в историю, а равно и имя его составителя.
– Обычное стоеросовое упрямство! – в сердцах воскликнул Милютин. – Ваше высочество, объясните это государю!
– Граф был у государя, который согласился, что текст – при всех благих намерениях авторов – написан мудрено. Мужики не поймут, а ведь именно они должны понять! Вы не обижайтесь, Николай Алексеевич, тут нужна другая рука, – мягко сказал великий князь.
– Что ж, Валуеву дали переписывать? – с кривою улыбкою спросил Милютин.
– Нет. Государь согласился просить московского митрополита взяться за это дело. Признайтесь, с его красноречием трудно тягаться.
– Признаюсь, – с некоторым облегчением вздохнул Милютин, опасавшийся умного и ловкого Валуева. – А что именно ему позволено исправить?
– Так… – сделал неопределённый жест великий князь. – Поправить некоторые выражения, добавить пафоса.
Константин Николаевич лукавил. В письме графа Панина говорилось: «Государь полагается совершенно на высокий дар красноречия вашего высокопреосвященства и на ревностное усердие ваше к делу, столь важному для отечества, столь близкому к сердцу перваго пастыря нашей церкви. Руководимый сими чувствами и сим доверием, Государь представляет вашему высокопреосвященству сделать все те изменения или прибавления, кои бы вы признали соответствующими чувствам Его Величества и собственно вашим, для лучшего успеха в достижении предложенной цели…»
Тайный советник Михаил Иванович Топильский был послан в Москву с сим важнейшим поручением, равно срочным и секретным. Срочным, ибо государь вознамерился подписать манифест об освобождении в день своего восшествия на престол, и до 19 февраля оставался едва месяц; секретным, ибо разнообразные толки сильно волновали умы, и преждевременное известие могло толкнуть и мужиков, и раздосадованных помещиков на необдуманные действия. Граф Панин запретил говорить о поручении с кем бы то ни было, кроме самого митрополита и генерал-губернатора. Для переписки с Петербургом Топильскому был дан специальный шифр.
Увы, шифр понадобился в первый же день. На Троицком подворье тайный советник был встречен вежливо, митрополит прочитал письмо министра со вниманием, по московскому обыкновению гостя напоили чаем, но от высочайшего поручения владыка отказался наотрез, сославшись как на свою слабость, так и на незнакомство с предметом. Отправив с курьером донесение, Топильский поспешил к генерал-губернатору.
– …Положение непростое, – рассуждал генерал-адъютант Тучков. – Заставить нашего владыку переменить решение почти невозможно. К примеру, сказал, что не желает изображаться фотографическим способом, и ни на какие уговоры не поддаётся… Вы сказали, что государь лично просил его о том?
– Да я трижды это сказал, ваше высокопревосходительство! В ответ тихим голоском: «Слаб, стар и неспособен»… Но ведь он действительно очень стар!
– Да, – с неожиданной усмешкой подтвердил генерал-губернатор. – Настолько, что бомбардирует меня прошениями то об издании книг и журналов, то о притеснении монастырей, то о дерзком поведении полицейских чинов… Единственный, кто в состоянии повлиять на владыку, – отец Антоний, троицкий наместник. Поезжайте-ка к Троице. Прямо сейчас! Поговорите с ним, авось поможет. Постарайтесь Jeur faire entende raison[58]58
Их урезонить (фр.).
[Закрыть]. Я вам тройку хорошую дам.
Добравшись к ночи до лавры, замерзший Топильский был отцом наместником обогрет, накормлен и напоен, а главное, выслушан с полным пониманием важности миссии тайного советника. Легли спать, а поутру, отстояв раннюю обедню (время которой, будь его воля, Михаил Иванович охотнее провёл бы в постели), тронулись в первопрестольную.
Не слабость телесная и даже не опасение вступить на неверную почву политики вызвали отказ Филарета от почётного поручения. Как было ввязаться в дело, уже решённое половинчато, а следственно, влекущее за собою нестроения и столкновения? Как подкреплять своим именем (хотя бы оно и осталось в тайне от всех) скоропалительное решение вопроса, с которым можно было погодить ради большего умиротворения и крестьян и помещиков?
После ухода Топильского митрополит всё же раздумывал, не сделал ли он ошибки. Сомнения терзали его.
Три года удерживался от открытого высказывания своего мнения, три года не допускал, чтобы власть вмешала Церковь в сложнейшее дело, и вдруг оказался нужен. Филарет страшился новизны и коренных перемен оттого, что знал: такие перемены самым неожиданным образом отзовутся на огромном организме империи, они уже порождают не только доброе, но и дурное. Впрочем, и понятная Стариковская боязнь новизны тут была… Но дозволил же он строить в Троице летом прошлого года железную дорогу!.. Что скрывать, и обида всплыла: будто раньше не знали о его существовании, будто не могли за все годы подготовки реформы спросить его мнения, а было что сказать… Но государь был по-своему прав, ибо, раз решившись на коренное изменение всей жизни империи, следовало идти безоглядно, а он бы притормозил…
В Синоде решался вопрос о канонизации владыки Тихона Задонского, одного из глубоких и пламенных проповедников Слова Божия. Труды святителя Тихона, ещё с пометками покойного митрополита Платона, не сходили в эти дни со стола Филарета.
Взял потёртый, со сбитыми углами томик «О Истинном Христианстве», полистал плотные порыжелые страницы со следами воска. Вот то, что искал: «…Должно благочестиваго монарха от чистого сердца любить, яко первого по Бозе отца, промыслителя и попечителя, о целости отечества и общем благополучии неусыпно тщащагося… Повеления и указы его, яко в пользу общества учинённые, без роптания и с усердием исполнить…» Так, но будет ли польза?
Велика сила слова. Слово неверное смутит и разобидит, иных введёт в искушение. Слово верное и уместное умирит страсти, успокоит сердца и вразумит желающих правды. Как же может он уклониться от предлагаемого Провидением?.. Страшно, достанет ли сил, летами старее почти всех российских архиереев. Но не поучает ли тог же святитель Тихон: «Бывает, что мать, видя своё дитя скорбящее и плачущее, утешает тое и говорит ему: не бойся, я с тобою. Такой милосердный и человеколюбивый Бог, иже есть Создатель и Отец щедрот и Бог всякия утехи, верной душе, находящейся во искушениях и напастях, скорбящей и сетующей и боящейся, глаголет: не бойся, Я с тобою; Я твой Создатель, Я твой Искупитель, Я твой Спаситель. Я твой Помощник и Заступник, Я, Который в руце Своей всё содержу и Которому вся повинуются. Я с тобою…»
Приехавшим вечером следующего дня на подворье Топильскому и троицкому наместнику владыка позволил себя уговаривать, но хорошо знавший митрополита отец Антоний скоро заметил некую решимость в его глазах.
– Уж не напрасно ли мы порох тратим, святый отче? Вы решились?
– Покоряюсь воле государевой, – сдержанно ответил Филарет. – Давайте, давайте мне бумаги.
Проект манифеста оказался длинен и многосложен. Изучив его секретные пункты о имущественных и иных комитетах и комиссиях, митрополит погрузился в работу.
«Наконец друг добродетели, – иносказательно писал Топильский в Петербург, – убедился в необходимости сделать предполагаемое дело и принялся сегодня решительно за работу».
За трое суток Филарет полностью переписал проект манифеста, разделив его на три части и придав всему тексту звучание ясное и торжественное, приличествующее такого рода документу. «Божиим Провидением и священным законом престолонаследия быв призваны на Прародительский Всероссийский Престол, в соответствии сему призванию Мы положили в сердце своём обет обнимать нашею Царскою любовию и попечением всех наших верноподданных всякого звания и состояния…»
Филарет знал, что не столько рассудочный расчёт, сколько голос сердца вёл императора по пути освобождения. Хотелось передать, донести до всех и каждого ту доброту, которая обитала на высочайшем престоле, но главным оставалось ясное изложение вопроса: «…мы убедились, что изменение положения крепостных людей на лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребий, чрез течение событий поданный нам рукою Провидения… В силу означенных новых положений крепостные люди получат в своё время полные права свободных сельских обывателей…»
В эти дни на подворье был отменен приём посетителей, к важным лицам владыка высылал Парфения с извинением занятостью. Топильский объезжал московских родственников и знакомых, а вечера проводил на Троицком подворье, отвечая на вопросы и сомнения митрополита. Генерал-губернатор, узнав из письма дяди, бывшего членом Государственного совета, о дате предстоящего подписания манифеста, сделал вывод, что государь непременно по сему поводу зимою же посетит первопрестольную, и распорядился готовить медвежью охоту.
Филарет же дни и ночи проводил за письменным столом, исписывая лист за листом летящей скорописью, а после правил написанное, сокращая и добавляя, стремясь в немногих словах сказать многое… «Полагаемся и на здравый смысл нашего народа… с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при открывающейся для них новой будущности, поймут и с благодарности) примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта…» Колебался, как об этом сказать, ибо кому неведомо было как раз нежелание российского дворянства, кое принудили жертвовать своей собственностью. Но государь настоятельно просил сказать именно в высоком, благородном смысле… пусть хоть утешением послужат бывшим душевладельцам слова манифеста.
Глаза уставали. Когда строчки мутнели и сливались, Филарет снимал очки и шёл в спальню умываться, охлаждая глаза. Окна выходили на двор, в котором шла обычная жизнь: расхаживали приехавшие из лавры иноки, келейник нёс выбрасывать золу из печки, ленивые коты проходили по своим делам, посматривая, не зазеваются ли птички, но шустрые воробьи порхали скоро, а румяные снегири сидели высоко на ветках рябины.
В кабинете, перекрестившись на образ Спасителя, Филарет сел за стол. Надо было написать заключение, совсем немного:
«…Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественнаго».
8 февраля в лавру примчался курьер с Троицкого подворья. Отец Антоний надорвал конверт, написанный знакомым чётким почерком. «Сейчас получил из Петербурга посредством телеграфа просьбу, чтобы немедленно при мощах преподобного Сергия совершено было молебствие о Божием покровительстве и помощи Благочестивейшему Государю и отечеству. Потрудитесь немногим собором, но сами с немногими совершить молебное пение Пресвятой Троице и преподобному Сергию с акафистом. Тихо скажите и скитским старцам, да умножат моления о Православной Церкви, православном Царе и отечестве».
В те февральские дни на столичных улицах и проспектах появились военные патрули. В полицейских участках были заготовлены возы розог. Иные аристократы на всякий случай уезжали в свои поместья, опасаясь разгула черни при объявлении воли. К удивлению обитателей Зимнего дворца, сам государь был спокоен и даже весел.
19 февраля 1861 года манифест был подписан Александром Николаевичем (текст Филарета остался без изменений), а 5 марта во всех церквах Петербурга, Москвы и губернских городов был Зачитан русскому народу. Об авторстве московского митрополита почти никто не знал, и потому многие удивились, когда император наградил его, наряду с известными эмансипаторами, золотой медалью с одним словом «Благодарю».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.