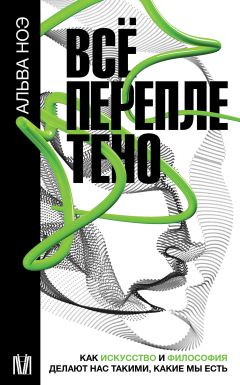
Автор книги: Альва Ноэ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Стросон занимает позицию, которую в философии называют прямым реализмом. Его цель – вопреки скептикам и отрицающим, что мы познаем мир непосредственно в восприятии, показать, что нам не следует обосновывать утверждение, что зрение, по крайней мере, кажется, представляет нам мир снаружи. Сам этот опыт, или то, что иногда называют феноменологией, по его мнению, прямо подтверждает идею, что для нас восприятие выступает непосредственным отношением к объекту. Его цель – противостоять тому, что он считает, хотя и не употребляет этих слов, латентной изобразительностью теории чувственных данных, согласно которой наиболее истинно, наиболее достоверно перцептивный опыт предстает перед сознанием в виде столкновения с однотонными цветами, простыми формами и другими несложными чувственными данными. По мнению сторонников теории чувственных данных, когда в повседневной жизни мы говорим о видении как о встрече с самими объектами, мы делаем бессознательное умозаключение и «выходим за пределы» того, что видим в действительности. Стросон предлагает свою натюрмортную концепцию как антитезу или, по крайней мере, противоядие тому, что кажется ему ужасным искажением природы повседневного видения. Точку зрения, которой он противостоит, прекрасно излагает искусствовед и критик Джон Рёскин, в 1850-е годы в самоучителе рисования писавший[55]55
Ruskin 1857/1971, см. 27 и 28.
[Закрыть]:
«Все, что вы можете увидеть в окружающем мире, предстает перед вашими глазами только как сочетание пятен разных цветов и разной затененности.
Мы не видим ничего, кроме плоских цветов. <…>
То, что вы держите в руках, о чем по опыту и по ощущению вы знаете, что это книга, для вашего глаза есть не что иное, как пятно белого цвета с различными градациями и пятнами».
Подход Рёскина дважды изобразителен. Во-первых, от начала и до конца его интересуют изображения. Его цель – подсказать учащимся, как смотреть на вещи, чтобы преуспеть в их изобразительном представлении[56]56
Ruskin (1857/1971, 27) пишет: «Вся техническая сила живописи зависит от того, можем ли мы восстановить то, что можно назвать невинностью глаза; то есть от своего рода детского восприятия этих плоских цветовых пятен как таковых, без осознания того, что они означают, – как их увидел бы слепой, вдруг обретший зрение» (курсив автора).
[Закрыть]. Во-вторых же, он утверждает, что видение, если описывать его правильно, – это не что иное, как столкновение со свойствами, с которыми мы работаем, создавая определенный тип изображений: например, «пятна разных цветов» или «простые цветные пятна». Хотя разница между этими «пятнами разных цветов» и «обладающими различными свойствами объектами» Стросона значительна, нетрудно понять, что и Стросон, и теоретик чувственных данных, которому он противопоставляет свою позицию, находятся в плену изображений. Просто их представления о том, как изображения – в их ипостаси вещей, которые мы создаем и осматриваем, – вступают в акты поддержки эпизодов визуального действия. Или можно сказать так: они работают с разным пониманием того, что такое изображение[57]57
Мерло-Понти в работе «Сомнение Сезанна» (Merleau-Ponty 1948/1964) противопоставляет художника Сезанна, разрабатывающего альтернативу импрессионизму, с одной стороны, и то, что он называет классическим подходом к живописи, – с другой. «Задача» Сезанна, как и Мерло-Понти, равносильна поиску третьего пути между эмпиризмом и интеллектуализмом. Этот феноменологический вызов Мерло-Понти формулирует как стремление достичь картины нового типа.
[Закрыть].
Прямые реалисты, как Стросон, обвиняют теоретиков чувственных данных (среди которых, помимо Рёскина, можно назвать Юма, Беркли, Рассела и Айера) в откровенной фальсификации. Мы, правда, можем согласиться с их виновностью – по крайней мере, если сочтем, будто они настаивают, что единственно верный или точный способ говорить о визуальном опыте – делать это, ограничиваясь простыми пятнами цвета и т. п., то есть если счесть, что они придерживаются мнения, словно мы буквально неправильно описываем то, что видим, когда называем такие объекты, как груши и олени. Такая точка зрения кажется просто нелепой. На самом деле мы сталкиваемся с подменой: пытаемся описать то, что видим, но в итоге исследуем поверхность воображаемых картин того, что мы видим. Мы смотрим на мир взглядом художника. Но мы забываем, что делаем это.
Однако есть и другой способ понять, что здесь происходит. Рёскин, как и Стросон, невольно открыл стиль видения, то есть способ переживания того, что мы видим, который доступен нам благодаря нашему (возможно, только) имплицитному владению картинками. И это самое настоящее открытие. Нет ничего глупого или ошибочного в изначальной предпосылке теоретика чувственных данных о том, например, что можно смотреть вокруг и поражаться не формам, а простым очертаниям вещей; порой мы воспринимаем эллиптический контур круглой тарелки, а не ее круглость. Мы можем признать это, не принимая следующего догматического утверждения теоретика чувственных данных о том, что в действительности мы видим только эллипс, а окружность есть некое допущение или предполагаемая сущность. Нам не нужно допускать эту догму теории чувственных данных, чтобы уловить ее основополагающую догадку, то есть мы видим объекты, но также мы видим их профили и очертания, видимые цвета, видимые размеры и формы[58]58
Ева Бакхаус (Backhaus 2022) делает аналогичное утверждение. Она заявляет, что главный грех теорий восприятия заключается в их склонности к иерархичности, к предположению, что существует нечто вроде базового видения и что более высокие уровни видения зависят от этого более базового восприятия. В противовес этому она утверждает, что перцептивный опыт всегда открыт, нефиксирован, множественен и аспектен. Как и я, она предлагает, чтобы перцептивный опыт представлял собой нечто вроде нефиксированности эстетической возможности. Кроме того, Бакхаус критикует более ранние мои работы, в частности мое утверждение, что, когда мы видим, мы видим как то, что есть, так и то, как вещи выглядят отсюда (это утверждение я развивал в «Действии в восприятии» [Noë 2004]), на том основании, что оно принимает как данность, что перспективное видение – осознание того, как вещи просто выглядят – является каким-то фиксированным и базовым для опыта, что мы всегда знаем, каковы вещи, из зрения, лишь воспринимая их внешний вид. Это справедливая критика (в несколько иной форме ее высказывают также Кэмпбелл [Campbell 2008] и Келли [Kelly 2008]). Но, как я написал в своем ответе на их критику, «на самом деле мнение, что наше осознание видимости является базовым или примитивным, не входит в мою точку зрения; взгляд сам по себе принадлежит нашему окружению; он является аспектом того, что есть, того, как обстоят дела. Таким образом, мы видим, как выглядят вещи, видя сами вещи; и мы видим вещи как таковые, видя, как они выглядят (отсюда или оттуда). Я утверждаю, что то, что связывает этот двойной аспект опыта, есть понимание. Дело не обстоит так, что я сначала вижу, как вещь выглядит, а затем делаю вывод, что вещь такова-то. То, как вещи выглядят, может проявиться в моем перцептивном опыте, потому что я понимаю то, что вижу; то есть я вижу, как вещи выглядят, при помощи понимания. Видение – это деятельность по исследованию того, как вещи существуют, путем изучения того, как они выглядят. Видение – это не что-то, что происходит внутри нас; это способ вовлечения в мир. Оно разворачивается в мире» (Noë 2008, 691).
[Закрыть]. Так, мы можем видеть уличные фонари, но также мы можем наслаждаться тем, что происходит, когда мы щуримся, создавая лучи, дымку и мерцание. В этом и заключается истина теории чувственных данных: не в том, что мы всегда видим только «чувственные данные», но в том, что обычно мы можем их видеть, а иногда – и правда видим.
Может показаться, что Стросон и Рёскин сходятся в непонимании природы своих разногласий. Каждый из них определяет свой стиль видения, и каждый путает его с пониманием того, что же такое видение на самом деле, какова его истинная природа. Но оба на самом деле очень далеки от всего, что связано с природой как зоной существования, не зависящей от нас и могущей не быть отмеченной такими вещами, как культура. На самом деле их разногласия носят эстетический характер; это эстетические разногласия, которые маскируются под метафизику опыта или природу разума. Они высвечивают нити переплетения.
Концепция моментального снимкаИ они не одиноки. Та же концепция видения как создания изображения в голове заметна у Декарта, который утверждал, что зрительное сознание ограничивается «непосредственными эффектами, производимыми в разуме в результате его соединения» с телом, на которое действует окружающая среда; наша способность выносить суждения о «вещах вне нас» является лишь результатом привычки и условностей[59]59
Декарт считал, что необходимо «различать <…> как бы три ступени» достоверности чувств. Он поясняет: «К первой относится лишь то, с помощью чего внешние объекты непосредственно воздействуют на телесный орган и что не может быть ничем иным, кроме движения частиц этого органа и возникающего в результате такого движения изменения формы и положения. Вторая ступень включает все, что возникает в уме непосредственно от того, что связано с телесным органом, испытавшим вышеуказанное воздействие: таковы восприятия боли, щекотки, жажды, голода, красок, звука, вкуса, запаха, тепла, холода и тому подобные, которые, как сказано в “Шестом размышлении”, возникают из соединения и как бы смешения ума с телом. Третья ступень включает в себя все те суждения, какие мы с возрастом привыкаем выносить относительно внешних объектов в связи с движениями наших телесных органов» (Декарт 1994, 320). По Декарту, зрительное сознание – это феномен «второй ступени», который в основном понимается как некоторое изображение в сознании.
[Закрыть].
Эта изобразительная картина видения – концепция моментального снимка – представляет не только исторический интерес. Она находит живую поддержку среди современных философов и ученых. Например, Джесси Принц утверждает, что визуальное сознание является продуктом того, что он вслед за Рэем Джакендоффом называет «репрезентациями промежуточного уровня зрительной системы»[60]60
Prinz 2012; Jackendof 1987.
[Закрыть]. Он имеет в виду уровень вычислительной репрезентации, соответствующий тому, что Дэвид Марр назвал «эскизом в 2½-D»[61]61
Marr 1982.
[Закрыть]. Этот «эскиз» – нейронная визуализация того, что мы видим буквально, или того, как выглядят вещи, нечто вроде линейного рисунка, отражающего перспективу и соотношение формы и размера различных предметов. Важнейшей чертой эскиза в 2½-D является то, что он является (или предполагается, что является) просто репрезентацией того, как выглядят вещи; он не является репрезентацией самих вещей или того, как вещи существуют на самом деле, независимо от восприятия. Это просто изображение.
По мнению Принца, это что-то вроде изобразительной репрезентации, которую мы визуально осознаем, когда обладаем визуальным сознанием. Не помидоры, а структура определенного вида, которую прекрасно передает рисунок или фотография, составляет содержание визуального опыта. Очевидно, что такой способ мышления о характере зрения принимает за данность не только изображения, но и имплицитное сравнение видения с видением изображений. Действительно, ссылка на изображения буквальна и конкретна, поскольку видение мыслится в понятиях репрезентаций и «набросков».
Концепция моментального видения лежит в основе многих когнитивных наук, пусть даже официально она отрицается. Приведем пример. В недавней работе Коэна, Деннета и Канвишера ставится вопрос: «Какова пропускная способность перцептивного опыта?»[62]62
Cohen, Dennett, and Kanwisher 2016.
[Закрыть] Авторы стремятся побороть определенное, наивное, на их взгляд, представление о том, что, когда вы видите, то осознаете все детали разворачивающейся перед вами сцены. Опираясь на работы по слепоте к изменениям и смежным явлениям, они утверждают, что содержание визуального опыта имеет характер «ансамбля»; то есть он может репрезентировать «толпу» или «группу людей» без детальной визуализации каждого члена этой группы[63]63
О «слепоте к изменениям» см.: O’Regan, Rensink, and Clark 1996, 1999; Rensink, O’Regan, and Clark 1997; Simons and Levin 1997; O’Regan and Noë 2001; и Noë 2004. Основная идея заключается в том, что наблюдатели часто не видят или не замечают то, что, могли бы мы ожидать, легко обнаруживается, а именно: больших изменений в том, что происходит прямо перед ними.
[Закрыть]. Любой человек, знакомый с живописью, знаком с такими феноменами. Дега, например, может нарисовать книжный шкаф, переполненный книгами и бумагами, и убедительно доказать их присутствие, не изображая детально ни одной книги. Но чего Коэн и соавторы не осознают, так это того, что они отнюдь не разрушают изобразительную картину видения, а лишь уточняют ее, предполагая, по сути, что визуальные изображения ближе к «импрессионизму», чем «реализму». Сам их вопрос – какова пропускная способность визуального опыта, то есть насколько информационно насыщен в действительности визуальный опыт? – предполагает нечто вроде ведущего от мира к сознанию канала, по которому передается репрезентация наподобие живописной визуализации[64]64
Спасибо Грейсону Абиду за обсуждение статьи Cohen, Dennett, and Kanwisher 2016.
[Закрыть].
В своей первой книге я подверг резкой критике идею, что зрение изобразительно[65]65
Noë 2004.
[Закрыть]. Картинка на сетчатке не изображение. Она никем не была создана. Никто не может ее увидеть. Зрение – это не мозговой процесс, в результате которого мозг производит похожую на изображение внутреннюю репрезентацию. И феноменология зрительного опыта не изобразительна; другими словами, дело не обстоит так, как если бы мир в нашем зрительном сознании отображался в резком фокусе и с деталями в равномерно высоком разрешении как в центре, так и на периферии (как может быть на рисунке или фотографии). Мы не фотоаппараты. У нас есть глаза, голова, шея, тело, движения. Мы видим с помощью всего этого, и то только благодаря нашим импульсам, любопытству, чувствам и стремлениям.
Я все еще думаю, что это в целом верно. Мир проявляется в сознании, утверждал я, не как здесь, репрезентированный, а, скорее, как доступный, находящийся в пределах досягаемости. И различные качества или способы проявления вещей – визуальные, аудиальные или тактильные – соответствуют различным способам, которыми мы можем получить доступ к вещам, и могут быть объяснены в их понятиях. Конечно, все это зависит от самих вещей, от того, что они собой представляют, где по отношению к нам находятся, но также, что очень важно, и от наших тел, наших навыков, нашего положения и наших интересов. Мы добиваемся присутствия в мире и делаем это динамично и активно, опираясь на различные виды знания и понимания – как сенсомоторные, так и концептуальные. Я все еще полагаю, что идея, будто видение подобно видению картин в том смысле, что, когда мы видим, мы имеем дело с высокодетализированным, находящимся в одном фокусе изображением, в высоком разрешении передающим разворачивающуюся перед нашими глазами сцену, не находит подтверждения в размышлениях о собственно феноменологии; это теоретический предрассудок, рожденный из предположения об изобразительной картине видения.
Но одно, к моему собственному удовлетворению, объяснить я так и не смог: почему, несмотря на критику вроде изложенной мной, а также критику Мерло-Понти, Остина, Гибсона, Деннета или Латура, сомнительная и ошибочная изобразительная концепция отказывается умирать[66]66
Разрушение такой концепции в значительной степени является целью Мерло-Понти 1999; Austin 1962; Gibson 1979; Dennett 1991; Latour 2016; а также Noë 2004. Латур называет изобразительную концепцию «болезнью голландцев» (Latour 2016, 316). Он в шутку предполагает, что Декарт и Локк во время своих поездок в Голландию так много времени проводили за созерцанием натюрмортов, что модель натюрморта повлияла на их понимание того, что такое зрение. И они передали эту интеллектуальную болезнь своим потомкам – нам.
[Закрыть]. Этот факт непреходящей привлекательности картинки-изображения сам по себе требует объяснения.
Теперь мы можем кое-что сказать по этому поводу. Способы мышления о зрении как об изображении не уходят в прошлое не потому, что визуальная феноменология, в конечном счете, действительно такова, но и не потому, что мы являемся жертвами метакогнитивной иллюзии, из-за которой ошибочно полагаем, будто визуальная феноменология изобразительна, хотя это не так. Нет, представление об изобразительной природе видения не отмирает, скорее, потому, что мы живем в мире изображений и жили в нем на протяжении всего нашего существования как биологического вида. Мы научились использовать наше умение работать с изображениями не только для того, чтобы думать о том, что такое процесс видения, но и для того, чтобы видеть. Мы видим буквально посредством изображений, по крайней мере иногда, равно как иногда мы можем думать буквально посредством слов или обозначений.
Таким образом, оказывается, что в каком-то смысле зрение является изобразительным, по крайней мере, иногда и в некоторых отношениях. И любопытно: факт того, что визуальный опыт иногда может быть изобразительным, не противоречит, а скорее вытекает из основной мысли энактивного подхода (или мне сейчас так кажется). Ведь, согласно энактивному подходу, восприятие, если рассматривать его в максимально общем виде, представляет собой организованную деятельность по взаимодействию с окружающей средой, использующую навыки доступа (понятия, сенсомоторные навыки)[67]67
Noë 2004, 2012, 2015b. Я вернусь к этой концепции видения и навыков доступа в главе 6.
[Закрыть]. Те или иные сенсорные модальности, или даже контраст между восприятием и мышлением как таковым, сводятся к различиям в способах развертывания нашего понимания. Разновидности присутствия соответствуют разным стилям осведомленного взаимодействия с миром. Опыт, согласно этому подходу, не есть что-то, что происходит в нас или с нами; это то, что мы делаем; это то, что мы создаем или придумываем, что мы реализуем. И мы делаем это с помощью ресурсов, доступных в тех ситуациях, в которых мы оказываемся. Среди этих ресурсов – инструменты и технологии, язык, а также (почему бы и нет?) изображения, которые отчасти составляют известный нам мир, среду, которая нас окружает.
Итак, энактивный подход, если понимать его правильно, предсказывает, объясняет и даже требует, чтобы мы признали возможность существования таких способов визуального опыта – способов достижения доступа к тому, что существует, – которые были бы изобразительными.
Это соображение ни в коем случае не означает отказа от картинки-изображения или концепции моментального снимка, которая, как мы видели, все еще очень жива в области визуальной нейронауки, когнитивной науки и философии восприятия. Но оно заставляет переосмыслить, что в этом укоренившемся подходе верно, а что – нет.
Изображения как посредникиМы обнаружили негласную подмену изображений и опыта. Мы описываем одно, когда хотим описать другое. Но очень важно понять: именно для этого, собственно, и нужны изображения.
Мы думаем об изображениях как о естественных феноменах, вроде рефлексов, которые возникают как-то сами собой в силу природы вещей. Мы забываем, что изображения – это предметы, создаваемые нами; это кусочки ремесла; это технология. Это графические приспособления, нужные для определения точек, иллюстрации мыслей или же, в каноническом смысле, на котором я настаивал, для выставления чего-то напоказ, демонстрации. Но они могут выполнять эти функции только благодаря тому, как мы их используем, и, в частности, потому, что мы используем их как заместители вещей и эпизодов видения интересующих нас вещей.
Изображение – это разновидность графемы. Чтобы понять его основные характеристики, полезно сравнить с записанными словами, которые также являются графемами. Диктограф (назовем записанное слово так) является заместителем, или посредником, слова устного и наших способов его применения. Со знаком на бумаге мы обращаемся так, как если бы это было слово, и таким образом используем это приспособление как помогающее осмыслять и лучше понимать себя как пользователей слова. Эта подмена не вполне сознательна, но и не является невольной или ошибочной. Письменность позволяет вывести речь на новые высоты; язык и graphein тесно переплетены. Конечно, эта подмена может вводить в заблуждение. Знак на бумаге имеет мало общего с текучим, постоянно меняющимся и всегда контекстуальным, полностью воплощенным, сопровождаемым дыханием и жестикуляцией характером устного слова. Позволить знаку стать словом, служить его посредником в нашем языковом самопонимании – радикальный и потенциально рискованный поступок (примерно как позволить разным видам знаков на бумаге или дереве служить заместителями Бога)[68]68
И поэтому неудивительно, что должны были возникнуть существенные теологические споры о том, легитимно ли позволять знакам выступать в роли представителей Бога.
[Закрыть].
То же и с изображениями. Мы используем изображения как реквизит для коммуникативных актов. Изображение – это своего рода модель, которую мы выбираем для того, чтобы опосредовать вещь, которую мы хотим показать, или способ видения этой вещи. «Вот, – говорим мы, – посмотрите на эту крышу, или на мою бабушку, или на это повреждение кожи». Мы используем картинку для того, чтобы заместить ею соответствующий эпизод видения или соответствующую вещь, которую мы хотим увидеть. И мы делаем это намеренно. То есть наша практика этого зависит, так сказать, от правильного лицензирования. Мы знаем, как и когда фотографию полезно или уместно использовать в качестве действенной замены интересующей нас вещи. Точно так же, как в выполненной архитектором модели мы не принимаем цвет бальсового дерева или ее размеры за цвет или размер проектируемого дома, мы в целом понимаем, как использовать фотографии, чтобы показать интересующие нас особенности[69]69
Идея, что репрезентации являются заместителями, развита в Gombrich 1963. Важность замены и логика замены – центральная тема работы Nagel and Wood 2010.
[Закрыть].
И как диктографы расширяют наши речевые возможности, так пиктографы значительно расширяют наши средства видения, поскольку дают нам инструменты для осмысления и переживания нашего собственного видения по-новому. Изображение очень отличается от той протяженной во времени, неравнозначной для внимания, меняющейся, эмоционально насыщенной вещи, которую мы называем видением. И все же благодаря изображениям мы считаем естественным думать о «видении» как об изображении; о представляемом мире – как о заключенном в некие рамки и артикулированном (как в концепции натюрморта), или же как о плоском и лишенном репрезентативного значения (как в живописной концепции). И очень важно понять, что это не просто идея или мысль о видении – своего рода иллюзия теоретика, – нет, это средство видения. Видение в мире изображений становится чем-то иным (подобно тому, как чем-то новым оно становится в мире языка).
Когда такие мыслители, как Стросон, Рёскин, Декарт, Марр, Принц, даже Деннетт, делают ставку на ту или иную абсолютную концепцию феноменологии восприятия, они выдают свою нечувствительность к переплетению визуальности и изобразительности, а значит, к тому, как мы создаем и пересоздаем то, чем является видение в мире изображений (который также всегда является миром искусства). Они ошибочно принимают наши собственные санкционированные модели мышления о том, что мы делаем, когда видим (или говорим, или танцуем), за нечто подобное природе этих делаемых нами вещей. Важно понимать, что значительная часть философии, как и значительная часть когнитивной науки, стремится использовать научный метод, чтобы решать вопрос о природе чего-то, характер чего она совершенно не понимает.
От изобразительности к аудиальностиНекоторые читатели могут воспротивиться предположению, что технологии и искусство, какие бы трансформации они ни вызывали, могут повлиять на столь базовое явление нашей биологии, как само зрение. Конечно, если изображения и влияют на наше зрение, то не более, чем локально, культурно; они не затрагивают зрение как медицинское или биологическое явление.
Что ж, именно этому и посвящено наше исследование. Переплетение изобразительности и зрения подавляет идею того, что такая вещь, как естественное или биологическое зрение, существует в действительности. Можем ли мы отделить естественное зрение от того более эстетического аспекта, который к нему примешивается[70]70
Историк искусства Генрих Вёльфлин (Wölfflin 1929/1932) утверждал, что «у видения как такового есть своя история». Уитни Дэвис раскрывает весь смысл этого утверждения – и я с ним согласен, – когда говорит, что видение как таковое имеет историю искусства. Комментируя позицию Вёльфлина, с которой она соглашается, Дэвис пишет: «Стили изображения – культурно обусловленные и исторически конкретные способы создания живописных репрезентаций – оказали существенное влияние на визуальное восприятие человека. Они представляют собой то, что буквально можно назвать способами видения» (Davis 2011, 6, курсив автора). Я полностью согласен с этим утверждением.
[Закрыть]?
Чтобы понять, почему к возможности переплетения зрения и изображения следует отнестись всерьез, рассмотрим параллельную цепочку соображений о языке.
Я не думаю, что было бы большим скачком вперед заявить, что язык формирует мысли и опыт. Возможно, не все мысли и не весь опыт несут на себе следы влияния языка. Но некоторый опыт, кажется, зависит от него, и не только если это опыт языка – например, опыт пересказа истории, – но и если это опыт или мысль, для существования которых необходимы языковые средства: слова, понятия, термины и т. д. Рассмотрим, например, такие высказывания, как «учеников начальной школы больше не заставляют зубрить таблицу умножения» или «на прошлый Новый год он лежал в больнице целых четырнадцать дней!». Если вы обладаете языком, понять подобные мысли вам легко. Но совершенно непонятно, как человек или животное могли бы постичь их в отсутствие языка.
Что делает это рассуждение интересным и актуальным, так это тот факт, что язык по своей природе принадлежит культуре; он не изобретен каким-либо одним человеком, это нечто, что мы создали и развивали вместе. Сказать это – не значит отрицать, что язык опирается на биологию человека. По современным подсчетам, язык появился у нашего вида примерно через семьдесят пять – сто тысяч лет после появления анатомически современного Homo sapiens[71]71
Tattersall 2017, 2019.
[Закрыть]. Потребовался огромный период развития культуры, чтобы анатомически современный человек создал язык. Язык, в свою очередь, привел к трансформации наших способностей к мышлению и переживанию опыта – способностей, которые, очевидно, заложены в нашей биологии. Язык и мышление переплелись: мышление стало чем-то другим в той мере, в какой оно опиралось на ресурсы языка.
Вспомним, что есть свидетельства (например, наскальные рисунки в пещерах Шове и Ласко, о которых напоминает Коллингвуд) того, что практика нанесения графических знаков, включая создание изображений, укоренена в нашей предыстории, в истории вида, не менее, чем язык; изобразительность появляется на этапе первобытной истории примерно в то же время, когда, как считается, и язык.
Так что, возможно, все то, что верно в отношении языка и мышления, верно и применительно к изображениям и зрению. Идея заключается в том, что зрение в условиях существования изобразительности пересоздается примерно так же, как мысль пересоздается в условиях существования языка. Или как речь пересоздается в условиях графического письма, что мы рассмотрим в следующей главе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































