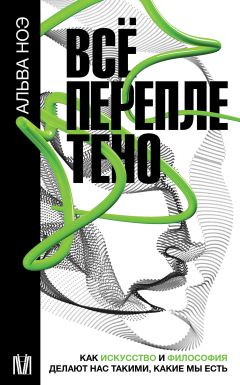
Автор книги: Альва Ноэ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
4. Стили видения
Откуда, как не от импрессионистов, у нас взялись эти чудесные коричневатые туманы, что ползут по улицам, размывают газовые фонари и превращают здания в зловещие тени? Кому, как не им и их великому мастеру, мы обязаны этими восхитительными посеребренными туманами, что клубятся над реками и превращают в ускользающее божественное видение изогнутый мост или покачивающуюся баржу? Лондонский климат претерпел удивительные изменения за последние десять лет исключительно по милости известной художественной школы.
Оскар Уайльд
Изображения в контексте
Есть одна старомодная игра, в которую дети играют на праздниках. Каждый ребенок запускает руку в коричневый бумажный пакет, содержимое которого не видно; задача – назвать, что ты держишь. Даже такие привычные предметы домашнего обихода, как расческа, пробка, наперсток, перо, губка, ложка и т. п., могут оказаться восхитительно непонятными. На ощупь они могут казаться разделенными и разобщенными – цепочкой пустых свойств. Момент узнавания может быть захватывающим. Ваше прикосновение собирает свойства в единое целое. И вот они – сами объекты, а не изолированные качества – проявляются в вашем восприятии.
Когда речь заходит об изображениях, такую же и столь же незаметную роль играет контекст. Редко мы встречаем изображения, поставленная задача которых не очевидна. Иллюстрации, будь то на бумаге, в интернете или где бы то ни было, обычно сопровождаются подписями. Даже если такой подписи нет, они очень часто выполняют вполне очевидные риторические или коммуникативные функции. Фотография мужа и ребенка, которая украшает ваш стол или страницу в социальных сетях, анфас в вашем паспорте, пиксельная картинка духовки в газетном приложении, силуэты животных в детских книжках. Мы знаем, для чего нужны эти картинки, что они обычно показывают. Изображения редко нас озадачивают.
Однако если убрать контекст, то, что в противном случае было бы картиной, демонстрацией или презентацией, теряет проницаемость, а иногда и становится чем-то любопытным, загадочным или даже произведением искусства.
Почему мы находим изображения интересными[39]39
Дальнейшее объяснение этого понятия см. в Eaton 2017.
[Закрыть]? Почему мы их создаем, используем, смотрим на них?
Подозреваю, что ответов на эти вопросы столько же, сколько и причин их показывать, отображать, смотреть и изучать. Наши интересы могут быть личными; они могут иметь отношение к науке или технике, к образованию, к религии или политике. В задачи теории изображений не входит объяснять, почему родители не могут получать наслаждение от поиска детьми пасхальных яиц, не снимая их на камеру, или почему в наши дни влюбленные, даже обнимаясь, должны вытягивать руку вперед, чтобы сделать селфи, которое они потом смогут опубликовать в социальных сетях. Изображения создаются и работают множеством сложных способов. Я думаю, что существует обширная психология, экономика или антропология изображений и она столь же многогранна и изменчива, столь же зависит от тенденций и истории, как и сама наша жизнь.
Это не означает, что мы не можем сделать никаких теоретически важных обобщений. Изображение – это инструмент, который необходим, чтобы что-то продемонстрировать или выставить на всеобщее обозрение. Релевантный контекст, в котором изображения выполняют свою функцию (успешно или нет), – коммуникативный. Мы используем изображения, чтобы показывать. И несмотря на привлекательность психологических или нейробиологических моделей того, как работают картинки, они не выполняют свою изобразительную функцию сами по себе. Иллюстрация не может сама по себе содержать подпись, а без подписи изображение – не изображение, а пустота или осечка. Конечно, очень часто эксплицитных подписей нет. В этом случае их функцию выполняют другие аспекты контекста, которые заранее дают вам понять, на что вы смотрите[40]40
В качестве дополнения: в соответствующей риторической обстановке изображения ограничивают ваше внимание; они решают проблему того, на что обратить внимание. Это одна из причин, почему танец на пленке – явление совершенно иной природы, чем танец, показанный вживую. Когда смотришь танец вживую, нужно решать, на что смотреть, и часть работы хореографии заключается именно в том, чтобы активизировать внимание зрителя. Однако при просмотре танца на пленке это решение за вас принимает режиссер или камера. (Танец для кино – совсем другое дело.) Этот последний вопрос я рассматриваю в Noë 2021b.
[Закрыть].
У игры с пакетом, которую я описал в самом начале главы, есть версия с изображениями. Фотографии знакомых вещей, сделанные под неожиданным или нестандартным углом и без ясной причины, становятся объектами-головоломками, а не изображениями. Они теряют свою прозрачность.
Стоит помнить, что, несмотря на произошедшие за последние несколько десятилетий и даже столетий важные изменения в изобразительных медиа, которые привели к недавним стремительным переменам в том, что мы привыкли делать с картинками, факт остается фактом: люди создают изображения примерно так же долго, сколько существуют сами, или, точнее, примерно столько же, сколько существуют те, кого называют психологически (а не просто анатомически) современными людьми, то есть более сорока тысяч лет. Изображения играли определенную роль в организации нашей коммуникативной и визуальной деятельности по демонстрации с доисторических времен.
Как я уже говорил, не все изображения являются произведениями искусства, и не факт, что все произведения живописи, фотографии или скульптуры являются изображениями. Существует ли особый интерес или ценность произведений изобразительного искусства? И если да, то чем объясняется это особое положение?
Общие контуры ответа ясны: художественные изображения сами по себе не являются движениями, жестами или операциями в рамках сложной, многослойной, встроенной в жизнь экономики изображений, о которой я говорил. В этом смысле они вообще не являются изображениями, то есть инструментами, функционирующими для целей демонстрации в коммуникативном контексте и ограниченными им. Неверно считать, что произведения изобразительного искусства подобны фотографиям в семейном альбоме, на газетном развороте, в онлайн-каталоге или журнале, только лучше, красивее, инновационнее, благороднее или возвышеннее их в своей тематике. Но они не совсем чужды этим повседневным жанрам. Моя гипотеза состоит в том, что картины, фотографии и произведения пластического искусства значимы не потому, что являются особыми изображениями, а ввиду особой роли, которую играют в нашей жизни, и из-за отличительной манеры, в которой они, произведения искусства, демонстрируют место изображений в нашей жизни. Более того, и я объясню это далее, произведения изобразительного искусства делают следующее: они выставляют напоказ нас и нашу деятельность по созданию изображений, причем таким образом, что позволяют нам делать их по-другому.
Искусство, если говорить в целом, связано с созданием, конструктурированием, деланием, собиранием воедино, работой и производством. Почему? Предполагаю, не потому что художники стремятся создавать особенные вещи. Но, скорее, потому, что чем-то особенным является для нас создание вещей. Деятельность по изготовлению – технология в самом широком смысле, а также такие формы деятельности, которые не принято считать технологическими или зависящими от инструментов, как говорение и смотрение, – делает нас такими, какие мы есть. Странный инструмент, в моем понимании, вообще не является инструментом, хотя материально он может быть идентичен инструменту, а его работа, его ценность заключается в том, как он раскрывает, каким образом инструменты делают нас такими, какие мы есть.
Как и в случае с хореографией и танцами, создание изображений как искусство одновременно не имеет ни малейшего отношения к изображениям и полностью от них зависит. Ни малейшего – потому что произведения изобразительного искусства в некотором смысле не являются изображениями, то есть орудиями демонстрации того или иного сообщения, развернутого в том или ином коммуникативном контексте.
Но также оно и полностью от них зависит! Ведь живопись и другие изобразительные искусства не имели бы смысла, если бы не организующая, центральная роль изображений в нашей жизни.
Эта мысль не должна быть догмой. Я пытаюсь описать феномен. Произведения искусства – будем держать в уме изображения – являются головоломками во всех смыслах, какие только могут распространяться на газетные или рекламные фотографии. Они являются, я бы даже сказал, философскими объектами. Никогда нельзя запросто сказать, что изображено на картине, как можно сказать, например, о фотографии в паспорте. А если и можно – например, можно сказать: «Это портрет любовницы герцога кисти Леонардо» или «Это созданный Тойин Оджи Одутолой портрет ее брата», – то так мы в лучшем случае лишь притронемся к значению картины как произведения искусства. Более того, в контексте искусства не существует функции или набора возможных функций, которые устранят вопросы, трудности и неясности, обнаруживаемые в контексте произведения искусства; не бывает достаточно авторитетных подписей. В этом смысле искусство деструктивно. Всегда. Везде. Произведение изобразительного искусства выглядит как изображение, но не выполняет функций, которых мы ожидали бы от изображения в другой ситуации. Говоря это, я не имею в виду, что искусство всегда поражает, будоражит или шокирует. Такой подход был бы авангардистским или модернистским. Это не мой взгляд. Картины и другие произведения изобразительного искусства занимают в производстве изображений примерно такое же место, какое ирония занимает в говорении (о чем мы говорили в предыдущей главе). Они различны, но их роднит то, что они предполагают другое.
Резюмирую: необходимо отличать создание изображений и создание произведений изобразительного искусства; кроме того, я отличаю способы, которыми мы используем изображения в нашей повседневной жизни (в интернете, в газетах, в семейных фотоальбомах, на рекламных щитах, в учебниках, а также при составлении планов строительства, в геометрии и так далее), от того, как изображения уклоняются от использования по назначению, когда они являются произведениями искусства. Итак, изображение как искусство – это деятельность второго порядка; она выставляет напоказ создание изображений и их использование в рамках деятельности первого порядка и делает это, как я попытаюсь показать, способами, которые могут изменить саму деятельность первого порядка или (и это окажется важным в дальнейшем) другие близкие и связанные с ней виды деятельности первого порядка. Или, если говорить короче, изобразительное искусство (например, живопись) и простое использование изображений взаимосвязаны[41]41
Этот раздел главы адаптирован из Noë 2017a.
[Закрыть].
Изобразительность – это постоянный фон нашего видения; мы воспринимаем ее как должное и не замечаем, как она влияет на конечную форму видения. Она формирует наш опыт видения и наши теоретические представления о видении. Чтобы обнаружить зависимость (различные ее виды) нашего визуального сознания от изображения, может потребоваться огромная по силе напряжения переориентация.
Искусствовед Энн Холландер напоминает, как изображения могут косвенно организовывать деятельность смотрения. В книге «Видеть сквозь одежду» она обращает внимание, что, когда мы смотрим на себя в зеркало, иногда нам кажется, будто мы смотрим на картину; мы воспринимаем себя как изображенного[42]42
Hollander 1978.
[Закрыть]. Она отмечает, что, рассматривая себя таким образом, мы располагаемся в раме зеркала, будто создаем своего рода предварительный автопортрет (то, что сегодня мы могли бы назвать селфи). Изображение, по ее словам, «дает стандарт, по которому оценивается непосредственно осознаваемое»[43]43
Hollander 1978, 391.
[Закрыть]. Если следовать предположению Холландер, смотреть на себя в зеркале, по крайней мере иногда, оказывается зависимым от изображения способом смотреть и видеть. Это способ видения, который доступен нам благодаря тому, что у нас есть изображения, благодаря тому, что мы владеем изображениями как инструментами показа и демонстрации. Именно по образцу видения изображения, а также создания изображения, или композиции, мы наблюдаем себя в зеркале.
Идея о том, что видеть – значит разглядывать изображение, что сам опыт видения воспринимается как своего рода взгляд в рамку, настолько укоренилась в нашем опыте первого порядка, что мы даже не замечаем ее. Рассмотрим отрывок из «Джейн Эйр» – один из многих, которые я мог бы выбрать в этой и других книгах, – где рассказывается, что видит Джейн – в данном случае по прибытии на новое место работы.
«Я вышла на лужайку и принялась рассматривать фасад джентльменского дома. Это было трехэтажное здание в размерах не исполинских, но довольно значительных для помещичьей усадьбы; бойницы вокруг кровли придавали ему живописный вид. Серый его фасад под карнизом загромождался вороньими гнездами, откуда теперь каркающие жильцы отправились на охоту. <…> Далее виднелись холмы. <…> На одном из этих холмов разбросаны были крестьянские хижины, отделенные одна от другой высокими деревьями; между ними и господским домом возвышалась старинная церковь готической архитектуры.
Еще я продолжала любоваться этой спокойной и приятной перспективой, с жадностью вдыхая в себя свежий утренний воздух и рассматривая обширное здание, назначенное в настоящую пору местопребыванием для одной старушки, как вдруг появилась на крыльце миссис Ферфакс в своем утреннем наряде»[44]44
Бронте 2019, 113–114. Вот другой фрагмент, который следует в «Джейн Эйр» ниже: «Облокотившись на бойницы и опустив голову вниз, я обозревала нивы и дороги, расстилавшиеся вдали наподобие скатерти; светлый и бархатный луг, опоясывавший со всех сторон серый фундамент дома; поле, широкое, как парк, испещренное по местам старинным строевым лесом; рощу с увядающими листьями и украшенную гладко вычищенными дорожками; церковь на краю деревни; спокойные холмы, озаренные осенним солнцем; весь горизонт, окаймленный лазурным небом с бирюзовым отливом. Не было ни одной необыкновенной черты в этой сцене, но все вместе имело очаровательный вид. Возвращаясь назад через потаенную дверь, я едва могла разглядывать ступени лестницы: чердак казался теперь грязным и мрачным, как погреб, в сравнении с голубым небесным сводом, которым я любовалась на кровле старинного замка» (123–124).
[Закрыть].
В этом описательном языке бросается в глаза не только его отстраненность, его стремление передать внешний вид сцены как бы со стороны, но и его привкус исследовательского акта; несомненно, Шарлотта Бронте пишет так, будто описывает изображение, на которое смотрит или которое сочиняет; она пишет так, будто мир – это своего рода изображение, которое нужно разглядывать. У меня снова возникает искушение воспользоваться словами Холландер: «Изображение дает стандарт, по которому оценивается непосредственно осознаваемое».
Слова Бронте дают нам представление, как изобразительность формирует наше отношение к визуальным наблюдениям, но делает это несколько негласно[45]45
Выражение «негласная подмена» принадлежит Гуссерлю. В работе «Кризис европейских наук» (2004, 74) он утверждает, что Галилей скрытно подменяет математизированную концепцию природы обычным миром, в котором мы живем (жизненным миром).
[Закрыть]. Не то чтобы Бронте была неправа или ошибалась в описании того, что Джейн видит, или того, как Джейн переживает то, что перед ней находится. И все же есть что-то в некотором смысле наивное в предположении, что простое видение, или истинное видение, может быть только таким. Видение именно таково и только таково для Джейн, для Бронте и для нас благодаря переплетению визуальности и изобразительности, которое очевидно и в то же время скрыто и проблематично. Описать то, что мы видим, невероятно сложно, и эта задача требует согласования; удивительно, но каким-то образом мы можем этого даже не замечать.
Подобная нечувствительность к проходящим под поверхностью согласованиям, которые могут потребоваться даже для того, чтобы сфокусироваться на визуальной жизни, поражает в работах многих философов и когнитивистов. Питер Фредерик Стросон, например, утверждает, что визуальный опыт представляет собой знание «объектов, обладающих различными качествами, расположенных в общем пространстве и продолжающих существовать независимо от наших обрывистых и относительно мимолетных перцепций»[46]46
Strawson 1979, 44.
[Закрыть]. Видеть, по Стросону, значит воспринимать то, что находится перед человеком или вокруг него. Для Стросона нейтральное, прямое, теоретически беспристрастное описание природы такого эпизода видения должно иметь примерно следующую форму: «Разумом мне показалось, будто я наблюдаю то-то и то-то» или «чтобы охарактеризовать мой визуальный опыт, можно сказать, что я видел то, что видел, предполагая, что я что-то видел как сцену следующей природы…»[47]47
Strawson 1979, 43–44.
[Закрыть] Это предлагается не как часть теории, а как разъяснение «общего сознания», в котором «обитает визуальное сознание», артикулирование того, что он называет «реальным реализмом здравого смысла», отношение к тому, что оживляет наш опыт видения[48]48
Strawson 1979, 53, 54.
[Закрыть].
Стросон, как и Бронте, считает, что в визуальном опыте воплощается позиция отстраненного видения; мы видим происходящее вокруг так, словно оно для нас изображено, будто это натюрморт, запечатленный для изучения. Думаю, Стросон был бы удивлен и, возможно, смущен, если бы ему напомнили, насколько изобразительной оказывается его характеристика обычного видения повседневной жизни. Безусловно, ему можно предъявить обвинение. Выбранное им слово «сцена» – театральный термин, предполагающий расположение реквизита и декораций таким образом, чтобы произвести на зрителей определенное впечатление, создать перед глазами публики, прикованной к своим местам, определенную картину. Характеризовать видение как понимание «разворачивающейся перед глазами сцены» – значит неявно приравнивать воспринимающего к зрителю, рассматривающему декорации или живописные украшения, словно видение – это всегда отстраненное и незаинтересованное осуществление способности наблюдения за простой видимостью. Другие философы, такие как Джон Кэмпбелл, подчеркивают перцептивную реальность вида, например: «Мы воспринимаем вид отсюда»[49]49
Вот что пишет о видах философ Джон Кэмпбелл: «У нас есть обычное понятие “вида”, например, когда вы тащите кого-то по тропе на гору, настаивая, что он “насладится видом”. В этом смысле посещать одно и то же место и наслаждаться одним и тем же видом могут тысячи людей. Вы характеризуете переживания, которые они испытывают, говоря, какой вид им открывается. С точки зрения реляционного подхода это то же самое, что описать феноменальный характер их опыта» (Campbell 2002, 116).
[Закрыть]. Но мы забываем, что даже «обычное понятие» вида является гибридным и квазиизобразительным в своей основе. Это остроумно показывает Агата Кристи. В один из моментов ее вымышленный персонаж, бельгийский детектив Эркюль Пуаро, и его надежный помощник капитан Гастингс вынуждены по делам своего расследования ехать по проселочной дороге. Достигнув вершины, Гастингс восклицает[50]50
Эти строки взяты из первого эпизода британского телесериала Агаты Кристи «Пуаро», «Приключение повара из Клэпхэма».
[Закрыть]:
– Смотрите, Пуаро! Посмотрите, какой вид!
– Да, вид очень хорош, Гастингс. Но лучше бы его для нас нарисовали, чтобы мы могли разглядывать его в тепле и уюте наших домов.
Тогда Пуаро продолжает: «Вот почему мы платим художнику за то, что он подвергает себя таким испытаниям ради нас».
Как и в случае с Гастингсом, Стросон, описывая видение, негласно подменяет изобразительный мир реальностью, которую мы знаем в нашем перцептивном опыте. То есть он подменяет созерцание натюрмортов (например, поставленных на стол в миске груши и персика – застывшей visibilia) привычным видением. Для Стросона визуальный опыт – это именно рассматривание мира издалека, как если бы смотреть значило ограничивать картину рамками. В этом смысле речь идет о способе думать об опыте как о чем-то, что моделируется на основе изображения.
Важно понимать, что эта крипто-пиктографическая концепция видения придает форму не только теории видения – представляя последнее как опыт отстраненного созерцания сцены, – но и самой концепции того, что мы видим, – например, сцен или картин «обладающих различными свойствами объектов», находящихся в различных отношениях друг к другу. В нашей перцептивной жизни мы не можем просто принять как данность само понятие «объект». С точки зрения концепции более феноменологической или энактивной, ориентированной на решение определенной задачи, на определенную ситуацию, мир не является просто набором объектов, которые мы можем найти, заключить в рамку и осмотреть, как если бы это было содержимое витрины в магазине. Исходить из такой предпосылки – значит полагаться на то, что Мерло-Понти называл «предрассудком мира»[51]51
Эта идея о предрассудках мира (или préjugés du monde) является центральной темой «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти (1999).
[Закрыть]. Нам нужен более богатый словарь, чтобы понять, что есть в визуальном мире, в котором, в конце концов, мы и живем и от которого зависим, а это не только то, на что мы смотрим и что изучаем. Здесь есть места, через которые мы движемся, поля, на которых мы трудимся и играем, основания, на которых мы стоим, мебель, которой мы пользуемся, инструменты, с помощью которых мы выполняем свои задачи, обувь и одежда, которые носим; есть всевозможные гибсоновские аффордансы и хайдеггеровские инструменты (das Zeug)[52]52
Gibson 1979; Heidegger 1929/1962.
[Закрыть]. Среда предстает перед нами во всем многообразии. Есть множество вариантов столкновения с ситуациями, в которых мы оказываемся. Идея, что ситуация, или среда, если воспользоваться термином Мерло-Понти, – это стол, уставленный отстраненными, обладающими определенными свойствами объектами, способна фальсифицировать опыт не меньше, чем мысль, что мы никогда в реальности не видели ничего, кроме чувственных данных. А эта идея прекрасно подходит институту изображений и, подозреваю, обусловлена им и стала доступной благодаря ему[53]53
Есть и другие концепции объектности и другие пути к оформлению понятия объекта, которые работают не на основании изображений. Фреге, например, утверждал, что числа являются объектами, потому что мы называем их и делаем о них утверждения. Например, числительные могут стоять рядом со знаком «=». Согласно этой концепции то, что числа являются объектом, супервентно на логической форме. Эта логическая концепция объекта, конечно, не опирается на изображение; она опирается на язык. В обоих случаях объекты, так сказать, «созданы» для наших способов их представления. Спасибо Мэтту Бойлу за то, что он натолкнул нас на эту мысль. Подробнее о концепции онтологии как супервентной на логической форме см. в Ricketts 1986.
[Закрыть].
Опять же, это почти как если бы картина, которая является инструментом запечатления и осмысления наблюдаемого мира – буквально чем-то, что мы набрасываем, рисуем, малюем или конструируем, – втайне подменялась самим опытом. Мы думаем, что описываем, исследуем или характеризуем наш опыт, в то время как на самом деле мы просто представляем изображения. Далее мы рассмотрим другие примеры такого рода негласной подмены. Мы предполагаем, что речь наделена свойствами правильно написанных предложений с хорошей пунктуацией. Мы описываем то, как представляем себе нашу речь, и ошибочно полагаем, что тем самым описываем саму речь. Или, как мы исследовали в предыдущей главе, мы смотрим на спонтанные, радостные движения юной танцовщицы и не замечаем, что она уже является вместилищем санкционированной искусством модели того, как должен выглядеть и ощущаться танец.
Может показаться, будто цель моего текста – осудить Стросона за ошибку или доказать, что зрение по своей реальной природе не является изобразительным ни в одном из тех смыслов, которые, как кажется, невольно предполагает Стросон. Но когда Стросон характеризует визуальный опыт как наблюдение за сценой, он ошибается не больше, чем Бронте ошибалась в своих живописных и театральных описаниях. Если здесь и есть какая-то ошибка, то она заключается в том, чтобы думать, что человек запросто и будто бы без малейших допущений описывает то, чем является для нас зрение реально – его истинную феноменологию, – тогда как на самом деле он отражает только то, что мы делаем, когда видим, то есть стиль видения – стиль, между прочим, сильно зависящий от изображения как стандарта того, что мы делаем, когда видим, и, следовательно, в некотором смысле – от целой идеологии или присущего культуре аппарата видения. Если тут есть ошибка, она заключается в ошибочной наивности, которая заставляет думать, что человек попросту говорит, как обстоят дела, – для сравнения: просто говорит, в чем заключаются различия между мальчиками и девочками – и в то же время не замечает, что участвует в создании переплетения.
Натюрмортное видение, как его описывает Стросон, абсолютно неадекватно, если рассматривать его как модель видения в целом. Но оно прекрасно описывает один тип видения – индивидуальный стиль. И более того, без этого стиля видения жить мы не можем, равно как не можем жить без объектов или вышеназванных концепций. Нам нужны объекты. Например, они нужны нашей науке. Мы понимаем, что нам нужны изображения, чтобы мы могли иметь объекты.
Здесь необходимо сделать два уточнения. Во-первых, как было отмечено в сноске выше, различные концепции объекта конкурируют между собой. Объекты мы можем понимать как отдельно стоящие и автономные сущности, которые противопоставлены нам как «обладающим различными свойствами» индивидам. Но есть и другая концепция объекта, которая ближе к мебели, приспособлениям, фону, оборудованию и аффордансам нашей практической жизни. Изображения дают нам объекты в первом, а не во втором смысле. Но ничто из того, что я здесь утверждаю, не следует истолковывать так, будто изобразительность сама по себе ответственна за объектность подобным образом. Разумеется, язык с его субъектами и предикатами, функциями и аргументами, сингулярными терминами связан с объектностью не меньше, чем (сказал бы я) изобразительность[54]54
Не стоит забывать о логосе. Спасибо Еве Люсии Бакхаус за то, что она высказала эту мысль, пусть и не слишком многословно, а также Шейну Батлеру, который критиковал меня в этом ключе на публичной дискуссии в Университете Джонса Хопкинса в 2017 году.
[Закрыть].
В целом «натюрмортное видение» Стросона – это способ перцептивного сознания, зависящего от изображения. Его догадка – а сам характер этой догадки понять он не может, несмотря на ее справедливость, – эстетическая: это его чуткое признание значимости стиля видения, благодаря которому мы воспринимаем мир как состоящий из своего рода картин, обладающих различными свойствами объектов, зафиксированных для нашего созерцания.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































