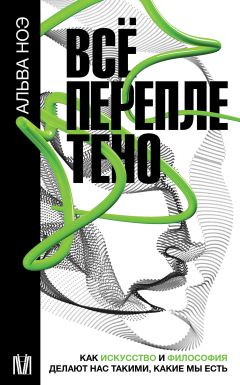
Автор книги: Альва Ноэ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Я утверждал, что наш опыт языка и наше представление о его месте в нашей жизни зависят от письма. У этого обстоятельства есть важное негативное последствие, особенно в связи с положением дел в так называемой научной лингвистике. Cуждения лингвистов о грамматичности или правильности формы, а также попытки сформулировать принципы или правила, которые формируют нашу лингвистическую компетенцию, – все это, так сказать, птичий язык. Мы инсайдеры, жители мира письма, и когда мы выносим суждения о языке, мы делаем это как участники, а не наблюдатели. Это вписывает прескриптивность в саму ДНК лингвистики; она не может быть описательной, как утверждает каждый «научный» лингвист. Ничто не иллюстрирует деформирующее влияние престижа, приставшего к модели позитивной науки, так прекрасно, как ее способность заставить нас поверить в то, что мы являемся беспристрастными наблюдателями, строящими теории на основе доказательств, тогда как на самом деле мы участники, действующие на основе внутренних для деятельности оценок и имплицитного владения соответствующими культурными нормами.
Это не означает отрицания фактов! Существуют лингвистические факты, которые находят выражение в реальности – например, в наших суждениях о структуре фразы или грамматичности. Но это не в большей степени фиксированные точки данных, чем любая другая форма эстетической реакции. Скорее, это отправные точки, приглашения лучше сформулировать, почему мы реагируем на сделанную нами вещь или совершенный нами поступок именно так, как реагируем. Лингвистическая реальность имеет больше общего с эстетикой, чем с психологией. Позже в книге я обращусь к разработке концепции эстетического, которой здесь оперирую.
Но есть и жизненно важные положительные результаты. Я утверждал, что речь, по самой своей природе, содержит в себе, как один из своих моментов, внимание к собственным нормам, стандартам и, шире, к тому, что мы делаем, когда говорим. Мы не просто используем язык; мы используем язык, чтобы размышлять о языке, представлять язык, изображать язык, и делаем мы это не как незаинтересованные наблюдатели, а как говорящие субъекты, которые оказываются погружены в нормативный ландшафт, топологические особенности которого неопределенны и дезориентируют. Быть носителем языка – значит оказаться захваченным писательской позицией, то есть задачей изобретения письма как средства, позволяющего нам стать проницательнее к самим себе, чтобы мы могли лучше справляться с проблемой продолжения.
Этот момент использования языка, как мы уже увидели, является философским. Мы потеряны. Мы размышляем, чтобы быть найденными. Мы стремимся репрезентировать себя перед самими собой, чтобы понять себя, но также и для того, чтобы освободиться от всех тех способов, которыми над нами властвуют простая привычка и автоматизм. Писательская позиция, которая, как я утверждал, предшествует изобретению использования графических средств с целью снять вуаль с наших языковых личностей, – это философская позиция.
Но эта связь между письмом и философией указывает на более широкую связь между искусством и философией. Обратите внимание, что философия – это тоже созидательная деятельность. Философия использует язык и письмо, чтобы выставить нас напоказ перед самими собой; или, как выразился Витгенштейн, философия направлена на создание наглядных репрезентаций. Очень важно, что в работах Витгенштейна это не просто метафора. Он изначально озабочен, хотя и не называет это таким словом, проблемами письма; он стремился разработать обозначения, графические приспособления с целью разъяснить, сделать явным, выставить напоказ, сделать понятным. Философия в руках Витгенштейна в буквальном смысле слова направлена на изобретение письма, то есть на поиск способов использования знаков и их нанесения для репрезентации нас самим себе с целью разобраться с нашей путаницей, дать возможность лучше понять себя. Как хореограф стремится написать танцующее тело, так и философ стремится написать себя – мыслящее, говорящее, лингвистическое тело.
Мы только что отметили, что Сократ совсем не был любителем бесед, он требовал прекратить обычные разговоры, чтобы мы могли начать писать. Но философское письмо – теперь мы бросаем взгляд на многовековую историю философской литературы – это поле битвы; философы спорят, критикуют и анализируют. Чего они не делают, так это не приходят к согласию. Но как они могут к нему прийти? Их цель – не согласие, а убеждение, то есть обращение в свою веру. Они стремятся увидеть мир по-новому. И это эстетический проект.
Философские тексты маскируются под трактаты и подкрепляемые аргументами позы, но на самом деле это партитуры. Мы разыгрываем наши философские партитуры и пишем их для того, чтобы другие могли их сыграть и с их помощью дезорганизоваться, а может быть, надеемся мы, и реорганизоваться[111]111
Эта глава – переработанная и расширенная версия материала, прежде опубликованного как Noë 2017b.
[Закрыть].
II
6. Эстетические трудности
Искусство – это то, что делает жизнь интереснее искусства.
Робер Филлиу
До сих пор в центре нашего внимания находилось искусство и то, как оно замыкается на привычках и технологиях, которые являются его сырьем и источником, и изменяет их. Но на самом деле переплетение даже глубже этого. Ведь эстетические трудности – или эстетическая слепота, как я буду их называть, – гораздо более распространены и неизменны, чем искусство и художественное творчество; они столь же фундаментальны и стары, как сам факт сознания. Эстетическое – это живая возможность, шанс и проблема, где бы мы ни находились. Нас и всю сферу нашего опыта и мира понять не проще, чем создаваемые нами произведения искусства. Мы не фиксированы, не стабильны, не определены и неизвестны; сам акт попытки навести фокус на себя, свое сознание, свой мир реорганизует и изменяет нас. Мы эстетический феномен.
Я возвращаюсь к этим темам постоянно[112]112
Я подробно возвращаюсь к этому в главе 9.
[Закрыть], но сейчас важно – чтобы осветить лежащий перед нами путь и чтобы мы знали, на что обращать внимание, – сказать об этом подробнее.
Вы смотрите в микроскоп. Вы видите яркое размытое пятно. Вы настраиваете окуляр. Постепенно что-то оказывается в фокусе. Примем этот образ за модель или метафору того, как понимать основную проблему перцептивного сознания. Восприятие – это деятельность по наведению фокуса на мир. Многие производимые нами корректировки находятся ниже порога сознания или внимания; большинство из них основаны на навыках и привычках, но при этом и на стиле.
Я считаю само собой разумеющимся – впрочем, очевидным образом, об этом можно спорить, – что настоящее зрение, или восприятие, есть не просто вопрос паттернов достигающей глаз и мозга оптической информации. Видение, как я предполагаю, – это вид знания и оценки не только того, как что-то выглядит, но и того, что это такое. (Я не сомневаюсь, что видение зависит от оптической информации, поступающей в глаза и мозг, но зависит оно не только от нее.)
Среди навыков и установок, на которые мы полагаемся при выполнении действий и корректировок, из которых состоит наше восприятие, есть сенсомоторные навыки (то есть общее понимание того, как наши движения производят и модулируют восприятия)[113]113
Как я утверждал в «Действии и восприятии» (Noë 2004; см. также O’Regan и Noë 2001).
[Закрыть]; концептуальные техники (практические знания о том, как задействовать вещи, равно как и интеллектуальные знания о том, что есть вещи)[114]114
В «Разновидностях присутствия» в 2012 году я предложил считать, что концепции сами, как и сенсомоторные навыки, являются навыками доступа. См. также Noë 2015a.
[Закрыть]; и наконец, общие факты о, как я буду ее называть, нашей аффективной ориентации[115]115
Сара Ахмед (Ahmed 2006) проводит связь между «специальной ориентацией» и «сексуальной ориентацией». Своими ремарками об аффективной ориентации в этом тексте я обязан ее работам. Спасибо также Мариэль Годду (Goddu, личная беседа). В нашей совместной работе Годду и я изучили то, как что-то вроде аффективной ориентации отмечает базовую модальность интенциональности, которая, кажется, наличествует везде, где есть жизнь.
[Закрыть]. Мы не нейтральные наблюдатели. Мы аффективно ориентированы по отношению к ситуациям и вещам. Некоторые вещи нас привлекают, поглощают, вызывают любопытство и желание, другие же отталкивают и провоцируют сопротивление. Любое различение, любая чувствительность – это реакция на что-то, что имеет значение. Любое распознавание требует неравнодушного отношения.
Одна из ошибок, формирующих унаследованные нами способы мышления о восприятии, – это идея о том, что восприятие, по сути, является вопросом суждения. Мы полагаем, что, когда мы видим, сначала мы просто что-то замечаем, а потом уже подводим это что-то под понятия, категории и ценности (привлекательное, отвратительное и т. д.)[116]116
Именно в стремлении противостоять этой традиции суждения многие мыслители принимают, о чем мы писали в главе 4, идею, что видеть – значит изображать, где изображение мыслится по образцу фотографии – как регистрация или впечатление, не опосредованное суждением. Восприятие – это не суждение, но и не ментальная картина.
[Закрыть].
Здесь я работаю с другой идеей. Все это – концепции и навыки, установки и оценки – лучше рассматривать как средства, с помощью которых мы получаем прямой доступ к окружающему нас миру. Они представляют собой те корректировки, из которых состоит восприятие. Именно наши соответствующие согласования и корректировки по этим измерениям, а возможно, и по другим, как в случае с микроскопом, позволяют нам что-либо видеть. Они являются средством, с помощью которого мы наводим фокус. Дело не обстоит так, что сначала мы видим вещь или ситуацию, а затем классифицируем ее; наше владение категориями – условие того, что вещь или ситуация сначала проявляется как то, чем она является. Восприятие может быть в некоторых отношениях концептуальным, но это не значит, что оно является суждением; оно не является предикативным актом. О нашем понимании следует думать как о технике, с помощью которой мы «подбираем» то, что есть, а не как о правилах категоризации того, что мы обнаруживаем ранее[117]117
Такова была основная мысль Гибсона в связи с аффордансами (Gibson 1979). Та возможность, которую объект дает, доступна человеку непосредственно в восприятии в неменьшей степени, чем, скажем, его форма или размер. И это означает, что никто не обязан анализировать акт восприятия аффордансов так, настаивали Фодор и Пилишин (Fodor and Pylyshyn 1981): как непосредственное восприятие объекта x плюс представление этого объекта x как аффорданса того или иного. Восприятие аффордансов, по Гибсону, не является разновидностью его видения как чего-то. Таким образом, оно является прямым и, в моем понимании, непредикативным; подробнее об этом см. Noë 2015a. Общие и глубокие рассуждения об аффордансах см. в Chemero 2009; Rietveld and Kiverstein 2014.
[Закрыть].
Итак, все эти корректировки, эти перцептивные операции нашего живого сознания относятся к уровню привычки. Или, выражаясь языком предыдущих глав, это первый порядок. Мы спонтанно и без усилий применяем эти навыки, техники и оценки, чтобы познавать мир, то есть пребывать в отношениях с окружающим нас миром.
Но иногда привычка нас подводит. Порой нам не хватает категорий, навыков, фоновых способностей и эффективных ориентаций, чтобы понять смысл или даже различить, выделить или уделить внимание тому, с чем мы сталкиваемся. Иногда мир сопротивляется навешиванию ярлыков и осмыслению. Хорошим примером может служить опыт незнакомой речи или странного письма. В этих случаях мы не встречаем никаких аффордансов. В какой-то мере мы испытываем этот опыт, когда приезжаем в новое место или попадаем в нестандартную ситуацию. Когда это случается, нас отбрасывает назад, к самим себе, и нам необходимо сделать усилие, чтобы понять, где мы находимся, что происходит, что имеет значение. Мы должны прилагать усилия, чтобы навести фокус на мир.
Это и есть эстетические трудности или эстетическая слепота. Эстетическая работа на самом базовом уровне, ее задача и содержание – это сложная переориентация самого себя, если заимствовать метафору Гуссерля[118]118
Больше об интерпретации философской переориентации у Гуссерля см. в главе 10.
[Закрыть], чтобы мочь знать и видеть. Или же можно сказать словами Витгенштейна – достижение ясной репрезентации[119]119
Wittgenstein 2018б, § 122.
[Закрыть]. (Я вернусь к Гуссерлю и Витгенштейну в главе 10.) Эстетика дает имя трудному движению от видения к видению иначе, или от не-видения – к видению, или от отсутствия смысла – к смыслу.
Если рассуждать таким образом, то эстетическая слепота – это не столько поломка или нарушение обычных перцептивных корректировок и знаний первого порядка, сколько их модальность или момент. К этой теме мы еще вернемся (в главе 11). Призыв трудиться, чтобы навести фокус на мир, – это постоянно присутствующая живая возможность, которая сама по себе не является странной. Обычные, спонтанные перцептивные корректировки, в которых заключается владение миром, и более сложные задачи их эстетического аналога оказываются переплетены.
Искусство и инсценировка неясности мираТеперь давайте зададимся вопросом, какова связь между эстетическим – понимаемым как неизменная возможность, но также и шанс, или аффорданс, нашей обычной, привычной перцептивной жизни – и искусством, или художественной практикой[120]120
Как мы увидим, перед нами встает и другой вопрос: каково этическое значение всего этого?
[Закрыть].
Искусство, или художественная практика, а также философия, или философская практика, – это способы более непосредственного взаимодействия с эстетическим и его исследования. В искусстве и философии мы даем себе возможность поразиться, выйти из строя, столкнуться с неинтеллигибельностью ситуации. Арт-объект в чистом виде – это то, что мы не узнаем. Мы не знаем, что это такое. Так же и в философии мы организуем ситуации, в которых обнаруживаем, что не знаем, что думать или говорить[121]121
Как я пишу в «Странных инструментах» (Noë 2015b), произведение искусства говорит: «Увидь меня, если сможешь!» Таков его девиз.
[Закрыть].
Рассмотрим такой случай: вы идете в галерею. Картины на стенах вам незнакомы. Вы не знаете ни художника, ни стиля. Часто такое знакомство обескураживает. Работы не бросаются в глаза; ничто не привлекает ваше внимание и не завораживает вас; все картины выглядят одинаково. Вы можете обнаружить, что вам скучно. Вы заняты своей жизнью, погружены в нее и можете обнаружить, что хотите пройти дальше, в следующую галерею; или обратить внимание на людей рядом с вами. Это состояние пустоты и разъединения, незнания или нежелания видеть то, что вы можете увидеть, является одним из величайших богатств и возможностей, даже если оно при этом бросает вызов, может вызывать скуку или раздражение. Это базовая эстетическая слепота. Вы не можете видеть. Вы даже не можете по-настоящему захотеть увидеть.
Но предположим, что вы справитесь с этой задачей. Возможно, вас мотивирует составивший вам компанию друг, который знает эти работы, интересуется ими и направляет ваше внимание на то или иное свойство картин, связанное, может быть, с тем, что на них изображено, с тем, что они показывают и что упускают, или с их историей или происхождением, или с их связью с историей или идеями; или, может быть, он просто побудит вас обратить внимание на то, как выполнены картины, как нанесены краски, какая у них геометрия, цвет или что-то еще. Теперь вы задаете вопросы и смотрите внимательнее. Вы не открываете ничего нового. В конце концов, непохоже, что что-то укрылось от вас при первом просмотре. И по мере того, как вы рассматриваете картины, если вам повезет, они могут преобразиться на глазах, и вам станет проще их познавать. Если раньше вы видели плоскость и бесструктурность, то теперь вам очевидны структура, глубина и смысл. Своими собственными действиями, этими способами вы, так сказать, включаете произведения и заставляете их проявиться; вы подводите их к восприятию. Вы реорганизуете себя, глядя на них, и в то же время реорганизуете их. Теперь вы перешли от невидения к видению, или от видения – к видению иначе. И именно в этом движении, в этой трансформации и реорганизации и заключается эстетика[122]122
Что-то близкое этому и предшествующему абзацу я писал раньше (напр., Noë 2012, 2015b). Нынешней версией я обязан Йохену Шуфу.
[Закрыть].
Из этого примера напрашиваются две мысли. Во-первых, та часть того, что мы можем назвать значением или ценностью искусства, связана с тем, как оно позволяет нам поймать себя в акте достижения эстетического, преодоления эстетических трудностей, то есть с тем, как оно позволяет нам познать себя как поглощенных этим движением от не-видения к видению или от видения к видению иначе. И во-вторых, ценность искусства в том, что оно позволяет нам культивировать, развивать и совершенствовать саму способность делать это, справляться с эстетическим, реорганизовывать себя, чтобы мы могли видеть оригинально и меняться перед лицом реальности того, что фактом жизни является необходимость время от времени так делать, наше пребывание в эстетической слепоте.
Возникает занятный вопрос: если произведения искусства – это вещи, которые мы не знаем, не узнаём, не умеем видеть, и если делать это трудоемко и контрпривычно, то что побуждает нас заниматься этим, делать эту работу? Зачем возиться с искусством, не говоря уже о том, чтобы его любить? Я назову этот вопрос вопросом об эстетической мотивации. Что лежит в основе эстетической мотивации? В некотором смысле цель всей этой книги – ответить на этот вопрос[123]123
Спасибо Колману Солису за плодотворное обсуждение этого вопроса.
[Закрыть].
Но есть и другой, тесно связанный с ним вопрос: почему привычка нас подводит[124]124
Спасибо Скотту Коуэну за то, что он подвел меня к этой мысли.
[Закрыть]? Или что именно не удается, когда привычка подводит? Каковы причины нашей неспособности видеть? На него есть прямой ответ. Иногда нам просто не хватает знаний, навыков, ориентации, чтобы навести фокус на то, что есть. Мы не умеем читать. Мы не умеем вносить необходимые коррективы. В конце концов нам нужно научиться видеть; нам нужно научиться смотреть и обращать внимание.
Это в полной мере относится к произведениям искусства, которые, как мы уже подчеркивали, созданы, чтобы быть непонятными. Произведение искусства – это повод для плодотворной непостижимости; оно дает нам возможность выяснить, как придать смысл самому произведению искусства. Мы должны реорганизовать себя так, чтобы произведение искусства было рядом с нами. И, как мы уже говорили, это один из источников ценности искусства: оно требует, чтобы мы вышли за пределы привычных, укоренившихся способов смотреть, думать, действовать и вообще быть, которые ограничивают нас и во многих отношениях держат в плену. Конечно, искусство не дает возможности существовать вовсе без привычек, но оно делает возможными различные модели организации.
Однако в вопросе о недостаточности привычки есть и нечто большее. Посмотрим снова как на пример на следующий факт: я могу обнаружить, что не могу постичь или понять смысл определенных иноязычных способов говорить или писать. Очевидно, это потому, что они мне чужды; я их не знаю и, возможно, никогда раньше ими не интересовался. Во многих контекстах было бы неразумно обвинять меня в том, что я не знаю вашего языка, не могу прочитать ваш сценарий или понять ваши слова. Нельзя винить человека в его собственной безграмотности! Да, но важно заметить, что не во всех случаях вопрос о вине может быть совершенно неуместен – даже здесь. Подумайте, что, во всяком случае, иногда в человеке, посетителе, который находится рядом с вами, но не разделяет и никогда не стремился научиться разделять ваш язык, может быть что-то если не вовсе неправильное, то, по крайней мере, этически неудобное. То, что этот посетитель не может здесь видеть, делать и понимать, знаменует собой своего рода этическое отстранение между вами, поскольку оно, возможно, обнажает не только дистанцию, на которой он от вас находится, и не только его отличие, но также и его непохожесть. Или рассмотрим случай с квиром. Некоторые люди из мира гетеросексуалов не могут видеть, или не могут понять смысл того, что они видят, или не могут терпеть то, что они будто бы видят, когда оказываются в квир-пространстве. Это очень специфический вид эстетических трудностей или, можно даже сказать, эстетической неудачи, и он связан с тем, что мы можем назвать также этическими неудачами или по крайней мере этическими вызовами.
Этот вывод – что восприятие имеет этическое измерение – естественным образом следует из того, что в восприятии мы активно работаем над достижением присутствия мира. Это, в конце концов, конститутивная привычка, которая управляет тем, как мы находим себя способными, но также и желающими работать над наведением фокуса на мир. Восприятие связано с тем, кто и что мы есть, с самими ландшафтами личности. Эстетические трудности – препятствия для того, чтобы просто продолжать жить; это потенциально этически нагруженные возможности познавать мир по-другому.
Кроме того, этот момент помогает нам понять, что в моей аналогии с микроскопом есть что-то очень обманчивое. Как будто мир похож на предметное стекло микроскопа, а мы всего лишь любопытные наблюдатели!
Произведение искусства встает на путиОсновной факт о произведении искусства заключается в том, что это не вещь или странный инструмент. Это нечто, что мы не можем увидеть или распознать; оно лишено ярлыка. Как сказал бы Кант, у него нет понятия, поэтому невозможно осознать, что это такое, и поэтому, чтобы увидеть его, мы в каком-то смысле отбрасываем себя назад, к самому вопросу: «Что в нашем этосе – наших привычках, нашем образе жизни – мешает нам это сделать?» Таким образом, работа с произведением искусства – это работа с самим собой, а также с другими, и работа эстетического взаимодействия с произведением искусства требует в некотором роде раскрытия себя тому, кто при этом по самой своей природе стремится изменить, реорганизовать нас. Опять же, вот почему, по моему мнению, искусство и философия являются реорганизующими практиками, и вот почему они предлагают нечто вроде освобождения: они освобождают нас от того, как мы находим себя организованными, по существу, привычкой, культурой, историей и даже биологией[125]125
См. «Странные инструменты» (Noë 2015b), глава 4.
[Закрыть].
Однако мы должны признать, что в нынешнем обществе большинство наших встреч с искусством – это, по сути, встречи с объектами, которые предварительно маркируются как произведения искусства. Мы находим их в специально отведенных для искусства местах – музеях, театрах, галереях, выставочных залах – и уже подходим к ним в предвкушении так называемого эстетического опыта, который они способны у нас вызвать. Поэтому неудивительно, что мы думаем об эстетических трудностях или слепоте и ее вызовах как о чем-то вроде проблемы для вынесения суждения, в частности, эстетического суждения. Вот произведение искусства: давайте теперь оценим его и решим, красивое ли оно, оригинальное, важное, великое или серьезное, удалось ли оно, как будто мы знаем, что это значит для произведения искусства.
На самом деле именно это мы и делаем: мы смотрим, спорим и удивляемся красоте, величию, оригинальности, силе и прочим свойствам произведений искусства. Но теперь мы в состоянии увидеть, что эта деятельность, все эти слова и аргументы отвлекают нас от настоящей работы, в которой заключается эстетика. Настоящее произведение искусства неизвестно и невидимо, оно не находится где-то стабильно, оно не может с готовностью стать темой обсуждения. Настоящее произведение искусства, как и висящие на стене картины в моем примере с галереей, еще не нашло способа появиться. И поэтому истинная эстетическая работа предшествует всем актам утверждения или суждения. Эстетическая работа, как и перцептивная корректировка в целом, – это работа, которую необходимо проделывать прежде любых возможных суждений. Эстетический опыт – это работа по достижению объекта — работа, которая предшествует любому акту эксплицитной оценки объекта. Задача эстетики – не оценка объекта. Ее задача – достижение объекта.
Отсюда мы можем сделать вывод, что эстетическая оценка не должна сводиться к суждениям о том, является ли объект Х красивым, оригинальным или великим. Эти разговоры интересны, но они имеют мало общего с подлинно эстетическим вызовом, который приходит раньше всех этих вопросов. Подлинно эстетический опыт – это работа по реорганизации перед лицом чего-то еще не известного.
Настоящие эстетические ценности – это не предпочтения, красота, величие, оригинальность и способность нас трогать. Они, как и восприятие в целом, предшествуют всему этому: это навыки, установки и базовые аффективные ориентации, которые позволяют нам увидеть сущее. Искусство входит в эстетику, но сама по себе эстетика – общая черта нашей совместной жизни в мире[126]126
Эти соображения позволяют нам понять знаменитое высказывание Дьюи: «Одним из иронических извращений, которые часто сопровождают ход событий, стало то, что существование произведений искусства, от которых зависит формирование эстетической теории, стало препятствием для теории о них» (Dewey 1934, 1).
[Закрыть].
Но на самом деле все еще сложнее. Ибо оказывается, как мы раскроем в главах 9 и 10[127]127
См. также Nöe 2021b.
[Закрыть], что то, что мы делаем, когда пытаемся вынести суждения о произведениях – суждения вроде «это произведение великое / не великое», – на самом деле является лишь неким завуалированным способом работы над тем, чтобы яснее их увидеть, поймать их в фокус. Это и имел в виду Витгенштейн, когда говорил, что в эстетике важно не то, нравится ли вам произведение, а почему: почему вы реагируете так, как реагируете? Каковы ваши реакции? А это, в свою очередь, предполагает, что эстетическая работа, которую вам необходимо проделать, заключается в описании того, что вы видите, поиске слов, чтобы сказать, что вы заметили и нашли примечательным. Соответствующая деятельность, попытка обследовать, описать и оценить работу, является хрупкой, неполной, предварительной. Но также в этом смысле она продуктивна: акт размышления, рассматривания и говорения о том, что вы видите, меняет то, что вы знаете и видите. После этой работы вы наконец можете видеть.
Действительно, эта продуктивность является одной из наиболее устойчивых черт эстетики. Что характерно для встречи с произведением искусства или любой эстетической встречи, так это то, что, глядя, описывая, обдумывая и расспрашивая объект, мы обновляем и его, и себя; мы реорганизуем его и себя.
Таким образом, мы возвращаемся к мысли, что мы связаны с искусством и, более того, сами в некотором смысле своего рода произведения искусства. Это означает, что мы сами для себя являемся произведениями искусства, существами, природа которых отказывается быть познанной, но бытие которых раскрывается в деятельности по познанию и видению. Таким образом, мы являемся эстетической проблемой. Конечно, мы сталкиваемся с этим каждый раз, когда пытаемся сделать что-то столь простое, как сказать, «что мы видим», «что мы чувствуем» или «чего мы хотим». Нам слишком многое нужно сказать в ответ на эти вопросы, и у нас нет четких способов раз и навсегда выбрать один из различных возможных ответов. Нет ни тестов, которые мы могли бы провести, ни снимков мозга, которые мы могли бы изучить, чтобы разобраться в себе. Мы эстетичны. Мы незавершенная работа.
Это, безусловно, одна из причин – я говорю об этом в качестве отступления, но на самом деле данная мысль является центральной для всего моего начинания, – почему когнитивная наука (как бы она ни трактовалась: как нейронаука, когнитивная психология, неврология и т. д.) имеет тенденцию оставаться не просто незрелой или незавершенной, но, на самом деле, в каком-то смысле еще даже не начатой. Это не означает, что когнитивная наука не должна или не может существовать. Но это напоминает, что когнитивная наука, как и искусство с философией, принадлежит области эстетики[128]128
Когнитивная наука сама является областью эстетического, и этот факт когнитивная наука на свой страх и риск игнорирует. Когда мы находимся в пространстве эстетического, нами руководит рациональное иного рода, чем понимал Кант. Мы приводим причины, даем основания и выдвигаем доводы. Но сама природа этих причин, оснований и доводов такова, что они никогда не могут быть решающими. Мы можем убедить, но не можем доказать. Это относится к произведениям искусства, но относится и к нам, поскольку мы тоже являемся объектами эстетического. В этом и заключается суть культурной проблемы когнитивной науки. Иррациональным догматизмом было бы думать, что мы можем доказать, например, эстетическую значимость произведения искусства. Но столь же догматично и иррационально думать, что мы можем полностью описать восприятие или зависимость. Нельзя заниматься наукой, избегая эстетики. Поэтому есть что-то ошибочное, возможно, потенциально мошенническое или даже издевательское, когда ученый в белом халате говорит вам, что вы есть (например, что вы есть ваш мозг). (Как показывает Cappeletto 2022, нейронаука, возможно, на самом деле и вопреки своему самопониманию, превращается в нечто подобное тому, что я называю эстетическим пространством. Мозг задает тему и рамку; но то, чем является мозг, и то, чем на самом деле являемся мы сами, – это то, что мы изобретаем коллективно.)
[Закрыть].
Еще одно отступление: эти соображения, помимо прочего, помогают нам понять, почему невозможно познать эстетическое от третьего лица, почему мы не можем достоверно составить представление об эстетических качествах произведения искусства на основе свидетельства другого[129]129
Это старая тема споров в эстетике; его ценное рассмотрение см. в Ginsborg 1998/2015.
[Закрыть]. Эстетический опыт как таковой состоит не в том, чтобы узнавать, что произведение обладает такими свойствами, как красота, или что оно несет в себе определенную значимость. Если бы ценность эстетического понимания заключалась именно в этом, то из книг или от какого-нибудь предположительного авторитета можно было бы узнать, какие объекты обладают такой эстетической ценностью, а какие – нет. Но это понимание эстетики неверно – по крайней мере, согласно той точке зрения, которую я здесь развиваю. Если выражение «эстетический опыт» вообще к чему-то отсылает, то относится оно к растянутой во времени практике взаимодействия с самим собой и с окружающей средой с целью перехода от не-видения к видению или от видения к видению иначе. Главную роль играет здесь сам опыт, или работа по достижению объекта или произведения. Эстетика участвует в самой работе корректировки. Как понимал еще Дьюи, наша задача не в том, чтобы выяснить, что делает объект особенным. Сам по себе объект не является особенным. Работа искусства заключается в том, что оно предоставляет нам возможность работать над самими собой. Именно это имел в виду Дьюи, когда говорил, что искусство – это опыт[130]130
Dewey 1934.
[Закрыть].
Что не означает отрицания – и это очень важно – того, что то, что говорят, думают и пишут другие, критика в широком смысле, которая служит фоном для всех наших встреч с произведениями искусства, не формирует и не должна формировать нашу собственную реакцию. Конечно, она необходима. Но «реакция» на произведение искусства – это только первый этап эстетической встречи, только начало эстетического опыта, который в действительности заключается в том, чтобы стать участником рефлексивной работы критики, которая началась задолго до вашего появления и будет продолжаться еще долго после вашего ухода. Эстетическая работа – не что-то, что мы обыкновенно делаем в одиночку. Мы видели это на примере галереи: именно ваш друг помогает вам увидеть работу. Но также нас обычно сопровождают голоса наших учителей, родителей и других авторитетов. В какой-то степени знакомство с произведением искусства – это знакомство с такими голосами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































