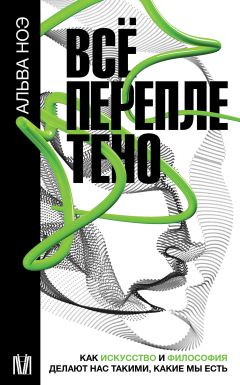
Автор книги: Альва Ноэ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Я изучаю переплетение визуальности и изобразительности – как изображения и изобразительное искусство создают и пересоздают то, что представляет собой видение. Существуют, как мы теперь можем понять, различные стили видения, и некоторые из них зависят от изображений в том смысле, что они вырастают и зависят от нашего предшествующего общения с изображениями – общения, форму которого задает изобразительное искусство.
Но чтобы объяснить эту идею наличия стилистических вариаций зрения, я должен сказать больше. Конечно, видение, в общем-то, представляет собой одно и то же явление, присущее нашему мозгу и телу на протяжении всей эволюции. Это же можно сказать и о других модальностях чувственного восприятия, таких как слух, осязание, вкус и обоняние. Это органические процессы, а не манера одеваться или украшать себя. Какое отношение к этому может иметь стиль?
Чтобы ответить на этот вопрос, я должен подойти к нему с двух сторон. С одной стороны, зрение и другие модальности чувств – это не происходящие в нас процессы, хотя они и зависят от таких процессов; это, скорее, организованная деятельность (как разговор, письмо или ходьба), и поэтому они подвержены стилистическим вариациям. С другой – мы склонны пренебрегать богатством и значением стиля как самостоятельного явления. Обращаясь здесь к понятию стиля, я не столько хочу спустить сенсорное восприятие или психическую жизнь с пьедестала их биологического статуса, сколько предложить стиль как базовую категорию, необходимую для осмысления даже биологических явлений. Наконец, я должен объяснить широкие последствия этой идеи – которую я считаю важным прорывом – о том, что зрение и другие сенсорные модальности являются стилистическими явлениями.
Давайте начнем с некоторых общих соображений о стиле. Ученые, интересующиеся разумом, как правило, пренебрегают феноменом стиля. Стиль, в конце концов, является предметом моды и модных тенденций. Но на самом деле стиль – это перцептивная и когнитивная категория первостепенной важности.
В первоначальном значении этот термин относится к стилусу – приспособлению для записи знаков; в дальнейшем он стал обозначать характерную манеру, с которой любой человек обращается со стилусом, каким-либо инструментом или даже собственным телом. Жестокий факт – если факты бывают жестокими – заключается в том, что вы можете узнать человека по оставленным им знакам. И не только: люди, принадлежащие к сообществу, которое оставляет одни знаки или имеет общую письменность, обычно используют ручку сходным образом. По одному почерку иногда можно определить не только личность автора, но и когда и где он писал текст. То же самое справедливо и для искусства во всех его разновидностях, а также, конечно, для одежды, интерьера и других областей дизайна. Но суть дела более общая и фундаментальная: человеческая деятельность несет на себе реальный, ощутимый стилистический отпечаток своего создателя.
Стиль – это фильтр, который одновременно что-то дает и что-то забирает. Многие из нас легко могут заметить различия между стилями одежды и причесок 1950-х, 1960-х, 1970-х и 1980-х годов: эта стилистическая разница просто бросается в глаза, она ощутима. Однако на большом историческом расстоянии такие различия теряют свою актуальность. Современный молодой человек, скорее всего, не заметит их, равно как только люди со специальными знаниями, вероятно, смогут увидеть, не говоря уже о том, чтобы ими заинтересоваться, различия между тем, как одевались люди, например, в 1870-е и 1890-е годы. Культурная отдаленность также может сделать нас слепыми к соответствующим различиям: то, что китаец найдет стилистически приятным, может оказаться незаметным для немца того же поколения. Та же слепота к стилю, которая действует в случае чрезмерной дальности культур, работает и когда мы оказываемся слишком близки. Мне кажется, нужен специально натренированный глаз, чтобы уловить, как именно сегодняшняя одежда и дизайн несут в себе стилистические маркеры, которые в один прекрасный день могут выйти на первый план; сегодняшние стили трудно различить, потому что они находятся как бы на заднем плане; они воспринимаются как должное и функционируют как базовые и стандартные. Однако со временем и по мере изменения базовых принципов то, что было невидимым и ненавязчивым, начинает привлекать к себе внимание, как ушибленный палец.
Вот почему, как писал критик Питер Шелдаль, подделка – это блюдо, которое лучше всего подавать теплым (первоначально данную мысль высказал Нельсон Гудман)[72]72
Schjeldahl 2013; Goodman 1968.
[Закрыть]. Эту идею легко понять на примере кино. Обычно сразу видно, когда была снята драма, действие в которой помещено в тот или иной период истории. Легко заметить, что вестерн, действие которого происходит в 1890-е годы, был снят в 1970-е; ведь то, что было незаметно в 1970-е – скажем, выбор гардероба и причесок, который на самом деле выбором не являлся, – теперь привлекает к себе внимание. Преодолеть собственные стилистические ограничения трудно, хотя, может быть, и не невозможно, потому что на том, что мы делаем, остаются следы того, кто (а также что и когда) мы есть[73]73
Важный пример – Factum Arte. Эта барселонская команда, возглавляемая Адамом Лоу, специализируется на создании репродукций произведений искусства не с целью их фальсификации, а ради сохранения работ или для того, чтобы их могли увидеть зрители, которые в противном случае не имели бы доступа к оригиналам. Поэтому, когда в 2016 году в Национальной галерее в Лондоне они воссоздавали капеллу Боргерини, было уместно, что они включили в нее более поздние вставки – электрические розетки XX века. Они воссоздали капеллу, но в том виде, в котором она существует для нас сегодня (на самом деле некоторые отличия были – репродукция была меньше оригинала).
[Закрыть].
Все мы в той или иной степени чувствительны к стилю – в искусстве, одежде, речи, дизайне, манерах и так далее. И все мы также в той или иной степени к нему нечувствительны. Свои способности к различению в этой области можно улучшать, но можно и пренебрегать ими. Соответствующие способности к различению носят эстетический характер.
И эта эстетическая чувствительность к стилю имеет гораздо более широкую область применения, чем мы отмечали до сих пор. В этом главное открытие Гуссерля и Мерло-Понти. Идея о том, что то, что существует, или, скорее, то, что существует для нас, в сфере человеческого, отмечено стилем, занимает у Гуссерля видное место: «Всему вместе сущему в мире свойственна всеобщая, непосредственная или опосредованная, взаимопринадлежность, в которой мир есть не просто некая совокупность всего [Allheit], но – всеединство [Alleinheit], некое (пусть и бесконечное) целое»[74]74
Гуссерль 2004. С. 50.
[Закрыть]. Там же Гуссерль характеризует это единство как «общий эмпирический стиль» и своего рода житейскую привычку.
В «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти опирается на догадку Гуссерля и развивает ее. По Мерло-Понти, мир проявляется привычным, понятным образом в одном смысле – в смысле стиля. «Я ощущаю единство мира, – пишет он, – так же, как узнаю какой-либо стиль»[75]75
Мерло-Понти 1999. С. 420.
[Закрыть]. И объясняет:
«Единство мира сравнимо с единством индивида, которое открывается мне в неопровержимой очевидности еще до того, как мне удастся сформулировать особенности его характера, ибо он сохраняет один и тот же стиль во всех своих речах и своем поведении, даже если он изменяет среду и убеждения. Стиль – это определенный способ относиться к ситуациям, который я открываю или который я осознаю в индивидууме»[76]76
Мерло-Понти 1999. С. 418–419.
[Закрыть].
По мнению Мерло-Понти, объекты сцеплены друг с другом не как беспорядочный набор свойств, а как некая естественная согласованность или единство, являющееся парадигмой того, что он называет стилем. И это единство, этот способ бытия и реагирования нам очевиден; мы ощущаем его непосредственно. Поэтому ясно, что он имеет в виду стиль, когда пишет:
«Единство вещи по ту сторону ее устойчивых свойств не является субстратом, пустым X, субъектом с неотъемлемыми свойствами, а представляет собой единый акцент, который находится в каждой вещи, тот единственный способ существования, вторичным выражением которого они являются. Например хрупкость, твердость, прозрачность, хрустальный звук стекла выражают один-единственный способ бытия»[77]77
Там же. С. 409.
[Закрыть].
Он продолжает:
«Если больной видит дьявола, он видит и его запах, его огонь и дым, поскольку сигнификативное единство “дьявола” есть эта едкая, серная и горящая сущность. В вещи существует то символическое начало, которое связывает каждое чувственное качество с другими. Жар входит в опыт как разновидность вибрации вещи, цвет, со своей стороны, представляет собой выход вещи за ее пределы, и a priori необходимо, чтобы слишком горячий объект становился красным, избыток вибраций буквально взрывал бы его»[78]78
Мерло-Понти 1999.
[Закрыть].
Действительно, из подобных отрывков можно увидеть, что стиль, по Мерло-Понти, функционирует не только как маркер человека, но и как бы в счет разговора об априорном и необходимом. Стиль служит (это очень похоже на витгенштейновскую идею грамматической связи) средством достижения того, что другие мыслители имели в виду, когда писали о модальной нормативности, то есть концептуальной истине, аналитичности, но также и синтетическом априори.
Для Мерло-Понти важно, что мы не судим, не делаем выводов, не ожидаем, не верим и не знаем, например, что один пейзаж перед нашими глазами скрывает за собой другой, за которым лежит третий и так далее; в этих случаях то, что мы видим, «заявляет» о своей значимости и тем самым усиливает или оживляет ощущение присутствия того, что на самом деле находится вне поля зрения, отсутствует или еще не встречено. Точно так же то, что было, прошлое, до определенной степени «заявляет» то, что будет, будущее, или, по крайней мере, как сказал бы Мерло-Понти, его общий стиль. Именно в попытке объяснить эту мысль Мерло-Понти пишет: «Мой мир продолжается посредством интенциональных линий, которые загодя намечают по меньшей мере стиль того, что произойдет»[79]79
Там же. С. 527.
[Закрыть].
По Мерло-Понти, как и по Гуссерлю, стиль имеет отношение к осмысленности и связности. Стиль мира проявляется в том, как объекты и ситуации имплицитно ссылаются друг на друга, заявляют друг друга, вместе проходят, или в том, как манера действий человека некоторым образом выражает, кто или что он есть. Именно поэтому естественный мир сам по себе есть, по словам Мерло-Понти, «горизонт всех горизонтов, стиль всех стилей»[80]80
Мерло-Понти 1999. С. 423.
[Закрыть].
Чувствительность к стилю – это чувствительность к значимым, но не вполне определенным взаимосвязям между вещами, взаимосвязям, которые придают нашему миру, пишет Мерло-Понти, единство. Таким образом, существует определенный тип понимания мира, определенная чувствительность к его реальному смыслу, и она-то как раз и является делом стиля. И это понимание является эстетическим[81]81
О понятии стиля у Мерло-Понти см. Matherne 2017.
[Закрыть].
И оно наконец возвращает нас к восприятию. Одно из серьезных препятствий, с которыми сталкиваются традиционные теории восприятия, заключается в необходимости широко описывать связи и различия между сенсорными модальностями. С одной стороны, очевидно, что зрение – одно, а осязание, слух, обоняние и вкус – другое. С другой – понять, что именно в нейронных событиях, связанных с переживаниями в рамках этих разных модальностей, отвечает за их ощущаемые различия, оказалось непросто. Когда речь идет о сознательном опыте, нейронные системы оказываются непрозрачны для объяснения. В этом и заключается знаменитый объяснительный разрыв между мозгом и сознанием[82]82
Levine 1983; см. также Hurley and Noë 2003.
[Закрыть].
Но весь этот вопрос об объяснении ощущаемой природы опыта с точки зрения нейронов отпадает, когда мы всерьез принимаем мысль, что, например, визуальное восприятие относится не к чему-то в голове – как что-то, что может относиться к клеткам или их совокупностям, – а именно к способу взаимодействия с миром; это способ действия в мире и с миром. Чтобы понять, чем танго отличается от свинга, нет нужды заглядывать внутрь танцора. Чтобы понять разницу, надо смотреть, что делают танцоры, что они делают иначе, каков сеттинг их танца. Точно так же и с восприятием в целом. Чтобы понять разницу между зрением и другими модальностями, внимание следует обращать не на то, что происходит внутри нас, а на различные способы нашего опирающегося на навыки участия в окружающем мире[83]83
Я утверждал, что характер опыта нельзя выяснить исходя только из нейронных фактов, поскольку нейронные факты управляют опытом лишь постольку, поскольку сами управляются более широким контекстом деятельности и положения воспринимающего животного. Подробнее об этом см. в Hurley and Noë 2003; O’Regan and Noë 2001; Noë 2004 и 2009.
[Закрыть].
Различные сенсорные модальности с этой точки зрения представляют собой именно различные стили вовлечения в мир. Они отличаются одна от другой как различные основанные на навыках способы непосредственного вовлечения в ситуацию. Действительно, с этой точки зрения сам контраст между восприятием и мышлением (т. е. отличие видения статуи Свободы от размышления о ней) становится стилистическим; это различие в способах, которыми мы с помощью навыков достигаем присутствия мира, видах применяемых нами навыков и того, как мы ими пользуемся[84]84
Эта идея впервые была озвучена в тексте «Разновидности присутствия» (Noë 2012).
[Закрыть]. Если мы считаем, что проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в понимании того, как мы достигаем присутствия мира в мышлении и в перцептивном опыте, тогда ответ будет таков: мы делаем это, активно используя различные виды навыков и знаний, которые позволяют получить доступ к миру.
Этот подход навыков и стиля позволяет определить принципиальное различие между, скажем, видением и осязанием или, в более общем смысле, мыслью и восприятием, но также он позволяет заметить нечто более тонкое, а именно что эти самые различия, которые мы пытаемся объяснить, сами по себе могут казаться произвольными, непрочными или непостоянными.
Подумайте, в конце концов, что с определенной точки зрения видеть нечто – значит просто думать об этом; очень часто оказывается, что думать о вещи – значит созерцать ее своими глазами. И точно так же различные наши сенсорные модальности обычно работают вместе и влияют друг на друга. Разве вкусовые ощущения от прохладного томата можно полностью отделить от тактильного восприятия его характерной консистенции, текстуры и температуры, которые чувствуются, когда вы разминаете его языком и зубами и глотаете? А разве во время разговора ваше визуальное впечатление обо мне можно отделить от того, что вы слышите?
Но если рассматриваемые различия – при всей своей реальности – есть различия стилистические, то не стоит удивляться, что они демонстрируют такую хрупкость, контекстуальность и относительность. Такова отличительная особенность стиля. Можно узнать человека со спины по тому, как он ходит, по его стилю или манере двигаться, но почти невозможно адекватно объяснить, что именно в этой походке позволяет вам выделить ее как отличающуюся от той, которой ходит кто-то другой, и что относится именно к походке, а не, скажем, к позе, отношению или чему-то еще, что так характерно выражает образ бытия этого конкретного человека. Вы можете увидеть это, но не можете сказать, что это. Стиль сопротивляется своему проявлению.
И это возвращает нас к важнейшей находке. Проблема сенсорных модальностей и их характера – это проблема стиля, а потому в конечном счете проблема эстетическая. Чтобы работать с ней, необходимо использовать средства эстетики. Эстетика, как мы увидим в одной из последующих глав, занимается в первую очередь тем, чтобы новым и иным способом смотреть на то, что вы уже знаете, или то, что уже есть. Стилистические различия реальны; они полностью существенны. Но они в значительной степени создаются контекстом и точкой зрения, что прямо связано с их эстетическим характером. То, что бросается в глаза в одном контексте, может быть едва различимо в другом. Например, в 1979 году Sex Pistols и Talking Heads в стилистическом плане были музыкальными антагонистами, скажем, Нила Янга или Брюса Спрингстина. Но сегодня люди, которые смотрят на них с большего расстояния и, возможно, из позиции безразличия, скорее всего, поразятся их стилистическому единству. Сегодня эти вещи выглядят по-другому, но нельзя сказать, что в каком-то окончательном, объективном, всеобъемлющем смысле наши современники ошибаются. Так же и с эстетикой: эстетические различия реальны, но хрупки и спорны.
Еще одно следствие открываемой нами концепции эстетического: если различия между сенсорными модальностями, или между восприятием и мышлением, стилистические, то они эстетические, а если они эстетические, то они не закреплены, не разрешимы и не поддаются диспозиции.
Итак, возвращаясь к нашей исходной точке, можно сказать, что те же самые соображения относятся, mutatis mutandis, и к внутривизуальным изменениям в стиле, которые мы рассматривали на протяжении всей этой главы. Существуют стили видения. Мы сосредоточились на зависящих от изображения стилях, например на видении через зеркало/селфи Холландер, видения художника Рёскина и натюрмортном видении Стросона. Но дьявол в том, что количество таких стилей не ограничено.
По этой причине бесполезно стремиться к исчерпывающему перечислению стилей или их ранжированию по фундаментальности. Может возникнуть соблазн предположить, что изобразительные стили видения являются менее фундаментальными, менее «естественными», чем стили неизобразительные. Важно отметить, что, как мы уже говорили, неизобразительные стили видения тоже существуют. В конце концов, как мы заметили, многие типы видения могут быть нерефлексивными и ориентированными на выполнение каких-то задач. Я использую глаза, чтобы отыскать, надеть и завязать ботинки, но это визуальное руководство действиями лишь едва выше моего порога внимания. В нем нет созерцания, осознания взгляда или внешности. Лучше было бы сказать, что мое зрение – как оно функционирует здесь, так сказать, в дикой природе – поглощается моим участием в том, что я делаю. Или другой пример: бейсболист не изучает мяч, не рассматривает его, не думает о нем и даже не наблюдает за ним. Он принимает нужную позу еще до того, как мяч попадет туда, куда, по мнению его и его тренера, он скорее всего попадет; он готовится и затем бьет. Он «не отрывает глаз от мяча». Он настраивает все свое лицо, бедра, ноги, глаза и руки в перчатках на движущийся мяч.
Но, пусть «дикое видение» относительно изолировано от изобразительности как таковой (потому я называю его «неизобразительным»), оно изолировано от эффектов наших собственных действий, производств и забот не более, чем зависимое от изображения видение. Это способ видения, зависящий от задачи, но такие задачи, как игра в бейсбол или надевание ботинок, тоже связаны; способ видения, зависящий от задачи, – это способ видения, который буквально обвешан мирскими, то есть созданными человеком, структурами и значениями, образующими места, где мы находимся[85]85
Как уже упоминалось в сноске выше, в других работах (например, Noë 2004 и 2012) я утверждал, что зрение требует чувствительности к перспективным свойствам, например к тому, как вещи выглядят с вашего места, и, что очень важно, к тому, как то, как вещи выглядят с вашего места по мере вашего движения. Сенсомоторное знание – термин как раз для обозначения этой основанной на навыках компетенции. Келли (Kelly 2008) обвинил меня в том, что я проецирую живописную концепцию отстраненного созерцательного видения на обычное видение. Теперь кажется верным, что перспективное видение, как я его представлял, является квазиживописным или, в смысле нынешней дискуссии, зависимым от изображения. Но это не теоретическое навязывание с моей стороны. Наша визуальная культура – это изобразительная культура, как изобразительна и наша феноменология (иногда!).
[Закрыть].
5. Писательская позиция
Сначала все нации говорили письменами, так как первоначально нации были немыми.
Вико, «Основания новой науки об общей природе наций»
Любой выбор слов – уже жаргон. Он указывает на принадлежность к тому или иному классу.
Джордж Элиот
Иногда философские или концептуальные вопросы облачаются в одеяния вопросов исторических. Например, вопрос «Что такое жизнь?» может маскироваться под вопрос о происхождении жизни, о том, например, что произошло, когда молния ударила в первичный бульон[86]86
На эту мысль меня натолкнул Эван Томпсон (Thompson 2017), который утверждает, что оригинальный объяснительный разрыв пролегает не между разумом и мозгом, но между жизнью и веществом.
[Закрыть]. Такова и тема настоящей главы. Когда и почему мы, как культура или как вид, начали использовать письменность? Но, как и прежде, главные стоящие передо мной проблемы не исторического характера. Главные вопросы этой главы – что такое письмо и как оно связано с речью или с языком в целом. Моя основная цель – показать, каким образом язык функционирует как феномен переплетения.
Язык – это тема, хорошо знакомая философам всех традиций. Письменность, напротив, в аналитической традиции почти полностью игнорируется[87]87
В этой традиции я и получил образование. В других традициях европейской философии дело обстоит не так. См., напр., Derrida 1967/1997, где тема поднимается прямо и предвосхищаются некоторые идеи, которые я развиваю в настоящей главе.
[Закрыть]. Почти, но не совсем. Фреге изобрел систему письма, которую назвал Begriffsschrift («понятийное письмо»); ее цель состояла в том, чтобы более явно, чем обычное письмо, выявлять реальную структуру мыслей и их логические связи[88]88
Frege 1879.
[Закрыть]. Как считал Фреге, этого требовали логика и математика. Витгенштейн, чьи интересы в большей степени были выраженно-философскими, чем у Фреге, в своей первой философии утверждал, что пропозиция (так он называл мысль) – это пропозициональный знак «в проекции к миру»[89]89
Wittgenstein 2018а, 22.
[Закрыть]. Витгенштейн, как мне кажется, не обращал внимания на отличие устного пропозиционального знака от его письменной версии. Но, похоже, он, как и Фреге, был убежден, что достигнуть философской ясности можно и, может быть, для этого требуется особый метод представления нашего языка, то есть особая система письма. Эта идея, что философия должна пытаться делать наглядные или обзорные представления (übersichtliche Darstellungen), модели, наброски, изображения, нашей «грамматики», является центральным постулатом также и философии позднего Витгенштейна. Полагаю, что можно считать этот факт равносильным требованию, чтобы философы обратили свое внимание на письмо[90]90
Wittgenstein 2018б, § 122.
[Закрыть].
Если в аналитической философии и современной лингвистике существует какой-то официальный взгляд на взаимосвязь между языком и письмом, то заключается он в том, что язык (рассматриваемый здесь как речь или способность к речи) и письмо (рассматриваемое как средство представления речи) не имеют никакой интересной или важной связи. Речь – это биологическая особенность, видовая черта; она заложена в нас генетически и универсальна. Письменность, напротив, является культурной инновацией, технологией, которой не более нескольких тысяч лет. Чтобы разговаривать, уметь писать не обязательно; письменность не нужна даже для создания стихов или песен (то есть литературного искусства). Большинство языков прошлого были бесписьменными, и даже сегодня многие умеющие говорить не умеют писать. Если уж на то пошло, то, согласно официальной точке зрения, письменность только мешает ясному пониманию природы языка. Причина – то, что письменность, как предполагается, является очень несовершенным отображением речи. Письменные системы могут передавать некоторые особенности нашего разговорного языка (например, порядок слов), но оставляют без внимания другие (скажем, структуру фразы – например, как английские the и boy сочетаются и образуют единое целое во фразе the boy sings)[91]91
Пример взят из: Radford 1981.
[Закрыть]. Наконец, предполагается, что письмо, как принадлежащий культуре инструмент представления речи, является конвенциональным и прескриптивным, а это затеняет тот факт, что к языку как к естественному явлению не применимо ни то, ни другое.
Какова связь между речью и письмом согласно этому распространенному и простому взгляду? В двух словах: мы по своей природе являемся пользователями языка, а письмо – это технология для усиления и расширения наших естественных языковых способностей. Письменность позволяет нам «разговаривать» с людьми, которые находятся вне пределов досягаемости нашего голоса или не могут видеть наших жестов; она дает возможность записывать мысли для потомков; письменность позволяет нам отслеживать то, что мы говорим или сказали, и поэтому она делает реальным существование права и, более того, науки, математики и философии. Письменность – это, по выражению биолога Пателя, трансформационная технология, сравнимая с огнем и колесом[92]92
Patel 2008.
[Закрыть]. Но это технология, то есть инновация, передающаяся через культуру. Сам же язык, способность к речи, напротив, является естественным выражением врожденной, универсальной человеческой природы.
Этот простой взгляд слишком прост; я хотел бы пояснить, почему это так.
Рассмотрим утверждение, что письмо – это способ запечатлеть, представить и таким образом расширить речь. Оно не совсем верно. Таким может быть один из видов его применения. Но мы знакомы с видами письма, которые соответствуют этому определению и вообще не являются лингвистическими. Музыкальная нотация – это способ записи музыки; это не способ записи речи. Если это способ выражения мыслей, то это специфические музыкальные мысли, которые не могут быть выражены обычным языком. Другой пример – математические записи. Мы не пишем по-английски или по-арабски, когда доказываем теорему. И хотя вы можете прочитать доказательство вслух, сделать это вы можете на любом угодном вам языке; то, что вы читаете, языком не является, хотя читаете это вы с помощью языка.
Вполне вероятно, что глубинные истоки письменности можно найти, по крайней мере, в самом раннем неолите (уже одиннадцать тысяч лет назад), в деятельности, целью которой было не кодирование или представление речи, а, скорее, счет, или ведение учета, или подсчет, вычисления или фиксация количества. Первые писатели, скорее всего, были бухгалтерами или счетоводами, чьи записи ограничивались размерами стад и количеством молодняка[93]93
Некоторые доказательства в поддержку этого утверждения см. в D. Schmandt-Besserat 1978, а также Harris 1986.
[Закрыть].
Если это верно, то письмо может быть удивительным образом автономным от речи. Не в том смысле, что когда-либо могли существовать писатели, не знавшие речи. Но в том смысле, что первое письмо, возможно, было создано не для лингвистических целей (не для целей говорения, то есть представления того, что мы делаем, когда говорим). Другими словами, первое письмо могло не быть следствием речи в том смысле, который предполагает простой взгляд.
Но есть и второй, еще более глубокий смысл, в котором письмо может быть автономным от речи. Как мы сейчас думаем, первые методы письма были технологиями прямого затрагивания и прямого познания мира или интересующей его части; они не затрагивали мир или эту часть посредством репрезентации наших к тому лингвистических возможностей. В этом смысле они могли быть на одной ступени с самой речью и в некотором смысле могут считаться разновидностями языка или, возможно, способами языкания (language-ing).
Таким образом, первые системы письма вполне могли быть сами по себе языкоподобными и в этом смысле независимыми от речи технологиями. Важно также отметить, что, пусть даже трудно представить себе существ, способных использовать технологии создания изображений и подсчета, но не способных к речи, у нас мало оснований полагать, что речь может предшествовать письменности или быть древнее ее. Насколько мы можем судить по археологическим данным, речь и графическая деятельность появились одновременно – примерно сорок-пятьдесят тысяч лет назад. Вполне возможно, что только существо, способное к речи, было способно и к артикулированной записи знаков. Но, возможно, верно и обратное. Речь и письмо – по крайней мере в широком смысле изобразительности и записи знаков – стары как мир.
На самом деле вполне может быть, что графическая составляющая древнее и фундаментальнее. Животные творят, делают, действуют. Но действия, дела, поступки по своей природе всегда оставляют некоторый след. Например, самим фактом постоянного хождения туда-сюда наши древние предки, по сути, создавали дороги («прокладывали тропинки своими ногами»[94]94
Автор ссылается на название главы 11 Laying Down a Path in Walking. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch. The MIT Press, 2017. – Прим. ред.
[Закрыть]). И трудно даже представить, как можно брать, держать, проглатывать, выделять или производить какие-либо другие манипуляции, которые бы не изменяли явно и, как правило, улучшали и перерабатывали окружающую среду.
Опыт сам по себе – это созидательная деятельность. Мы создаем наш опыт. Опыт – здесь я повторяю Дьюи – это круговой процесс делания и переживания последствий сделанного, процесс, который требует от нас отслеживать то, как наши действия изменяют наше положение[95]95
Эту концепцию опыта см. в Dewey 1934, особенно в главах 1–3.
[Закрыть]. Таким образом, человеческое сознание, как семейство способов действия и самореализации, можно считать графическим по своему происхождению.
Показательно, если не более того, что поначалу в древнегреческом языке слово, обозначающее линию, рисунок или письмо (graphein), в действительности применялось к порезу, причиненному телу острой стрелой[96]96
Больше см. в Catoni 2017.
[Закрыть]. Первым письмом, во всяком случае в нашей литературной традиции, было насильственное нанесение шрамов. Письмо, или рисование, основано на чем-то основополагающем и социальном, а именно на конфликте.
Но есть и другие соображения, которые говорят если не прямо о приоритете графического перед языковым, то о приоритете культурного над языковым и графическим. Я имею в виду усиливающийся консенсус относительно того, что язык, изобразительность, нанесение знаков, одежда и широкий спектр сложных инструментов и видов деятельности (включая обуздание огня) впервые появляются в верхнем палеолите около пятидесяти тысяч лет назад[97]97
Sandgathe 2017.
[Закрыть]. Решающим фактом является то, что это происходит более чем через сто пятьдесят тысяч лет после появления анатомически, то есть физически (а значит, и неврологически) современного Homo sapiens. Таким образом, не может быть серьезных сомнений в том, что события, пришедшиеся на это время и приведшие к появлению нас, имели культурный характер. А если учесть, что эти события привели к появлению радикально новых способов жить, думать, чувствовать, выражать и делать – как еще можно охарактеризовать революционное значение языка и изображения? – то кажется, что современный разум в очень реальном смысле является продуктом культурных достижений (или культурной эволюции) человека, произошедших примерно пятьдесят тысяч лет назад. И все это – появление нам подобных, переживающих опыт, – похоже, сопутствовало началам письменности, по крайней мере, если мы рассматриваем письменность так, как рекомендую это делать я: как феномен, автономный от речи и основанный на древней деятельности по нанесению знаков.
В результате получается, что простой взгляд оказывается совершенно неудовлетворительным. Писать – да, это одно. А говорить – другое. Пока все хорошо. И да, несомненно, использование письма для непосредственно лингвистических целей – то есть использование письма для совершения языковых действий, а также для записи языка – это довольно поздняя культурная инновация. Но само письмо в более широком смысле – как используемые в когнитивно значимых целях графические действия царапания, забивания, нанесения знаков, рисования, а также, возможно, плевания, разбрызгивания, разрезания, штамповки, смачивания, – как предшествовало, так и не зависело концептуально от его приложения к языку. Более того, письмо в этом расширенном смысле может быть не менее связано с появлением человека и даже с истоками человеческого сознания, чем сама речь.
Посылку такого простого взгляда, согласно которой речь находится по одну сторону разделения природы и культуры, а письмо – по другую, поддержать нельзя. Не только потому, что речь и письмо тесно связаны друг с другом, но и потому, что, по крайней мере, если исходить из того, что речь и письмо, равно как и изобразительность, являются достижениями очень позднего периода нашей видовой истории (они сформировались спустя десятки тысяч лет после того, как мы обрели нынешнюю генетически заданную телесную форму), в переосмыслении нуждается сама оппозиция природы и культуры.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































