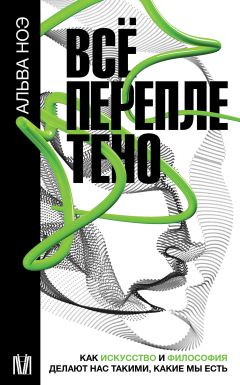
Автор книги: Альва Ноэ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Работа эстетического, как и восприятия в целом, – это труд по достижению объекта[131]131
Об этом выражении «достижение объекта». В тайцзицюань, которым я занимаюсь, мы много работаем, чтобы расслабиться. Что, возразите вы, вы работаете, чтобы расслабиться? Нет ли здесь какого-то противоречия? В конце концов, чтобы расслабиться, надо отпустить. Но в тайцзицюань мы думаем иначе. Расслабиться – не значит отпустить; это не значит обессилеть. Это нечто более тонкое, некое осознание, связанное с отсутствием дискомфорта и явного намерения. В любом случае расслабление, по крайней мере, в том виде, в каком я его себе представляю (основываясь на исследованиях и учении профессора Чэн Мэн-Чина, Бенджамина Ло и Лензи Уильямса, но полагаю, что эта мысль восходит к Лаоцзы), есть то, чего мы должны достичь. Это сравнение полезно в контексте того, что я имел в виду выше в тексте, говоря о достижении объекта. В этом случае то, что достигается, является, так сказать, не простой причинно-следственной связью, но скорее чем-то вроде отношения или, как я выражусь ниже, общности.
[Закрыть]. Искусство и эстетика занимаются вопросами красоты, гениальности, оригинальности и так далее, но как производными. Реальные ценности, действующие при эстетическом поиске, предшествуют вынесению таких суждений.
Освободив таким образом эстетическое от любой, кроме как случайной, связи с искусством, не говоря уже о красоте, мы получаем возможность понять, что эстетика – это имя трансформативной работы по оперированию ценностями, которые мы принимаем как должное, поддерживая наши отношения с объектами, людьми и нашим миром. Настоящая работа эстетики заключается именно в корректировке ценностей, а также навыков, ожиданий и пониманий, благодаря которым мы можем сами наводить фокус на мир.
Рассматриваемая таким образом эстетика – это общее взаимодействие с ценностью, и поэтому она является этическим начинанием[132]132
Вслед за Витгенштейном (2018, § 6.421) мы можем сказать: «Этика и эстетика суть одно и то же». В том же отрывке он пишет: «Ясно, что этику не облечь в слова. Этика трансцендентальна». Идея, которую я развиваю в этой главе, дает возможность понять прозрение Витгенштейна: ценности – это не объекты в мире, а условие возможности какого-либо мира вообще, поскольку они являются средством, с помощью которого мы достигаем присутствия мира. Но я не согласен с Витгенштейном в следующем: эти ценности, фоновые тенденции, посредством которых мы достигаем мира, могут стать и становятся для нас проблемами. Именно поэтому работа этики и эстетики есть одно и то же: мы работаем с нашими ценностями, чтобы преодолеть слепоту, и это и есть эстетическая работа.
[Закрыть]. Мы уже заметили, что эстетика как художественная и философская практика пронизана этическим значением. Негативно это потому, что этические ограничения как в узком, так и в более широком смысле могут определять контуры эстетических трудностей, с которыми мы сталкиваемся (например, в отношении иностранных языков или встреч с людьми, которые могут показаться нам квирами). Но и позитивно, потому что мы индивидуально и вместе переделываем себя и свои миры через наше эстетическое участие. Мы переделываем наш этос.
Итак, если вы склонны думать, что «эстетическое» связано с тем, что нам нравится или не нравится, с предпочтениями, или с тем, что мы находим красивым, или с тем, что вызывает у нас благоговение, или с тем, что, как говорят многие философы, трогает, тогда может показаться, что идея об эстетичности этики может тривиализировать этический конфликт, а также актуальность и важность этической дилеммы.
Но если вы помыслите эстетическое так, как я его здесь объяснял, – одновременно необходимым, основным моментом нашей жизни как воспринимающих и мыслящих существ, – и если вы примете то, что я пытаюсь показать в этой книге: что мы преобразуем себя, а также наши сообщества, посредством художественной и философской практики, то есть посредством эстетического взаимодействия, – тогда в мысли о том, что этика основана на эстетическом, вы не найдете ничего тривиального.
Объединяющей идеей здесь является то, что эстетическое и этическое едины в следующем: мы создаем ценности в процессе наведения фокуса на мир; мы меняем наши ценности по мере того, как пытаемся это сделать[133]133
На этот способ мыслить об этическом меня натолкнул Дж. Рид Миллер в своей работе «Удаление пятен: этика и раса» (Miller 2017).
[Закрыть].
Ключевую роль здесь играет, как мне кажется, допущение возможности того, что этические трудности, как и эстетические, требуют нового взгляда, пристального внимания, щедрого, то есть, возможно, даже любящего любопытства. Этическое, как и эстетическое, – это сфера нашей жизни, в которой нам приходится противостоять нашим собственным ограничениям. Того, как мы привычно организуем и обеспечиваем себя ресурсами, недостаточно, чтобы с уверенностью знать, как жить дальше.
Ни логические доводы, ни эмпирическая наука не могут решить за нас, что мы должны делать перед лицом этого приступа слепоты или паралича. Искусство и философия могут. Но не посредством предоставления нам принципов для принятия решений или оснований для вынесения суждений – принципы и доводы лишь служат топливом в топке эстетического, – а через предоставление возможности видеть иначе, знать лучше, вступать в отношения с объектами, то есть с появляющимися у нас на пути людьми и проблемами[134]134
Размышления о принципах могут быть способом найти возможность видеть иначе, как я утверждаю в главе 10.
[Закрыть].
Заимствую один пример у Айрис Мердок[135]135
Murdoch 1971, 17.
[Закрыть]. Свекровь всегда считала, что спутница жизни, выбранная его сыном, ниже его достоинства. Она смотрела на нее критическим и нелюбящим взглядом. В некоторый момент, спровоцированный какими-то обстоятельствами, у нее появляется повод пересмотреть свое жестокое представление о невестке. Теперь она становится способной увидеть ее заново – как любящий и поддерживающий источник любви и счастья в жизни сына, которым та и является на самом деле.
Эту виньетку, пусть и недостаточно полно описанную, мы можем принять за своего рода парадигму формы подлинно этической ситуации. Читая Мердок, я понимаю, что это ее инсайт. Речь не столько о фактах, касающихся невестки. Они слишком тонки, чтобы их можно было взвешивать, сортировать и оценивать. Речь идет, скорее, о свекрови и ее сознании, то есть о мире, который она знает и в котором существует. В какой-то момент свекровь способна увидеть невестку заново; она совершила эстетическое движение от не-видения к видению или от видения к видению иначе. Она достигла объекта и таким образом реорганизовала себя и перестроила свои отношения с невесткой.
Думать об этическом таким образом – значит видеть его по существу эстетическую и реорганизующую природу.
Можно опасаться, что таким образом этика не может быть возведена в эстетику. Интерес свекрови к тому, чтобы увидеть невестку иначе, не праздный и существует как бы ради ее самопреобразования. Она обязана была посмотреть на невестку еще раз. И пока она продолжала смотреть на нее с недоброжелательным прищуром, она была виновата, неправа или плоха. И в любом случае люди – это не просто вещи, на которые мы, как это часто бывает, стремимся взглянуть ясными глазами[136]136
Спасибо Кэти Койн и Колману Солису за то, что они подсказали мне эту проблему и показали мне труды Айрис Мердок.
[Закрыть].
Но эта критика утрачивает силу, как только мы отказываемся от концепции восприятия себя в некотором смысле предикативными и отделенными от ценности – той самой концепции, от которой я призывал отказаться на протяжении всей этой главы.
Задумаемся: сознание – это не луч света, которым мы по-разному освещаем ту или иную вещь: то пепельницу, то любимого ребенка, то соседа, то пробку на дороге перед вами. Перцептивное осознание лучше считать чем-то вроде единения. В любом случае оно двунаправленное, подлинно реляционное, но вместе с тем и насквозь мультимодальное. Дело не обстоит так, что я сначала вижу свою дочь, а затем, увидев ее, сужу о ее ценности и важности для меня. Сам способ, которым я ее воспринимаю, – сам способ ее присутствия, то, как она появляется, – является реализацией ее важности для меня. Точно так же, как я не регулирую то, как беру фарфоровую чашку, определив сперва ее хрупкость. Именно в своих чувственных прикосновениях я постигаю хрупкость фарфора, познаю ее, то есть вступаю с ней в отношения. Разнообразию способов, которыми вещи могут присутствовать для нас, соответствует разнообразие способов, которыми мы активно, опираясь на навыки, обращаемся с ними и реагируем на них[137]137
Разновидности присутствия, различные способы, которыми вещи могут проявляться, являются центральной темой моей изданной в 2012 году книги «Разновидности присутствия».
[Закрыть]. Опять же, вещи существуют не для того, чтобы мы их обнаружили, а затем их оценили. Мы оцениваем вещи, обнаруживая их; оценка и обнаружение переплетаются. Мы видим тех, кого любим, иначе, чем тех, кто нам безразличен. Ценности предшествуют встрече с объектом, потому что они заложены в отношениях, которые возникают при встрече с объектом, и находят в них свое выражение. Они являются средством, с помощью которого мы пытаемся постичь объект или человека и сделать его присутствующим.
Предполагать, как это делаю я, что этическое есть эстетическое, не значит сводить этическое к вопросу простого перцептивного знания. Это значит признать, что перцептивное знание уже является этическим, поскольку оно уже является работой ценности[138]138
Мердок пишет: «На уровне серьезного здравого смысла и обычных нефилософских размышлений о природе морали совершенно очевидно, что доброта связана со знанием: не с безличным квазинаучным знанием обычного мира, каким бы оно ни было, но с утонченным и честным восприятием того, что есть на самом деле, терпеливым и справедливым разглядыванием и исследованием того, что стоит перед человеком, что становится доступно не благодаря простому прозрению, но благодаря, безусловно, прекрасно знакомому виду моральной дисциплины» (1971, 38). Также: «Я использую слово “внимание”, которое я позаимствовала у Симоны Вейль, чтобы выразить идею справедливого и любящего взгляда, направленного на индивидуальную реальность. Я считаю его характерным и надлежащим признаком активного морального агента» (34).
[Закрыть].
Все это согласуется с мыслью, что существует нечто вроде долженствования, более того, этического долженствования, знать или видеть лучше либо более полно осознавать наши отношения. Свекровь должна была стать лучше в своих отношениях с невесткой. Но это долженствование не было чем-то навязанным, скажем так, свыше или извне самих отношений. Это долженствование – лишь выражение живого участия свекрови в отношениях с невесткой; если обобщить, долженствования такого рода являются внутренними по отношению к нашим личным и мирским отношениям, которые составляют нашу жизнь.
Сравним это с бейсболистом, который испытывает проблемы с ударом по мячу. Он экспериментирует с хватом биты. Он отыгрывает, как лучше держать биту – высоко у плеча или низко, на уровне бедер, – и работает со своей стойкой и различными способами того, как может работать ногами, чтобы замахиваться вовремя. Бейсболист работает над собой, чтобы бить по мячу, то есть быть в отношениях с мячом (или, может быть, с питчером). Итак, он должен это делать. Но не потому, что существует некая точка зрения вне очень конкретной, личной, но также укорененной в культуре и, следовательно, унаследованной жизни бейсбола, изнутри которой мы можем утверждать об этической ценности хорошего удара. Единственным основанием ценности удара является тот факт, что человек является бейсболистом, что это его жизнь и что ему, следовательно, важен бейсбол. Если здесь и есть какой-то абсолют, то он может быть только одним: жить хорошо.
Знать/видеть/постигать другого в отношениях – это один из основных жизненных процессов. Мы активируем себя по отношению к другим в мире. Это означает лишь, что иногда мы не справляемся с этой задачей и что мы всегда рискуем. Активно работать над тем, чтобы воспринимать лучше, более истинно, – вот в чем заключается «просто продолжать жить».
Важно помнить, что свекровь не существует отдельно от невестки; невестка не является для свекрови теоретическим объектом рассмотрения. Свекровь уже вовлечена в общение и сосуществование ней; они причастны друг к другу. И не из-за ее собственного выбора. Она не выбирала невестку среди всех людей, чтобы сделать ее объектом интереса и преследования, точно так же как она не выбирала своего сына из многих, чтобы любить его. Опять же, знать здесь означает нечто большее, чем быть в единении и общении. Вот пример еще лучше, хотя он и нагружен всевозможными смыслами: свекровь выбирает невестку не больше, чем ребенок выбирает родившую его мать; но каждый ребенок должен справляться с реальностью этого процесса рождения и с его последствиями, пусть даже никто из нас ничего из этого не помнит.
По сравнению с этим искусство может показаться чем-то непрочным и необязательным. Лучше ли видеть и понимать произведение искусства, чем не видеть его? Есть ли какая-то обязанность знать произведение искусства, взаимодействовать и разбираться с ним? Конечно, в случае с искусством – но, как правило, не с нашими родственниками и другими важными личными отношениями – мы можем просто уйти. Ничто не заставляет нас спускаться в пещеру, где мы наконец сможем принять вызов непознаваемости произведения искусства. Потребность свекрови разобраться с невесткой, а также разобраться с самой собой, чтобы разобраться с невесткой, более насущна, и ставка ее гораздо выше.
Это правда. Но здесь полезно вспомнить, что произведения искусства, как и хорошие шутки, – это интервенции, которые часто способны поразить нас и привлечь наше внимание. Когда они это делают, происходит это потому, что они, как и самые личные наши отношения, работают с тканью и материальной арматурой нашей жизни. Мы можем уклоняться от искусства так же, как уклоняемся от «работы» над нашими отношениями. Тем не менее это уклонение. Это обстоятельство демонстрирует этическую основу эстетической мотивации, подобно тому, как мы выявляли эстетический характер этического.
Игра в философиюВ книге «Странные инструменты» я утверждал, что философия и искусство – это два разных вида общего рода реорганизационной практики. Их цель – освободить нас от того, как мы нерефлексивно застреваем в бытии. Философ призывает вас не стоять на своем, а подвергнуть сомнению то, что вы принимаете как должное, когда размышляете, например, о свободе, морали, сознании или свободе воли. В трудах философа содержатся не истины или тезисы, а скорее партитуры – партитуры для размышления. Вот почему мы не изучаем философию, заучивая списки утверждений; и мы не особенно беспокоимся о том, чтобы исключать из рассмотрения ложные утверждения. В философии речь никогда не идет о конечном результате, даже если он, похоже, интересует философов в первую очередь. Дьюи понимал, что в философии не бывает самородков, портативных выводов, которые можно применять и использовать и здесь и там – как в науке и математике[139]139
Дьюи пишет: «В интеллектуальном опыте вывод имеет самостоятельную ценность. Он может быть извлечен как формула или как “истина” и может быть использован в своей независимой полноте как фактор и руководство в других поисках. В художественном произведении нет такого единого самодостаточного сокровища. Конец, terminus, значим не сам по себе, а как интеграция частей. У него нет другого существования» (1934, 57).
[Закрыть]. Философия живет для нас как музыкальная партитура, которую мы – студенты и коллеги, члены сообщества – можем исполнять, а может отказаться; мы можем захотеть научиться ее исполнять, а можем, наоборот, пожелать найти способ перестать ее исполнять. И если философ предан своей работе, то потому, что он чувствует ценность освобождения от ограничивающих его привычек, которыми наделяет его исполнение партитуры.
Сказанное не означает отрицания того, что философия является рациональным занятием, что она имеет дело с идеями и важными проблемами или что для того, чтобы дойти до сути вещей, она использует доводы и анализ. Нет, действительно поразительная вещь в философии, модель и пример которой даны в ранних диалогах Платона, заключается в том, что самая трудная работа заключается не столько в получении ответов, сколько в поиске и, так сказать, лицензировании вопросов. Вот почему книги по философии обычно начинаются с перечисления ошибок прошлого. Они должны убедить читателя, что потребность в каком-то дальнейшем вкладе действительно существует, что остаются проблемы, на которые стоит обратить внимание. Другая поразительная особенность философской работы заключается в том, что мы не измеряем ее содержательность и успешность по тому, предлагает ли она стабильное и урегулированное решение какой бы то ни было проблемы, которой философия занимается. Причина этого в том, что ни одна философия никогда этого не делала – не потому, что философы склонны к ошибкам, тенденциозны, тупы, не желают идти на компромисс или равнодушны к истине, а потому, что философские проблемы, как и всё в области эстетики, имеют иммунитет от окончательных аргументов. Вайсманн это понимал. «Ни один философский спор не заканчивается Ч. Т. Д.», – писал он[140]140
Waismann 1959, 372. И он продолжает: «Как бы ни была сильна философия, она никогда не принуждает. В философии нет никакого запугивания ни палкой логики, ни палкой языка».
[Закрыть]. Философские проблемы – это нечто совсем другое. Они дают нам возможность реорганизовать себя, попытаться по-другому взглянуть на то, что мы уже знаем, изменить себя.
Философия, как и искусство, – это ответ на зов слепоты, на неспособность знать, как жить дальше, а слепота – это реальная опасность повседневной жизни. По этой причине наша жизнь формируется и переформируется под воздействием искусства, философии и эстетики. Не может быть серьезной работы с собой – будь то в области естественных наук, когнитивной науки или чего бы то ни было, – которая пыталась бы обойти этот потрясающий и потенциально освободительный факт: мы сами являемся эстетическими феноменами, которые вечно находятся в процессе становления.
7. Хрупкие тела
Сочинение верлибра – как игра в теннис без сетки.
Роберт Фрост
А вот и мы в цветах команды!
Великим стремлением Декарта было освободиться от традиции, вынести за скобки книги, язык и эрудицию, чтобы как бы с нуля воссоздать свое собственное понимание мира, причем сделать это самостоятельно, от первого лица. Иронично, что именно он и сделал так много для формирования наших философских и литературных традиций. Первое, что мы требуем читать от наших студентов, – это размышления Декарта, в которых он отвергает ценность того, что можно узнать из книг.
Но что, если каждый образ в вашем сознании – переработка того, что мы видели и о чем думали вместе? Что, если ваши мысли и чувства присутствуют в вашем сознании только в том частично артикулированном виде, который позволяет язык? Отбросьте все книги и традиции, седиментации (слово Гуссерля) и переплетения – и вы останетесь один на один не с чистым сознанием, не с истинным «Я», а лишь с оболочкой, соответствующей тому месту, где должно было быть «Я» – можно сказать, наше «Я».
Вико, страстный антикартезианец, кажется, это понимал. Что мы знаем лучше всего, так это социальный мир, который мы создали вместе. Автобиография Вико, заметно контрастирующая с автобиографическим «Рассуждением о методе» Декарта, написана от третьего лица и состоит в основном из рассказа о прожитой жизни. Это повествование о встреченных людях, прочитанных книгах, разговорах. Заманчиво сказать, что такая история рассказывается со стороны. Но, возможно, лучше читать ее как насмешку над нелепым стремлением оставаться тем, кто ты есть, и в то же время выносить за скобки свою реальную мирскую жизнь[141]141
Здесь я полагаюсь на прекрасную работу Юргена Трабанта «Новая наука о древних знаках Вико» (Trabant 2004).
[Закрыть].
Открытие Вико является противоположностью находке Декарта. По Декарту, то, что я могу знать лучше всего и с наибольшей уверенностью, – это моя чистая субъективность. Идея Вико заключается в том, что то, что я знаю лучше всего и с наибольшей уверенностью, – это то, что я создаю или делаю. А я почти ничего не делаю и не создаю сам. Я существо, которое становится тем, что оно есть, в динамике участия в окружающем мире. И этот мир, что очень важно, не есть мир геометрии; это мир, который сам по себе доступен мне или нам только благодаря традиции, благодаря переплетению, благодаря языку, поэзии и тому факту, что я переделываю, перерабатываю и повторно использую общие для всех нас ресурсы, чтобы создать наш собственный способ существования. Как тексты будут понятны мне, только если я буду уметь читать, так и вся безграничная масса значимых отношений, определяющих нашу совместную жизнь, доступна только благодаря тому, что я использую язык, а также позиции и стили, доминирующие в семье, где я был воспитан, в школах, на радиостанциях и телеэкранах, в ванных, на детских площадках и в метро – в местах, где каждый из нас начинает свою жизнь.
Чтобы понять, что сознание как таковое означает участие в традиции, которой присущи обычай, эрудиция и поэзия, надо быть способным открыть новое значение тела, хотя и маловероятно, что Вико зашел так далеко. Ибо условие готовой интеллигибельности мира состоит в том, чтобы я, ты, мы могли – могли читать. Могли говорить. Могли видеть. Могли понимать. Могли замечать. Могли есть. Могли преодолевать. Итак, этот набор умений, ноу-хау и навыков, а также соответствующих неудач, неумений, а иногда и унизительных ситуаций – это то, что мы несем в себе не как развоплощенное и по-настоящему раскрывающееся только при бесплотности наставлений мира картезианское эго, но именно как нечто телесно и культурно принадлежащее этому миру, как играющее в нем активную роль. Эго Вико, в отличие от эго Декарта, подобно игрокам бейсбольной команды. Посмотрите на нас! А вот и мы в цветах нашей команды. У нас есть не только тела, но и вместилища, в которых мы можем передвигаться, – это понимал даже Декарт. Также мы не тождественны просто нашим телам, если только под этой тождественностью мы не подразумеваем единственно, что мы тождественны усатым и мускулистым, жующим жвачку, плюющимся, носящим кроссовки с шипованной подошвой игрокам, которыми мы и являемся. Наши тела – это не просто тела, не просто протяженная материя или что-то еще: это игроки, и игроками они являются только потому, что готовы играть. Они могут играть. Они заботятся о том, чтобы играть. Они хотят играть. Глаза бейсболиста видят, что раннер бежит на первую базу. Шорт-стоп щелкает как резинка, когда по мячу наносится удар, бежит, выбегает на поле, бросает, ловит мягкими перчатками и затем бросает мяч. Тело этого игрока ориентировано на его мир – сознательно, эффективно, компетентно. Разум игрока существует не где-то позади или под ним, под давлением тела или благодаря ему. Тело проявляет тот тип имплицитного понимания, который Мерло-Понти называл «моторностью» и «моторной интенциональностью».
Итак, Декарт ошибался в отношении тела – оно уже ориентировано на мир в знании, компетентности, уме; тело есть ментальный феномен – но он ошибался также и в отношении разума: разум не есть что-то, что проявляется в зоне, отдельной от той, в которой находится тело; разум без тела подобен бейсболисту, который никогда не играл в бейсбол. Мысли о бейсболе возникают на игровом поле и в связи с тем выбором, с которым мы сталкиваемся в игре, и то же самое верно для мыслей в целом; они являются действиями на земном поле.
Мерло-Понти считал, что тело – это схема движения, то есть динамическая структура, определяемая тем, что оно может и не может делать. Но, как мы уже поняли, моторная интенциональность – вопрос не только способов, которыми мы двигаемся. Мы телесно ориентированы на мир и другими способами. Желанием, вожделением, любопытством, интересом, но также отвращением, презрением и, возможно, в первую очередь страхом. Мы можем сказать, что человеческое тело ориентировано, как мы говорим о сексуальной ориентации. Эта ориентация – по отношению к осмысленному миру – не есть что-то более фундаментальное, нежели разум, не лежит в его основе и не предшествует ему. Это сам разум в действии[142]142
Опять же, я имею в виду проведенное Сарой Ахмед (Ahmed 2006) сравнение специальной и сексуальной ориентации в ее книге «Квир-феноменология: Ориентации, объекты, другие». Поразительно, что животные кроме человека тоже проявляют признаки ориентации, о которой я говорю.
[Закрыть].
Иметь тело – специфическое, образованное, сформированное, компетентное – значит иметь ориентацию. Это значит, что одни вещи должны вызывать интерес, требовать реакции, открывать возможности, а другие – закрывать возможности и создавать непреодолимые препятствия. Если мир есть песня, то тело – это диапазон способов, которыми мы можем сознательно, то есть с помощью навыков, реагировать на музыку в движении и игре. Мы и есть наше тело! Даже если мы не просто наши тела.
Я бы не сказал, что именно тело определяет ориентацию, в том смысле, что оно ее вызывает; мы не можем объяснить, скажем, почему люди по-разному ориентируются в мире или почему они в некотором смысле живут в разных мирах, просто сославшись на физические различия их тел. Одушевленное, компетентное тело – это ориентация, а не ее причина; это наш потенциал к открытию мира, а мир – лишь то, что становится доступным благодаря ориентации, то есть благодаря телу. Это концептуально и политически важный момент. Позвольте мне его объяснить.
Полагаю, очевидно, что у людей очень разный диапазон опыта и что эти различия могут весьма прозрачно соответствовать телесным различиям, то есть различиям в схеме тел, а также различиям в том, что иногда называют образом тела, а именно различиям в том, как мы выглядим, а также различиям в том, как мы переживаем то, что мы есть, связанным с позицией по отношению к тому, как мы выглядим. Шумное ночное заведение, заполненное людьми у барной стойки, кому-то может показаться уютным, а человеку со слабыми ногами, которому тяжело ходить, – небезопасным. Одна и та же придорожная закусочная может предложить белому путешественнику место для приюта, а путешественнику темнокожему показаться слишком зловещим местом, чтобы в нее можно было войти. Велик соблазн сказать, что разные тела человека с ограниченными возможностями или темнокожего определяют разные миры, разные наборы удовольствий, разные объекты привлечения внимания, разные аффордансы, эмоциональные реальности. Эта мысль в чем-то верна: у разных тел разные возможности, разные «можно» и «нельзя» (включая запреты и т. д.), свободы и ограничения, а значит, разные аффективные ориентации и, следовательно, миры.
Но такое описание слишком просто; оно оставляет в стороне тот факт, что у людей с ограниченными возможностями и у полностью здоровых, у белых и у темнокожих, у мужчин и у женщин также один мир, пусть даже верно, что мир, который они разделяют, полон окклюзий, проекций, разрывов и различий. Но как то, что оказывается за окоемом, видно как оказавшееся вне поля зрения или неразличимое из-за дальности, так и социально значимые различия проявляются порой как невидимые или как объекты, к которым чувствуется безразличие; они могут проявляться в модальности пренебрежения.
Иметь тело – значит ориентироваться в горизонтах возможностей: сейчас я могу ходить, но, возможно, не смогу в следующем году; сейчас я могу это выпить, но если выпью слишком много, то потом буду плохо себя чувствовать. Но также и в специфически социальных возможностях; тело – это структура в пространстве социальных возможностей. А такие пары, как черный/белый, женщина/мужчина, человек с ограниченными возможностями / полностью здоровый, отражают, по крайней мере типически, противоположные процессы. Как правило, значение каждого термина существует в его отношении ко второму. Таким образом, приобщиться к миру и усвоить подобные понятия, еще будучи маленьким ребенком, – значит не просто научиться классифицировать сущности в зависимости от того, обладают они тем или иным свойством. Это значит узнать, пусть даже имплицитно, нечто глубокое и важное, а также ужасное о самой форме реальности. Так, например, маленький белый ребенок может не иметь буквально никакого представления о чернокожести, и поэтому его отношение и позиции, его безопасность не основываются на его представлении о расе. Но если ребенок «нормальный», если он умен, если он чувствителен, он может «узнать», что его норма – его комфорт, его безопасность – каким-то образом противопоставляется чернокожести, которая может стать для него своего рода изменчивой инаковостью. Таким образом, ребенок становится, как нечто само собой разумеющееся, продуктом того, что мы можем назвать расизмом; его «нормальность», его когнитивные способности почти требуют этого; он «знает», что раса имеет значение, что цвет имеет значение, потому что, в конце концов, так и есть. Он начинает понимать наложенность жизненных горизонтов темнокожих и белых, и, если хотите, усваивает ее. Но также он может, благодаря действию той же самой чувствительности, заронить в себе семена сопротивления.
Возможно, сам Мерло-Понти был склонен принимать за данность, что существует единое, нормальное, стандартное тело, такое же, как тело его самого, – тело здорового европейского мужчины; возможно, он воображал, что организация тела в мире и его отношение к миру примерно одинаковы для всех и всегда. Это естественным образом должно было вести к дальнейшему предположению, что тело объясняет структуру человеческого сознания и мира.
Но такой взгляд опять-таки был бы ошибочным. Что бы ни думал Мерло-Понти, важно понимать, что порядок объяснения стремится в другую сторону. Да, тело – один из тех способов, которыми мы реализуем наше сознание, реализуя себя и свой мир. Но оно не предшествует сознанию, не доступно в качестве ресурса, с помощью которого мы могли бы обосновывать или объяснять сознание, так же как фортепиано не предшествует музыке, которую мы на нем исполняем. Конечно, мы используем фортепиано для создания музыки, но фортепиано – это буквально машина для создания музыки, существование которой предполагает наличие музыкальной культуры. Точно так же и с телом. Тело – это плод сознания, его воплощение или материализация, а не что-то предшествующее ему «естественное».
Вот еще один часто подмечаемый факт о теле: оно видимо. Если вы видите меня, вы можете видеть и мое тело. Тело открыто. Оно раскрывает нас. Мое тело, как правило, показывает, что я есть: темнокожий или белый, молодой или старый, мужчина или женщина, здоровый или с ограниченными возможностями, или же что ко мне нельзя приложить определенно ни одно из этих качеств (либо, мы могли бы сказать, я определенно ни/ни). Это те вещи, которые мы можем видеть или, по крайней мере, считаем, что можем видеть.
Это наблюдение близко тому, что, возможно, было моей первой, самой личной и самой подлинной философской мыслью. Тринадцатилетним подростком я удивлялся преобразующей силе других людей. Сам факт присутствия другого человека – даже незнакомца в вагоне поезда – фундаментально меняет ситуацию, в которой вы находитесь. Вы можете сидеть там, читать или потягивать напиток. Но то, что вы при этом чувствуете, само качество воздуха вокруг вас меняется, если там есть другие люди. Быть видимым, быть открытым для взгляда другого – значит быть активным и активированным; присутствие других как будто направляет по воздуху заряд и одушевляет само пространство, в котором вы находитесь. Если этот феномен не произвел на вас впечатления, то, возможно, потому, что мы настолько привыкли к другим или, скорее, потому, что присутствие других на самом деле в такой степени является нормой по умолчанию, что мы продолжаем пребывать в социальном пространстве – пространстве, в котором нас видят и оценивают, даже когда мы одни.
Франц Фанон в своей книге 1952 года «Черная кожа, белые маски» описывает особенно показательный опыт, который он в то время пытался считать «мимолетным укусом». Он находится во Франции; на улице его видит маленький мальчик: «Мама, смотри, негр; мне страшно!» Рана не затягивается, когда мать ругает ребенка: «Тише! Ты его рассердишь», – а затем извиняется перед мужчиной: «Не обращайте на него внимания, месье. Он не понимает, что вы такой же цивилизованный человек, как и мы»[143]143
Fanon 1952, 90, 93.
[Закрыть]. Быть увиденным таким образом, быть идентифицированным, маркированным, признанным в качестве определенного типа существа, понимает Фанон, значит быть измененным и стать отличным от того, кем он мог быть в противном случае – или, во всяком случае, пережить угрозу такого разрушительного изменения. Даже схема тела подвергается воздействию. Фанон пишет: «В белом мире цветной человек сталкивается с трудностями в разработке схемы своего тела. Образ своего тела исключительно негативен. Это образ от третьего лица. Вокруг тела царит атмосфера некоторой неопределенности». Он объясняет: «Под схемой тела я создал историко-расовую схему. Данные, которые я использовал, дали мне не “остатки чувств и представлений тактильного, кинестетического, вестибулярного или визуального характера”, а другой, белый человек, который соткал меня из тысячи деталей, анекдотов и историй»[144]144
Fanon 1952, 91.
[Закрыть]. Быть подверженным такому восприятию – значит оказаться травмированным; это значит чувствовать, что ты был выдуман другими или, что еще хуже, был превращен ими в простой объект: «Я пришел в этот мир, стремясь раскрыть смысл вещей, моя душа желала быть у истоков мира, но здесь я объект среди других объектов»[145]145
Fanon 1952, 89.
[Закрыть]. Он описывает эту боль и дает ей выражение:
«Мое тело вернули мне распластанным, расчлененным, переделанным, задрапированным в траур в этот белый зимний день. Негр – животное, негр плох, негр зол, негр уродлив; смотрите, негр; негр дрожит, негр дрожит, потому что ему холодно, маленький мальчик дрожит, потому что боится негра, негр дрожит от холода, холода, который леденит кости, милый маленький мальчик дрожит, потому что думает, что негр дрожит от ярости, маленький белый мальчик бежит к матери на руки: “Мама, негр собирается меня съесть”»[146]146
Fanon 1952, 93.
[Закрыть].
Фанон говорит здесь о чем-то частном и конкретном, о чем-то разрушительном и исторически специфическом, о своем опыте, а также об опыте многих чернокожих. Он описывает то, что называет «удушающим овеществлением»: не процесс приобретения самости в социальном пространстве, но процесс, при котором сама возможность самости открыто отрицается. Я не игнорирую эту мысль и не пренебрегаю ее жестокой специфичностью, когда тем не менее настаиваю, что описываемое им явление может быть более общим: Фанон показывает, как схема тела и образ тела – то, что мы можем делать и быть, и тот образ, который мы имеем о себе, как мы воспринимаем себя, чтобы нас видели другие, наши «Я» как агентности и наши «Я» как простые объекты – взаимопроникают друг в друга. И таким образом я, вы и мы становимся для самих себя, по словам Фанона – но так мог бы думать и Вико, – чем-то сотканным «из тысячи деталей, анекдотов и историй».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































