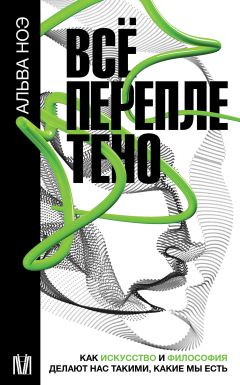
Автор книги: Альва Ноэ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
В таком случае псевдоисторический вопрос, с которого я начал, из вопроса, почему и когда мы изобрели письмо, превращается в вопрос, почему в какой-то момент нашей культурной истории мы стали применять уже существующий графический инструментарий к речи[98]98
Harris 1986.
[Закрыть].
Прежде чем попытаться сформулировать ответ, я хочу показать, как еще простой взгляд может оказаться слишком простым.
Допустим, что письменный язык, как мы привыкли о нем думать, является современным, а речь – древней. По крайней мере, в этом смысле речь предшествует письму. Это все еще оставляет возможность – я хочу, чтобы мы отнеслись к ней серьезно, – что наша концепция языка, а значит, и наш живой опыт общения и использования языка, зависит от письма.
Поразительно, что нам, жителям письменного мира, кажется очень естественным воспринимать речь как нечто, что мы можем записать. Для нас слово, записанное на бумаге, экране компьютера или доске, попросту и есть само слово. Это образ слова или, может быть, лицо слова.
И нам кажется естественным, что слова – это вещи, у которых есть орфография. Мы можем их записать. Мы не можем записать любой внешний звук. Мы не записываем скрип пола или свист ветра. У этих звуков нет написания. Но слова сопровождаются (или нам так кажется) прилагающимися к ним написаниями[99]99
Неалфавитные системы письма поднимают в этой связи интересные вопросы, но затронуть их я здесь не могу.
[Закрыть].
Что первостепенно? Сами звуки или буквы, на основе которых мы их выбираем? Это сложный вопрос. Я хочу, чтобы мы серьезно отнеслись к той возможности, что, по крайней мере сейчас, звуки проявляются для нас именно таким образом благодаря тому, что мы научились играть с ними, или концептуализировать их, и, что очень важно, благодаря тому, что письмо является важным (может быть, самым важным) инструментом этой концептуализации. Когда мы пишем, мы не находимся вне речи, как это было бы, если бы мы расшифровывали инопланетный код. Орфография, как и другие аспекты письма, – это то, что мы делаем внутри языка. Орфография, как мог бы сказать Витгенштейн, – это языковая игра[100]100
Wittgenstein 2018б, § 7.
[Закрыть].
И не стоит удивляться, что наше восприятие речи так тесно связано с письмом. Трудно представить какую-либо другую технологию, которая была бы столь универсальной и с таким единообразием навязывалась бы молодым людям с самого раннего возраста и на протяжении всего их обучения. Мы настойчиво прививаем нашим детям навыки письма и ориентированные на письмо способы мышления о том, что мы делаем, когда говорим.
В связи с этим возникает еще один вопрос: можем ли мы вообще отступить от ориентации на письмо, чтобы ощутить нашу собственную способность к языку, или нашу собственную речь и слух, в отрыве от того образа речи и говорения, который дает письмо? Аналогом этого вопроса был бы следующий: «Возможно ли испытывать нашу сексуальность в отрыве от того, как культура, религия и идеология организовали наше сексуальное Я?» Или вопрос, можем ли мы воспринимать визуальный мир так, как если бы мы не жили в культуре, в которой визуальный мир является почти бесконечным объектом визуального изображения? Или, если говорить о более традиционных философских дебатах, этот вопрос похож на такой: «Существует ли перцептивное сознание за пределами нашего концептуального понимания?»
Речь не о психологии. Эти вопросы – онтологические. Что такое на самом деле язык, что наше понимание его, похоже, связано с деятельностью по представлению его в письменной форме? Кроме того, эти вопросы в некотором смысле экзистенциальны: «Есть ли у нас живая возможность заниматься речью, говорить и слушать, не будучи связанными речью и письмом?» Это было бы все равно что переживать опыт тела, как если бы никогда не существовало исторически выработанных гендерных ролей, или воспринимать движения танца, как если бы никогда не было Фреда Астера, Джеймса Брауна или того мальчика в десятом классе, который умел танцевать «Робота».
На данный момент ясно следующее: лингвисты продолжают вести себя так, будто интуиция говорящего или слушающего о грамматичности может быть взята в качестве точек данных и использована для реверс-инжиниринга природы базовой компетенции знания языка – компетенции, которая, как предполагается, не зависит от письменности и культуры. Мне же кажется более вероятным, что наши интуиции отражают степень, в которой мы воплотили в жизнь то, что Харрис называет скрипоралистской концепцией языка, – то есть способ мышления о языке после письма или в соответствии с моделью речи и языка, которая впервые становится доступной благодаря письму[101]101
Harris 1986.
[Закрыть]. Возьмем в качестве примера простое наблюдение, к которому мы мимоходом обратились выше: обычные алфавитные системы письма не отображают структуру фраз в той же мере, в какой отображают порядок слов. Это кажется правильным. Но понятен ли нам этот факт независимо от наших знаний о письменном языке? Является ли наше понимание того, что the и boy сочетаются, образуя единое целое, независимым от письменности фактом о том, как мы говорим? Или, скорее, само письмо и доктрина письма являются источником столь естественной для нас идеи о том, что речь состоит из единиц, которые можно комбинировать и рекомбинировать?
Давайте же теперь, отметя в сторону предварительные рассуждения, вернемся к вопросу, как или почему мы придумали письменность, то есть обратимся к тому псевдоисторическому вопросу, с которого я начал. Мы уже рассмотрели, что говорит по этому поводу простой взгляд. Письменный язык просто очень полезен. Как и в случае с колесом и огнем, выгоды от его использования достаточно, чтобы объяснить и то, как он появился, и то, как он сохраняется из поколения в поколение. Однако мы уже достаточно углубились в этот вопрос, чтобы начать понимать, почему этот тезис не может удовлетворительно объяснить, отчего мы начали записывать (или пытаться записывать) речь. Теперь же мы должны пойти дальше.
Легко понять, как мы можем применить наше графическое ноу-хау к задаче записи речи, если мы уже представляли речь как нечто, состоящее из структурных элементов, которые можно комбинировать и рекомбинировать в соответствии с определенными правилами. Но думать о речи таким образом – значит уже думать о ней именно как о чем-то пригодном для записывания, то есть артикулируемом в письме. Если я прав, то это значит думать о речи и нашей способности к ней таким образом, какой, возможно, впервые стал доступен нам концептуально только благодаря существованию письма как технологии. Но тогда кажется, что для того, чтобы изобрести письмо, мы уже должны уметь писать. Значит, письмо не изобреталось. Если мы пишем сейчас, то мы писали всегда.
Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что я буду называть парадоксом письма; как отмечалось ранее (в главе 1), он близок парадоксу Платона в «Меноне» или парадоксу Августина в его труде «Об учителе».
Остановимся и вспомним, что, помимо того способа думать о речи, который письменность сделала такой очевидной и естественной, есть и другие. В конце концов, речь – это движение. Это требующее навыков, осмысленное, чувствительное к контексту социальное движение. Разговор – это что-то, чем мы занимаемся вместе с другими, и при этом мы двигаем ртом и горлом, модулируем дыхание и ритм, позу и ориентацию. Разговор в этом смысле имеет больше общего со свободной игрой в мяч или, возможно, танцем, чем с напечатанными на странице предложениями. Как мы вообще можем получить представление о словах, порядке слов, фразах и структуре фраз из этого беглого упражнения, ориентированного на решение какой-то задачи движения, каким является, скажем так, «дикий язык»? Возьмем, к примеру, танец: как можно это записать? Хореографы пытались это сделать, но, осмелюсь утверждать, потерпели неудачу. С чего вообще начинать[102]102
Это спорное утверждение. Было много более или менее успешных попыток создать нотацию танца. И конечно, создание партитуры – если понимать ее очень широко – является базовой частью работы большинства хореографов. Но оно во многом спорно: нет способа записать человеческие движения, который обеспечивал бы над опытом движения человека контроль, сравнимый с тем, как письмо задает форму речи, а музыкальная нотация – форму музыки.
[Закрыть]?
Теперь у вас может возникнуть соблазн сказать, что разница между языком и неязыковым движением заключается в том, что язык артикулирован по своей природе и явным образом. Это структура, состоящая из частей; быть носителем языка – значит быть чувствительным к этой артикулированности, артикулированности, которая проявляется (как утверждал Гумбольдт) на двух уровнях (фонологическом и синтаксическом, а также семантическом).
Но разве нельзя сказать нечто подобное и о том, как действуют наши тела? Действительно, разве тело живого животного не является парадигматическим примером чего-то артикулированного?
Ясно одно: язык – это движущийся поток человеческой активности. Чтобы записать его, мы должны представить его структурированным и дифференцированным, но это означает уже занять такое отношение или позицию к языку, которое равносильно тому, чтобы считать его письменным или, по крайней мере, поддающимся записи.
Чтобы понять место письма в нашей языковой жизни, сформулировать адекватную концепцию языка, нам необходимо разобраться с этим парадоксом. Именно это я и попытаюсь сделать в оставшейся части этой главы. Я буду придерживаться стратегии, близкой стратегиям Августина или Платона. Я попытаюсь показать, что в каком-то смысле язык всегда был письменным; или, скорее, мы, носители языка, всегда были вовлечены в нечто, что является моральным эквивалентом письма. И поэтому нам никогда не приходится противостоять речи – стоять в стороне и задаваться вопросом, как мы можем записать ее, – как того требует парадокс. Но есть и более далекоидущий вывод. Язык, как я уже говорил, организуется письмом; но письмо – это достижение искусства и философии.
Но подождите, как может быть так, что мы писали всегда, если, как мы знаем, применение графических технологий к речи – это датируемое и довольно недавнее событие?
Чтобы лучше выразить проблему, будет полезно вспомнить, как логики представляют себе формальный язык.
Формальный язык, с которым работают логики, состоит из конечного числа примитивных, или атомарных, символов и набора правил или процедур для определения того, является ли какая-либо строка символов сама символом, является ли она, в терминологии логиков, хорошо сформированной формулировкой. Если это так, то хорошо; если же нет, что ж, тогда это запрещено правилами. Так же и со значением. Каждому примитивному символу приписывается значение, или «семантическая ценность», и есть специальные правила, позволяющие определить, учитывая значение или семантическую ценность каждого символа, каково значение или семантическая ценность каждой хорошо сформулированной формулировки. Если знаку не хватает соответствующего назначения, или если знаки объединены не по правилам, то результат является не столько бессмысленным языком, сколько неязыком.
Изрядная часть философии языка и лингвистики принимает примерно такую концепцию языка, разработанную изначально для формальных языков, как должное. Язык порождается правилами. А то, что не порождается правилами, является неязыком. Эмпирическое исследование направлено на то, чтобы выявить правила и репрезентации, как их называл Хомский, которые достаточны для определения языка и которые, таким образом, говорят вам, что вы знаете, если вы знаете язык[103]103
Chomsky 1980.
[Закрыть].
Теперь рассмотрим тот факт, что реальные языки, какими мы пользуемся сейчас, не таковы, по крайней мере, в одном важном отношении. Они не управляются правилами в том смысле, который я только что описал; они, скорее, используют правила, то есть носители языка применяют правила, чтобы руководствоваться ими, критиковать использование правил другими, разрешать споры и договариваться подобным образом о своих отношениях с другими[104]104
Сходная идея предложена в Baker and Hacker 2014.
[Закрыть]. Одна из отличительных особенностей настоящего языка заключается в том, что он всегда сталкивается с живой и непосредственной возможностью непонимания. Как правило, непонимание не прерывает язык, не заставляет нас выйти за его пределы, как это может показаться логику или лингвисту; для нас нет никакого выхода за его пределы, и непонимание для нас всегда является возможностью большего языка, то есть характерно лингвистической деятельности по объяснению, прояснению, разъяснению или обоснованию. Носители языка не просто действуют вслепую, в соответствии с управляющими ими правилами, время от времени неправильно используя слова и оказываясь в чем-то вроде лингвистического вакуума. Напротив, носители языка изначально используют язык, чтобы придавать смысл в условиях непонимания. Мы определяем слова; мы оспариваем употребление их другими; мы объясняем, что означает тот или иной термин или слово. На самом деле, как отметил П. Ф. Стросон в своей книге по теории логики, диапазон оценочных суждений о языке очень широк[105]105
Strawson 1952.
[Закрыть]. Одни фрагменты речи мы находим ясными, другие – мутными, одни смешными, другие – скучными и так далее. Есть много различных областей критического осмысления речи, которые разворачиваются внутри языка: логика, риторика, стиль, остроумие, изысканность и так далее. Это понимают даже самые маленькие дети. Одним из первых видов использования языка, с которым играть начинают дети, является просьба дать определение или объяснить смысл слова.
Быть носителем языка, таким образом, значит быть тем, кто занимает некоторую позицию по отношению к языку, кто подмечает его неправильное использование и чувствует себя обязанным его исправлять; это значит быть тем, кто борется с различиями. Вот почему я говорю, что язык – это деятельность, использующая правила (или, возможно, даже иногда создающая правила), а не управляемая правилами. И именно поэтому я говорю, что быть носителем языка – это, помимо всего прочего, быть тем, кто думает о языке.
Представлять себе говорящих, которые просто продолжают говорить и никогда не задумываются, что другой имел или мог иметь в виду, – значит представлять себе нечто совершенно непохожее на настоящий человеческий язык. (Возможно, именно таким будет язык машин.)
Спотыкаться, спорить, разрешать споры, вводить новшества, объяснять, формулировать, пытаться лучше выразить – это готовые к использованию способы обычного, повседневного использования языка. Критерии правильности, вопросы о том, как продолжать, или о том, что является или не является грамматически правильным, борьба с непониманием – это внутриязыковая деятельность, которую мы осуществляем и о которой спорим, и она не требует от нас переключаться, как сделал бы логик, к внешней относительно языка метадеятельности по созданию грамматики.
Хьюберт Дрейфус предположил, что существует четкое различие между первостепенной вовлеченностью в задачи или деятельностью и прерыванием этой деятельности с целью размышления или самоконтроля[106]106
Dreyfus 2014.
[Закрыть]. Когда мы находимся в потоке, мы просто действуем; размышление приходит только тогда, когда поток прерывается.
Я согласен с Дрейфусом в том, что мы должны бдительно защищаться от интеллектуализма или когнитивизма, согласно которым человеческая деятельность поднимается до уровня действия только тогда, когда сопровождается сознательными психологическими актами отстраненной оценки и созерцания[107]107
Вероятно, таков взгляд Stanley 2011.
[Закрыть]. Но, по иронии судьбы, в случае с языком именно взгляд Дрейфуса наиболее точно соответствует искусственности модели логика. Проводимое Дрейфусом противопоставление потока и разрыва идеально соответствует пониманию логиком того, что находится внутри языка, а что – за его пределами. Использование языка для вынесения решений и регулирования, а также для размышления о языке является одним из его фундаментальных психических режимов первого порядка. Беспокоиться о языке, размышлять о нем, занимать писательское отношение к языку – значит не уничтожать язык, а действовать в нем. В языке содержится своя собственная метатеория; или, лучше сказать, язык всегда и с самого начала содержит проблему «как продолжать?», а также проблему «что происходит?». Размышления о языке и споры о нем, пусть и второго порядка, уже содержатся в языке как явлении первого порядка.
Полезно будет, мне кажется, сравнить случай языка со случаем другого стиля, основанного на навыках взаимодействия с миром, а именно собственно восприятием.
В «Трактате» Витгенштейн говорит, что глаз является границей поля зрения[108]108
Wittgenstein 2018а, § 5.6331.
[Закрыть]. Это неверно: в том, как мы видим, даны регулировка глаза, необходимость регулировки глаза, трудности в регулировке глаза. Видеть – не значит быть где-то вроде принимающего конца проекции поля; это значит быть в игре; зрительное поле – это поле игры. Воспринимающий или воспринимающая находится в поле визуальной игры.
Задумаемся: мы живем в загроможденном пространстве. Колонны, люди, мебель – все это загораживает обзор. Но лишь изредка мы воспринимаем мир как закрытый такими препятствиями; они мешают нам видеть не больше, чем каменистая тропа мешает идти вперед; мы двигаем глазами, мы двигаем головой, мы двигаем телом точно так же, как регулируем положение ног на тропе, чтобы не упасть, и таким образом мы поддерживаем связь с миром. Это не значит, что мы видим сквозь препятствия или вокруг них. Мы не можем этого делать. Мы можем сохранить доступ даже к тому, что сейчас не видно. Визуально мы переживаем гораздо больше, чем видим строго в смысле проекции[109]109
Это главная тема Noë 2004 и 2012.
[Закрыть].
Евклид заметил, что твердый непрозрачный объект нельзя видеть сразу со всех сторон. Я напоминаю, что эта неспособность не является ограниченностью; на самом деле она связана с характером того, как объект может представать перед нами визуально. Перцептивная встреча, при которой вы видите объект, но так, что ни одна из его частей не скрыта, не могла бы быть формой визуальной встречи с ним. Эта особая форма хрупкости – то обстоятельство, что одна сторона скрывает другую от взгляда, что при движении различные стороны объекта появляются и исчезают из виду, – как раз и относится к тому способу восприятия, который мы называем визуальным. Он конституирует визуальную модальность. Зрение в этом смысле имеет явно хрупкую природу.
Существование невидимых частей видимых нами вещей, равно как и существование земли, на которой мы стоим, – это результат нашей договоренности.
Так же и с говорением и речью. Говорящий передает свои мысли не более, чем окружающая среда передает свое изображение. Говорение, как и зрение, – это постоянная сделка, переговоры. Непонимание, неясность, расплывчатость – это сами составляющие языка, так же как непрозрачность и затуманенность – составляющие зрения.
Писательская позицияТеперь вернемся к парадоксу и псевдоисторическому вопросу, как и почему мы вообще пришли к письменности.
Итог того, что я просил рассмотреть, таков: быть носителем языка – значит, помимо всего прочего, интересоваться вопросами о языке, и поэтому использование языка требует от говорящих и слушающих стремиться представить или вообразить то, что они делают, когда говорят. Таким образом, речь в нормальных условиях всегда стремится к записи, то есть к созданию своей модели или образа, созданию того, что Витгенштейн называл «наглядной репрезентацией», которое в некотором смысле является своего рода картиной. Язык призывает к письму, к своему записыванию. Это верно для всех языков и всегда, ибо таков, если угодно, нормативный двигатель самого языка. Язык требует рефлексии, а рефлексия требует, чтобы мы разработали способы мышления о языке. То, что мы называем «письменным языком», заключается в импорте и применении существующих графических методов для решения этой задачи. Письменный язык является важным нововведением, но оно, так сказать, только техническое. Все языки, независимо от того, имеют они письменные системы или нет, обладают средствами, чтобы занять рефлексивную, писательскую позицию к самой речи. Письменность в современном смысле этого слова – использование графических средств для записи речи – является лишь одним из способов решения проблемы, которая, по сути, предшествует этому устройству и вытекает из нормативного, то есть использующего правила характера самого языка. Наконец, письменность служит для того, чтобы четко отражать то, что мы думаем и делаем, когда используем язык.
И это позволяет нам разрешить наш парадокс: мы не сталкиваемся с проблемой изобретения письма или открытия структуры, как если бы мы находились вне ее. Мы всегда записывали язык, поскольку говорить – значит участвовать в работе по представлению нашей деятельности говорения с самим собой, а это в конечном счете и есть письмо.
Мы могли бы сформулировать это следующим образом: писательская позиция – это условие самой речи, ведь речь по своей природе связана с письмом как таковым (то есть моделированием языка как деятельности) в ответ на внутренние для языка нормативные вызовы. Этот тезис согласуется с утверждением, что не бывает письма без говорения. Но также он позволяет сделать еще более интригующее открытие: по причинам, которые я привел выше, невозможен и разговор без письма (или, скорее, писательской позиции)[110]110
Моя мысль не просто в том, что мы переживаем речь через текст, как утверждает Derrida 1967/1977. Моя мысль в том, что независимо от того, есть или нет у нас под рукой текстов, независимо от того, является наш язык «письменным» или нет, мы уже должны иметь способность к такой позиции относительно нашей деятельности, то есть, как я называю это, к моральному эквиваленту письма. То есть мы уже должны занимать писательскую позицию.
[Закрыть].
Таким образом, письмо и речь, несмотря на их различие, появляются вместе и связаны теснее, чем мы предполагаем. Конечно, как только у нас появляется графическая технология алфавитного письма, начинается совершенно новое плодотворное взаимодействие и взаимовлияние письма на речь и речи на письмо, которое может усиливаться и ускоряться. Ведь наличие способов репрезентации или изображения того, как мы говорим (условно – письма), оказывает влияние на то, как мы говорим, а это, в свою очередь, изменяет то, что мы сами репрезентируем как делание, когда говорим; другими словами, оно изменяет письмо. Это, со своей стороны, приводит к замыканию и еще более существенным изменениям.
Речь – это одно, письмо, или писательная позиция в отношении речи, стремление репрезентировать речь – другое; но в историческом времени и в культуре они неразрывно переплетаются. Чтобы понять природу их переплетения, мы должны заметить различие понятий между двумя этими сплетенными нитями – речью и письмом. Но само понимание феномена их переплетения уже является в некотором смысле важным открытием.
Если я прав, то получается, что акт изобретения письменности в конечном счете сослужил службу скорее философии, нежели более обыденным удобствам вроде создания возможности записывать или отправлять сообщения или помощи в развитии науки или бюрократии. Это побочные эффекты. Ведь это изобретение было попыткой показать структуру нашего языка, чтобы, в конечном счете, мы могли знать, что делаем, когда говорим. Письмо всегда было связано с записью самих себя. Это был проект, на самом деле – один из важнейших проектов философии, начиная с Аристотеля, Фреге и Витгенштейна, Остина и Дэвидсона.
В действительности, таков был и проект Сократа. Часто говорят, что для Сократа философия была устным занятием, и здесь мы вспоминаем ранние диалоги Платона и их истинно диалогическую форму. Но на самом деле Сократ был не просто хорошим собеседником. Сократ был скорее дознавателем, и эффект его бесед не в том, чтобы исследовать идеи посредством разговора, а в том, чтобы разговор прерывать. Сократ требовал от своих собеседников, чтобы они прекратили говорить как прежде, перестали действовать в соответствии с привычками мышления и разговора, но подвергли их, свои привычки, критической оценке. По сути, говоря коротко, Сократ требовал, чтобы они замолчали, перестали действовать и начали писать, начали заниматься философией.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































