Текст книги "Для кого восходит солнце"
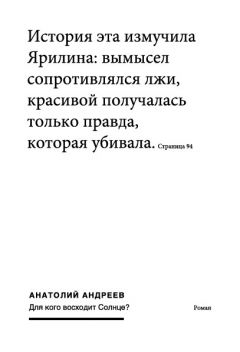
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Когда же теперь ждать, сынок?
– Через год, мама, через год.
Мать заплакала.
Еще через неделю Виктор Карякин сидел за рулем огромного автофургона, который мчался по извилистой трассе. После армии, после Афганистана, где он возил цистерны с бензином, Карякин так и не сменил профессии. Он привык быть один в дороге. Правой рукой он включил радиоприемник, и оттуда скрипка запела смутно знакомую нежную мелодию. Глаза Виктора заволокло влажной пеленой, и он остановил машину.
Он выключил радиоприемник и уронил голову на руки.
Одинокий фургон долго чернел на обочине. Потом Виктор поднял сухие глаза, упрямо наклонил голову, и фургон, взревев, исчез за поворотом, светясь малиновыми угольками задних огней.
9
Полина быстро прочитала рассказ и торопливо набрала номер телефона Ярилина. Трубка равнодушно гудела до тех пор, пока она не швырнула ее на рычажок. «Ну, вот, – прошипела Полина, обращаясь к телефонному аппарату, и зло закусила губу. – Я же знала, что его не надо отпускать. Где он живет?»
Аппарат обиженно молчал, а у симпатичной женщины в желтом халате в глазах стояли слезы. Тогда аппарат ожил и выдал деликатную трель.
– Слушаю, – вежливым и ровным голосом сказала Полина, вытирая слезы.
– Я вот о чем подумал, – сказал Ярилин таким тоном, словно они и не прерывали беседы. – По телефону удобно отказывать, потому что не видишь человека. А вдруг тебе захочется увидеть меня – понадобится адрес. Сейчас ты прочитала рассказ и уже можешь решить, нужен тебе мой адрес или нет.
– Ва-лен-тин, Ва-лен-тин, – мурлыкала Полина. – У тебя полнозвучное, звенящее имя.
– Прикажете адресок? – не сдавался писатель.
– Прикажу слушать меня и не перебивать. Забери меня отсюда, милый. Не оставляй меня.
– Я целые сутки ждал, когда ты произнесешь эти слова. А перед этим – еще лет сорок.
– Сорок один.
– Ну да. Сорок один год и одни сутки. А сколько ты ждала меня?
– Двадцать восемь лет. Не знаю, сколько это будет, если перевести в дни.
– Тебе легче. Двадцать восемь лет – это не очень большой срок. Я буду без фуражки, ты узнаешь меня?
Полина его не слышала. Она плакала, и слезы капали на желтый халат и на трубку, говорящую голосом Ярилина.
После колдовской, просто чудесной ночи, когда галогеновые всполохи молний, раскалывающих подсиненные небеса, чередовались с протуберанцами страсти, измученная парочка подалась на балкон, обращенный, как помнит читатель, на восток. Малиновый кусочек солнца, укутанный дымчатой мглой, стыдливо выползал из-за края горизонта. Картина зарождающегося дня отдавала чем-то несомненно сексуальным, что сразу же почувствовали мужчина и женщина. Ощутив его желание, она выгнула спину, повела бедрами, и ему приоткрылся малиновый очаг, напоминающий солнце. Он приник к этой жаркой точке вселенной, а подруга его самозабвенно и отчетливо стонала в этот тихий предрассветный час. Никогда еще наслаждение не было таким острым и всепоглощающим.
Из него долго и сладостно перетекала жизнь в недра женщины, а он мощно пульсировал в ритме любовном и одновременно воинствующем, которым мудро наделила человека глупая природа. Забегая вперед, отметим, что Полина ни секунды не сомневалась, что именно в этот час они зачали ребенка.
Стоны Полины были оценены не только восходящим светилом. Всклокоченный, словно неандерталец, сосед с интеллигентным упреком во взгляде уставился было на нее, блаженно массирующую себе грудь и поводящую ничего не видящим взором, но Ярилин бодро приветствовал его, отвлекая:
– Доброе утро!
Сосед кивнул встрепанными кудрями и притворился, что пасть его раздирает добрая утренняя зевота, которая многократно слаще любви.
Когда во взоре Полины стала проступать осмысленность и прояснилась поволока, она посмотрела на Ярилина так, словно увидела его впервые.
– Милый, – сказала она так просто и естественно, как собака виляет хвостом.
Ярилин оглянулся, и солнце подмигнуло ему, солидно выкатываясь на бледно-голубое поприще ярко-желтым всевластным хозяином.
10
Валентин Сократович на крыльях летел к Спартаку. Ему казалось, что если он не поделится сию же минуту с другом переполнявшими его чувствами, то счастье его просто физически уменьшится в объеме. «Друг – это тот, с кем хочется поделиться счастьем», – формулировал привычно Ярилин. «Нет, не совсем то. Ты делишься с ним счастьем, а оно увеличивается от этого, становится полновеснее. Странная штука, дружба. Каждый живет своей жизнью, каждый сам добывает себе счастье, но если нашел его – бежишь к другу…»
Спартак был трезв, несколько суетлив против обыкновения и мелочно озабочен. Он перебирал какие-то сумки, обложился пакетами.
– Эмка умер, – сообщил он тоном, предупреждающим о том, что сочувствия сейчас были бы неуместны. Они превратятся в чистую формальность, а это явно не достойно их отношений. Спартак был собран и отмобилизован. Он просто растворился в похоронных хлопотах. Следовало поторапливаться, ибо процедура похорон в казенном доме была расписана и отлажена, конвейер был запущен. Спартак со сдержанной радостью сообщил о том, что ему удалось убедить социальные службы и прикупить участок на двоих, имея в виду, что место рядом с сыном предназначается ему, Спартаку.
И озабоченность, и радость не понравились Валентину Сократовичу. Он предпочел бы, чтобы Спартак был убит горем. От горя надо возвращаться к радости – и это дело жизни. Спартак как-то легко смирился с финалом, к которому он давно был подготовлен, и просто потух. Словно по нем прозвонил колокол. Он весь переключился на ритуальную сторону дела, отдавая должное заведующей интернатом за внимание, нянечкам, которые плакали, глядя на Спартака Евдокимовича, за заботу. Все, что необходимо в таких случаях, было сделано, по большому счету, без участия Спартака, которого весь персонал называл не иначе, как «профессор». Он был тронут тем, что была найдена возможность выделить специальный автобус, где нашлось место им с Валентином Сократовичем. Все это представлялось несчастному отцу знаками особого, исключительного внимания.
Чрезвычайно восхитило его место на кладбище, наверху, «где посуше», как он выразился, рядом с островком высоких сосен. Ему очень понравилось также и то, что добираться на кладбище по меркам городским было не особенно обременительно, можно сказать, удобно. Он присматривался к городу мертвых как к месту жизни.
Шофер автобуса, Михалыч, был щедро вознагражден способом традиционным: сумкой с провизией и поминальной бутылкой. Валентин краем уха слышал, что шофер собирался заскочить на поминки к любовнице, «отметить это дело».
С краснорожим бригадиром посиневших от пьянства гробокопателей Спартак со вкусом входил во все детали похоронного процесса и загробной жизни: когда отлетает душа, когда лучше ставить памятник, из какого материала, где следует заказать надгробную плиту и т. п.
– Не волнуйся, отец, не обидим, – хрипел краснорожий, изображая эксклюзивную активность, которую здесь все со знанием дела принимали за сочувствие. Кубометры, грунт, само место – все будет в лучшем виде, не хуже, чем у людей. Спартак в свою очередь проникся сочувствием к полумертвой бригаде и безо всякой на то необходимости, потакая слабости душевной, одарил их самой большой сумкой из своего поминального резерва.
Эмка прощался с жизнью земной. Маленькое усохшее тельце, которое провожали философ, писатель и нетерпеливо переминавшиеся могильщики, со скукой взиравшие, как их драгоценные мгновения жизни растрачиваются на прощание с Богом обиженным, практически сиротой, – тельце это, ставшее бренной плотью, было готово к погребению. «Как дань, готовая земле. Гробокопатели и перед смертью не уважают жизнь. Вот если бы генерала хоронили, академика, а еще лучше генералиссимуса… По струночке стояли бы и дышали в сторону», – тоскливо струились мысли писателя.
– Помянем, отец, – со слезой, выжатой ветром, несколько фамильярно вопросил старшой. Труд души, потраченный на имитацию сочувствия, давал право на близость.
– Конечно, дорогой мой, – выговаривал непослушными губами Спартак Евдокимович, наблюдая невидящими глазами, как ловко и споро бригада забросала яму землей, обозначив место захоронения аккуратным холмиком и столбиком с надписью: Острогов Эмануэль (Эмка) Спартагович, 10. 03. 1985 – 10. 08. 2000. Бомбино.
Валентин Сократович знал, что Спартак часто обращался к малышу по-итальянски, потому что тот удивительно реагировал именно на эти звуки: неизменно улыбался и гулил. Спартак даже написал статью о связи бессознательного с эстетическим, отталкиваясь от наблюдений за своим бамбино. Социальные службы в знак особого уважения к «профессору» воспроизвели все прозвища маленького человечка, словно титулы, которые он заслужил при жизни.
Мужики стали кругом, молча вытянули по полстакана водки и стали постепенно оживать.
– Не волнуйся, – говорил бригадир, обращаясь отчего-то к писателю. – Мы все понимаем. У меня, вот, тоже: мать при смерти и сестра инвалид. Мы жизнь уважаем. А ты, видно, сильно любил его? – повернулся он к Спартаку.
– А то как же?
– Ну, да. Сын же…
Валентин Сократович с удивлением изучал мясистое лицо предводителя могильщиков, пораженный звериным чутьем на человеческие проблемы. И вдруг ни с того ни с сего спросил:
– А ты в Афгане был?
– Был. А что?
– Да так. А писать не пробовал?
– Что писать?
– Повести, романы. Как все писатели.
Бригада дружно ржала, соблюдая профессиональную этику, то есть давилась смехом в рукава рабочих курток, а их атаман был обескуражен, будто ребенок, которого при всех незаслуженно унизили.
– Братан, – сказал Ярилин, – я тоже был в Афгане. Сейчас вот романы пытаюсь писать.
– В каком году? – сразу все простив Валентину, спросил бригадир, понизив голос и взяв ту особую интонацию, с которой «афганцы» говорят о самых главных вещах самым простым тоном. – Какие войска? На Саланге был?
Старшому дали знак, и в следующее мгновение он коротко мотнул головой (приказ бригаде) в сторону многочисленной процессии, хоронившей, судя по всему, именно генерала: медные трубы, толпа в погонах, горем убитая семья, дети, внуки… Все чин чином. Все как у людей.
– Слышь, брат, – прощался краснорожий. – Заходи, выпьем… Генку Сапера спросишь. Мне рыть пора.
– Зайду, – ответил Валентин.
Бригада вытянулась гуськом и, изображая почтение, замерла на уважительном расстоянии от места, где начинался траурный митинг, который Генка назвал «сходкой». Последний в команде гробокопателей, очевидно, особо ответственный, бережно держал в руках сумку от Евдокимыча.
Вечером Валентин сидел у Спартака за поминальным столом. Отцу, потерявшему сына, казалось кощунственным обойтись на сей раз без пищи, приготовленной собственными руками, поэтому помимо шпрот и объемного блюда с мясным ассорти, добытого, впрочем, в колбасном отделе все того же универсама «Восточный», стол украшен был незамысловатым, но очень полезным салатом, сотворенным Астроговым собственноручно (помидорчики, огурчики, укропчик, репчатый лучок), и в центре стола – гвоздь меню, горячее: блюдо с дымящейся картошкой, желтоватой и рассыпчатой. Веточки петрушки придавали картошке ресторанную респектабельность и солидность.
За таким столом торопиться было невозможно. Все располагало к задушевной беседе, лучшему способу помянуть усопшего.
– Царство небесное моему Эмке, – сказал Спартак, поднимаясь и держа в вытянутой руке невесть откуда взявшуюся довольно изящную рюмку простого зеленоватого стекла. Точно такая же стояла и перед Ярилиным.
– Нет, сначала надо говорить «земля ему пухом», – поправил Валентин, – а уж потом, через девять дней, – царство небесное.
– Я думаю, Эмку сразу направят в царство небесное, в вечный покой, – сказал Спартак, накладывая себе салат. – Понимаешь, ни единого греха. Ни капли агрессии, сама беззащитность. Люди-то ведь – хапуги. Хватательный рефлекс – родовой признак человека.
– И котов, – добавил Валентин.
– Да, и скотов, – согласился Спартак. – Святые люди – слабоумцы, в идеале – олигофрены или дауны. Нормальный человек – хапает и хватает. Не хватануть ли и нам за упокой души святейшего отрока?
– А ты думаешь, была у него душа?
– Несомненно.
Спартак отставил в сторону рюмку и стал рассказывать Ярилину, как он, Астрогов, ощущал давящую на Эмку муку немоты. Броня интеллекта – лучшая защита для человека. Ничего не понимать – значит быть беззащитным, обречь душу на невнятную тоску. Из таких беспомощно «мычащих» неплохие поэты получаются, если они не дауны. Вот Эмка не дотянул до поэта. Невозможность помочь беспомощному – вот что угнетало Спартака. Ему казалось, что он чувствует те же страх и боль, что и Эмка. Он не сомневался, что в малыше поселились страх и боль. Вот почему бросить это живое существо было для него больше, чем предательство; это было самое настоящее убийство. Не в уголовном, и даже не в моральном, а в философском смысле. Читай «Онтологию разума».
– Понимаешь, Ярилин, душа человек… Самое страшное в мире – это люди, живущие бессознательной жизнью. Почему? Потому что у них один принцип, делающий их беспринципными: жизнь и кайф – любой ценой. Почему я так ценю Тимку и Эмку? (Песик, услышав свое имя, явился возле хозяина.) Это самые чистые живые существа из всех, которых мне доводилось видеть. Но как только проснулось сознание, и до тех пор, пока оно еще не отдает себе отчет, что оно проснулось, оно каторжно вкалывает на подсознание. Понял? Вот в этот период, когда ум питает бессознательную жизнь, а человеку кажется, что он живет умом, – человек наиболее опасен. А ведь девяносто пять процентов населения Земли верит в царство небесное. Это диагноз. Вопрос: чем они думают? И ведь это наша с тобой, умников, среда обитания. Нет, Эмка предпочтительнее. Кстати, прекрасная половина человечества, половина из ста, всю жизнь живет бессознательно. Я имею в виду очаровательных женщин, конечно…
– Ну, ты хватил.
– Нет, дослушай. Те из них, кто понял это, из-за недостатка ума становятся святыми, «порядочными», то есть рабынями благородных принципов.
– И кто, по-твоему, предпочтительнее, святые или порочные?
– Это дело вкуса. Я предпочитаю тех, кто кусается: там меньше претензий.
– Я встретил женщину, которая не попадает ни в какие проценты.
– Бывает. Это оттого, что ты сам пополнил ряды безумных. С чем тебя от души и поздравляю. И завидую черно-белой завистью. Как ее зовут?
– Полина.
– Валентин и Полина. Звучит необычайно романтично. Мужчин почему-то всегда в паре ставят первыми. Хотя любовь ассоциируется с началом женским. Полин и Валентина: тоже неплохо.
Настала пора вспомнить об отлетающей душе Эмки, и они, не чокаясь, выпили.
Тим на этот раз отозвался на «Эмку», чем заслужил поцелуй умиленного Спартака.
– Он здорово напоминает Эмку, только больше понимает. Но Эмка ощущал, что он человек.
Тим не сводил глаз с учителя жизни.
– Глядя на пса, не постигнешь природу человека. Но именно благодаря Эмке я и написал «Онтологию разума». Я наблюдал и изучал зачатки того, что потом может стать разумом. В постижении азов теории сознания Эммануил мне сильно помог. Видишь ли, люди мыслят редко. В основном они чувствуют, приспосабливаются, бессознательно хитрят. В этом смысле Эмка в зародыше обладал всем, чем оснащен человек. У него была своя, маленькая душа. Если книга чего-то стоит, человечество должно помнить, чем оно обязано дауну.
Они помолчали.
– Кстати, о книге твоей. Тебе ее, разумеется, не вернули? – бегло поинтересовался Валентин.
Астрогов вновь погрузился в молчание, поглаживая Тима, притихшего у него на руках.
– Валентин, вот нам с тобой дано мыслить. К счастью дано, не будем лукавить, хотя горе от ума – наша с тобой жизнь. Давай рассуждать, то есть будем оставаться мужчинами, то есть венцами творения.
– От венца слышу. Давай.
– А все просто, коллега. Я когда-нибудь издам свою книгу? Посмотри на эти стены с чудно сохранившимися в течение двадцати лет обоями, которым давно пора в утиль или в музей, посмотри на этот стол, посмотри мне в глаза и скажи: я в состоянии издать свою «Онтологию»? И дело даже не в деньгах. Я просто не успею.
– Возможно, ты прав. Ну, и что?
– А то, дорогой мой сын Сократа, что я неплохо покопался в природе человека и имею представление о том, как порождаются его системы ценностей. Homo sapiens обречен мыслить: в этом его перспектива и спасение. Пока же мы не мыслим, а обманываем сами себя. Романы пишем, извини. В широком смысле – прячемся от себя, живем в мире иллюзий и грез. Страус голову в песок – а мы в Библию. Песни да псалмы воркуем, а уж ядерная зима катит в глаза, дорогой голубчик. Это ведь не пустяки, Валентин. Зачем восходит солнце, черт возьми? Чтоб мы прозрели, поумнели.
– Погоди, погоди… Ты хочешь сказать, что ты едва ли не сознательно отдал свою книгу этому пижону?
– А ты, брат, следопыт, писатель. Кожаный чулок и большой змей. Едва ли не сознательно… Хорошо сказано. Эта книга должна жить, понял? Она должна войти в культуру. Не зря же мы с Эмкой напрягались. Герка – мой шанс. Я ему целый год полоскал мозги и возбуждал тщеславие. Он примитивен, честолюбив и нахрапист, как антихрист. Он душу готов продать, чтобы стянуть у меня рукопись. Вот мы и поладили: он мне Антонину, я ему – свой культурный подвиг. Так рождаются шедевры: творческий гений, даун плюс наглая пробивная тварь. Все вместе называется торжество разума.
– Погоди… Он специально подсунул тебе Антониду?
– Ну, что вы, Валентин Сократович, на все есть своя манера. Мы же почти джентльмены. Антониде, как потом мне удалось выяснить, позарез необходима минская прописка. Девушке в нежном возрасте нужен город, культура. Вот ее скромный интерес. Герка обещал ей все блага столицы, если она поможет умыкнуть рукопись. Постель, сам понимаешь, не оговаривалась, но так уж получилось. А теперь я предлагаю Тоньке выйти за меня замуж. Она плачет и раскаивается в содеянном. Скоро у нее будет и квартира, и прописка. У Герки, скотины, – изданная книга. У меня, дурака, – камень с души, у Тимки, барбосика, – молодая хозяйка…
– А у меня – голова кругом от ваших человеческих проблем. Где-то ты перемудрил, Спартак Евдокимович. Бред какой-то.
– Сил не рассчитал, Валентин Сократович. Надо было жить, как ты. Да, да, не ёрзай. Ты правильно, грамотно живешь. Понимаешь не меньше моего, но у тебя и романы, и любовь. Словом, жизнь. А я возгордился в какой-то момент, почувствовал себя сверхчеловеком. Может быть, так оно и есть, однако жить и выжить можно только по-человечески, просто по-человечески. Если угодно – слишком по-человечески. Помянем Эмку. Прощай, ангел мой, лети к звездам. Ad astra. Ты же все-таки Астрогов…
Последний вразумительный монолог Спартака перед исповедью врезался в память Валентина навсегда.
– Как ты думаешь, почему жизнь моя пошла по странной колее? Можно сказать, не слишком заладилась. А дело в том, что я крупно разочаровался в человеке. В людях. Я не верил, что среди этого… этих… среди них можно пожить по-человечески. Алкоголь, и вообще развязный образ жизни как форма протеста – вот что я выбрал. Я весело плевал в морду этому миру. А потом уже оказалось поздно что-либо менять. И вот теперь уже – рылом к рылу со смертью… Я плевал против ветра. Моя жизнь – честная и искренняя. Но в ней силы маловато. И все же я не променяю ее ни на одну буржуазненькую и потребительскую карьерку. Мурло мещанина и лик апостола – говно. Одна сатана. Я прожил сознательную жизнь. Я познал себя и людей. Имей мужество познать себя – на это у меня мужества хватило… Отчего же я в печали? А это уже страдательная сторона диалектики.
А теперь расскажи, порадуй, откуда взялась твоя пери? А хочешь, я расскажу тебе свою жизнь? Почему Жан не пришла на похороны, а? Ты знаешь, кто такая Жан?
А помнишь, как мы с тобой зимой Эмку выгуливали?..
11
Черный кот вкрадчиво приближался к серой стайке откормленных голубей, неторопливо клевавших разломившийся бисквит. Кот даже не перемещался, а как-то неуловимо вписывался во все новые квадратные метры пространства, отделявшие его от нагло пирующих пернатых. Он мягкими рывками продвигал корпус и мгновенно фиксировал его в прежнем положении; казалось, что он так неподвижно и замер в своей стойке. Однако голуби давно все узрели и приняли игру. Они контролировали дистанцию и изображали беспечность. Но вот двое из стайки, не выдержав войны нервов, с большим упреждением тяжело взмыли вверх. Это была не паника. Остальные, как ни в чем не бывало, переваливались на своих красных веточках-лапках, аккуратно продолжая свой ланч. Возможно, они даже ехидно улыбались.
Котяра, надо отдать ему должное, вел свою охоту так, словно не был обнаружен. Он честно отрабатывал номер. На человеческий глаз давно уже казалось, что голуби находятся в зоне риска. Но кот, продолжая свои змееподобные выпады, не брезговал сантиметрами. Напряжение, казалось, сгустило воздух. Валентин Сократович, конечно, пропустил тот момент, когда кот, послушник инстинктов, двумя изящными финтами завершил дуэль. Сначала он вытянулся в прыжке на метр параллельно земле, а потом сиганул, как из пращи, черной кляксой вверх, и уже в воздухе едва не завалил сизокрылого. Старт кота был вполне орлиным. Все решили доли секунды и миллиметры. Эти стопкадры пронеслись моментально. Кот промахнулся или не дотянул, и с нутряным мурлыканьем встретил когтями бетонную стену здания. Когти отчетливо клацнули зловещим костяным стуком, кот мягко спружинил лапами о землю, и в глаза Валентину, тайному свидетелю неудачной охоты, уперлись темные точки зрачков, охваченные плотной зеленой подсветкой. Маленькое мохнатое существо излучало столько энергии, нервно подергивая вздыбленным хвостом и непрерывно облизываясь, что Ярилину показалось, будто его, нежелательного свидетеля, испепеляют лазерные лучики.
– Природа, пес ее задери, – промолвил Валентин, невольно заводясь и судорожно сглатывая слюну. Он покачивал головой, отмечая про себя, что любая поза этих невинных тварей, взятая в любом ракурсе, была само совершенство.
– Красиво, не спорю.
– Борис, Борис, на жвачку, кис-кис-кис, – поманила кота маленькая девочка на роликовых коньках, которая не могла добраться до него по траве.
Валентин собрался из своей Малиновки в город, в самый центр города, к Полине, отдохнуть душой. Ради этого предстояло атаковать общественный транспорт, жестоко и хищно ставя плечо ближнему своему, иначе не выживешь, сомнут в два счета. Раз, два – и готово. Собственно, жизнь в городе и состоит сплошь из умения давануть себе подобных. С другой стороны, в городе можно побыть сибаритом, понежиться, почувствовать себя культурным человеком.
На сей раз Валентин втиснулся неудачно, приперев к стойке кудлатого бомжа, от которого тошнотворно несло тленом разложения, стойко тянуло дохлым ежиком. И запах этот отчего-то напомнил Афганистан. «Ей-Богу, бля», – горячо божился бомжик, сражая какими-то неотразимыми аргументами сочувственно сопевшего напарника. Кудлатый, очевидно, воспроизводил какой-то волнующий эпизод. «Я говорю, – твердо диктовал он, – зачем ты ломаешь ветки? Дереву же больно! Оно в анабиозе, гандон!» – закруглил он мысль.
Конкретные позывы тошноты заставили Валентина резко рвануться к выходу. Только оказавшись на улице и глотнув свежего воздуха, он сказал, неизвестно к кому обращаясь:
– Приношу свои извинения, господа.
А потом ни с того, ни с сего прорычал: «Клошарры!», чем несказанно удивил метнувшуюся от него бродячую собаку.
Следующая попытка оказалась куда более успешной. Валентин, семеня шажками, проник почти в середину салона. Здесь ему пришлось стать свидетелем сцены из жизни людей иного рода.
– Ну, что вы мне глазки строите, мамаша? – надрывался гладкостриженый молодой человек, обращаясь к стоявшей рядом с ним пожилой женщине в буклях. – Думаете, место я вам должен уступить? Не уступлю, не питайте иллюзий.
– Если совесть есть – уступите, – держала оборону видавшая виды бабуленция.
– При чем здесь совесть? Я уступаю место только женщинам беременным и с маленькими детьми. Понимать надо. Это общественный транспорт. Все равны. Это вас неправильно воспитали при социализме – вот и вся проблема.
«Мамаша» молчала, поджав губы. «Ведите себя достойно!» – не унимался обнаруживший большие склонности к внушению молодой человек.
Граждане пассажиры, наученные собственным горьким опытом общения с волевыми молодыми людьми, равнодушно внимали, как демократично развалившийся гладкостриженый выговаривал бодрой пенсионерке за то, что ей тоже хотелось сидеть в переполненном троллейбусе.
Через несколько остановок, когда божьего одуванчика в буклях с романтическими, чтобы не сказать устаревшими, взглядами на совесть смыло волной отлива из молодых и крепко сбитых тел, на подножке общественного транспорта оказалась мамаша, за отворот пальто которой вцепился крупноватый детеныш в синем комбинезончике из водоотталкивающей ткани. Она держала его на руках, и можно было не сомневаться, что ей приходилось нелегко. У взволновавшихся пассажиров вновь появился повод поднять тему «женщина и ее место в обществе».
– Пройдите сюда, девушка. Здесь есть место строго для вас, – прорезался опять голос гладкостриженого, которому представился шанс продемонстрировать гуманность своей непреклонной позиции. – Впереди никто не уступит. Проверено. Каждый день с работы езжу в это время. Будут сидеть, как мертвые.
Публика пропускала провокации мимо ушей. Яйцеголовый поднялся, место было свободно, и все ждали, как бедная мамаша, на которую были оформлены все права на местечко в центре салона, преодолеет пространство, плотно заставленное телами сочувствующих. Очевидно, гуманный жест гладкостриженого утратил эффективность вследствие своей бессмысленности: мамаше было не добраться, а место глупо пропадало.
– Садитесь, девушка, – широко предлагал почти лысый симпатичной соседке, обнаруживая таки реликтовое самосознание сильного пола, как бы признавая, пусть и с некоторым запозданием, фактическое неравенство между полами. Он явно перебрал на тетеньке с буклями, и теперь его слегка томило что-то вроде чувства вины. Цыганисто одетая девица, в ушах которой колыхались громадные дутые хулахупы, а вывернутые губы вызывающе млели малиной, не заставила себя долго упрашивать и царственно восселась на предназначенный ей трон, обрабатывая жвачку только нижней челюстью, словно корова.
Валентин поймал себя на мысли, что за котом с голубями наблюдать было куда приятнее. Нечто похожее на чувство брезгливости всколыхнулось в душе его, и, чтобы не выходить, он стал искать глазами птиц, мелькавших иногда редкими порхающими горстками около сбивающихся в стаю людей.
Ему вдруг вспомнились беседы с психологом, когда он проходил курс реабилитации после Афганистана в одном из госпиталей под Минском. Валентину ужасно хотелось отпустить себе длинные волосы, что и было, в его глазах, знаком возвращения к прежней, нормальной жизни. Психологица же, симпатичная и строгая девушка Ирина, уверяла его, что, с точки зрения прогрессивной психологии, именно желание обрить голову является симптомом расставания с ненавистным прошлым. Лишиться волос – забыть прошлое, вырвать его с корнем. Признай себя больным – и обнулись, как все пацаны. Но Ярилин вовсе не считал свое прошлое ненавистным, себя – больным, а Ирина раздраженно усматривала в этом признак ненормальности. По наблюдениям Валентина, именно те, кого одолевал зуд постричься наголо, были склонны к агрессии и немотивированной жажде мщения. Им повсюду мерещились враги, они жили с образом врага в душе. Они дорожили своим имиджем бойца. Ярилин же старался заключить мир с собой и со всем светом. Ирина грустно покачивала головой, словно видела перед собой безнадежного ракового больного.
Начитанная психологица предрекала будущему писателю (Валентин начал в госпитале романтическую повесть о любви) судьбу выразителя гиблого мироощущения потерянного поколения. Само желание писать, создавать нечто нетленное, «красивое», само стремление творить, а не убивать, она злорадно толковала как стремление избавиться от гнета чудовищного и «безобразного», то есть войны. «Многие пишут стихи, – говорила она. – Это болезнь. Это мания превращать навоз в розы. Это неврозы.»
– Ты заражен войной, ты болен ею, ты должен сражаться и победить, – настойчиво твердила она, в то время как Ярилин протягивал ей букетик цветков, омытых росой, и широко улыбался. «Спасибо, сержант», – говорила она, скрывая слезы. Однажды она принесла ему том Хемингуэя. Он думал, что в отношениях с ним она действует по инструкции, а к тому времени Валентин уже знал, что инструкции расходятся с жизнью. Он доверял жизни, доверял своему чувству жизни.
Ярилин совершенно не ощущал себя потерянным поколением. Для него эта формула была пустым звуком. «Прощай, оружие» он воспринял только с литературной стороны. Это была не его война. А вот «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» он прочувствовал всеми фибрами души. Война не изменила его взгляд на вещи, он убедился, что она не делала человека лучше или хуже. Просто тем, у кого ничего за душой не было, война придала значительности. Собственно, война стала содержанием их жизни, война прикрыла их пустоту. Пустые люди, вся заслуга которых была в том, что им повезло, могли теперь жить прошлым, презирая других за то, что те не нюхали пороха.
Ярилин уже догадывался, что разгадку мира и человека надо искать не на войне. Любопытно было бы заглянуть в историю. Война – это очень простое отношение к жизни. Единственное стойкое и честное ощущение было чувство захлестнувшей радости от того, что ему повезло: он остался жив, и для него война закончилась. Он засыпал и просыпался с этим ощущением. Ирина криво улыбалась и разъясняла, что это начало шока, который, если все будет хорошо, растянется на всю жизнь. «Нельзя побывать в аду и вернуться оттуда без метки беса. Нельзя. Не верю», – упрямо сжимала она губы.
Она легко легла с ним в постель, но ее большие глаза при этом всегда были печальны и непроницаемы. Сама она носила короткую стрижку. У нее в Афгане погиб муж-медик. Она так и не смогла справиться с прошлым и выбросилась из окна той самой палаты, где Валентин впервые нежно ее поцеловал. Это трагическое происшествие потрясло Ярилина гораздо больше, чем вся афганская война, хотя никто в госпитале особо не удивлялся. И это тоже потрясло Валентина. В кармане ее халата нашли записную книжечку, всю исписанную стихами. Одно стихотворение начиналось так:
Мальчик мой, кудрявый и веселый…
Там еще было «на постылом празднике без песен» и «голова, лишенная косы». Больше Ярилин ничего не запомнил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.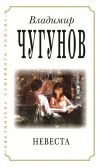










![Книга Сладостное заблуждение [Сладостное отступление] автора Джессика Харт](/books_files/covers/thumbs_100/sladostnoe-zabluzhdenie-sladostnoe-otstuplenie-38300.jpg)





























