Текст книги "Для кого восходит солнце"
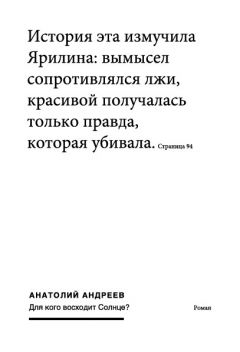
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
18
Вскоре Полину положили в больницу на сохранение. Какая тут связь с посещением Ярилиным кладбища?
Уверен: никакой. Просто так получилось.
Но почему же получилось так, что, как только Валентин отвез Полину в больницу, ему тут же позвонила Маша? Не берусь судить. Вот ее откровенный монолог, слегка подправленный лексически и стилистически: я не сторонник того, чтобы бездумно копировать жизнь. Искусство должно быть лучше, чем жизнь. Маша:
– Валентин, придумай что-нибудь, сделай что-нибудь. Я хочу тебя видеть. Наверное, только те, кто способен любить, понимают толк в сексе. Я хочу, чтоб меня трахнули, а они боятся дышать на меня. Ну, что же ты молчишь?
– Придумываю что-нибудь.
– Ну же, милый.
– Встретимся возле гостиницы «Космос».
– Когда?
– Сейчас.
– О-о, милый…
Человек слаб, и мы не станем лицемерно закрывать глаза на этот прискорбный факт в нашем честном романе; скажем больше: даже самое лучшее искусство, увы, не может исправить человека. Валентин Сократович мужественно решил, что в их доме ноги Машкиной не будет. Согласимся: это вызывает уважение. Но он некстати освежил в своей памяти воспоминания семилетней давности, когда он встречался с одной замужней женщиной в гостинице – именно потому, что гостиничная обстановка, запах дешевого мыла и постреливающие взгляды горничных возбуждали чужую супругу чрезвычайно. «Гостиница» и «порок» были для нее словами одного корня, они сливались в образ того самого райского яблока, которое она, зажмурившись, неловко надкусывала, то бишь раздвигала ноги, согнув их в коленях. В сумочке она приносила свое мыло, душистое и дорогое, но возбуждали ее крохотные дешевые обмылки и жесткие рифленые полотенца. Изменять мужу в гостинице, да еще с писателем, казалось ей верхом разврата и романтики одновременно. В этом ей чудилось что-то чеховское или бунинское. Эта женщина научила Ярилина тому, что любители романтики всегда жаждут обмана и терпеть не могут реалистов, «оскорбляющих» высокие поэтические порывы своей земной «прозой»; но если ты их цинично надуваешь – ты их первый друг и верный любовник. Тонкие души.
Машка, по мнению Ярилина, заслуживала уважения за то, что не выносила фальшивой романтики; но ее хищная суть вызывала не уважение, а брезгливую боязнь. Лучше бы она балдела от обмылков.
Короче говоря, Ярилин выбрал гостиницу как место безопасное, нейтральное и ни к чему не обязывающее. Сходить – и забыть. Ничего интимного и личного. Ничего чеховского. Это подчеркивало случайность и кратковременность их связи, неизвестно на чем державшейся.
В холле гостиницы Ярилин огляделся, но не растеряно, а по-хозяйски, и неторопливо направился в сторону пышной блондинки, в упор рассматривавшей его с того момента, как он просочился сквозь стеклянную дверь.
– Здравствуйте, мэм.
– Здравствуйте.
– Как вас зовут? – задушевно поинтересовался моложавый, весьма привлекательный мужчина.
Изрядно перезревшая блондинка, издеваясь над законами природы, тут же начала кокетничать и строить глазищи, блиставшие из морщинистых впадин мутными антрацитами.
– Маргарита Борисовна, – пропела она голосом, о котором можно было с уверенностью сказать, что некогда он был грудной. Впрочем, то же самое можно было сказать и о груди: было дело. Но подкупала, подкупала эта наглая аристократическая манера – не сдаваться. «В этом мире учиться можно у каждого, чему-нибудь и как-нибудь», – осенило писателя.
– Маргарита Борисовна, уверен, что мы с вами найдем общий язык. Что-то мне подсказывает, что мы с вами одной крови. Я не один. И не надолго. Вы меня понимаете?
– Понимать-то понимаю, – играла глазьми дива.
– Маргари-ита Бори-исовна… Поладим?
– Я вас здесь раньше не видела.
– Я был в отъезде. В Голливуде.
– Десять. Одноместный.
– Хорошо, что не тридцать.
– Удачи вам, мужчина. Бог в помощь. Приходите еще.
«Хороша баба, но свежесть не та», – в автономном режиме работало сознание Ярилина.
Пока Машка принимала душ, Валентин любовался панорамой города, открывающейся с двадцать первого этажа. Странно: с высоты было видно чрево Минска. «Рай – это второй этаж ада. Гм, надо бы запомнить.» Город казался чужим и взятым в своеобразном романтическом ракурсе. «Надо бы показать с этой точки Полине: получится отличный кадр.»
И еще до того, как он ощутил прикосновение прохладного Машкиного тела, он успел подумать, что в Полине тоже есть романтизм, но он не раздражал и не вызывал желания вывернуть его наизнанку и ткнуть ее мордой в вонючий результат. «Может, потому, что я ее люблю?» – выстраивал версии мозг писателя, в то время как он, ощутив упершиеся ему в спину, словно стволы, тугие сосцы, поймал себя на желании проделать с Машкой то же, что скандально вытворял обезумевший Мефодий – прикоснуться шершавым языком к мягкой розовой плоти. «Какая же она сладкая сука», – взрывалось у него в голове солнце, когда он грубо опрокидывал Машку на скрипучую кровать. Стоны его жадной подруги вперемежку с тягучим скрипом создавали волшебную волыночную музыку любви.
– Долго вы, – сказал встречающий их у выхода из гостиницы Граф, закуривая и не поднимая на них глаз.
– Не просто долго, но и сладко, Слаик, – стервозно уточнила Машка.
– Сука, ты просто сука, и ничего больше, – молвил Граф, терзая сигарету.
– Слаик, за суку можешь ответить. Никос ведь шуток не любит и не понимает, ты знаешь. Я уезжаю в солнечную Грецию с Никосом, попытать счастья на задворках старушки-Европы, – бросила она последнюю фразу для Валентина. И добавила мирным тоном, адресованным обоим:
– Ладно, мальчики. Подбросьте меня домой. Завтра в дорогу. Отдохнуть надо…
– Поехали, – сказал каменно-спокойный Славик. – Писателю надо еще Полину в больнице навестить. Так ведь, романист? Передавай ей привет. Скажи, Владислав ее не забывает. На днях зайдет. Да, не забудь сказать, что у меня для нее припасена сногсшибательная новость: оказывается, писатели тоже бывают дерьмом.
Машка захохотала.
– Ты мог бы сообщить ей об этом потом. Полина ждет ребенка, – губы у Валентина дрожали.
– Нет. Ей будет интересно узнать об этом сейчас. Славик плохой, детей не любит, а вы все хорошие, о детях заботитесь, да? А этого ты не хочешь? – И он замер гневным монументом, фиксируя непристойный жест и давая время Ярилину насладиться унижением.
Машка захохотала еще громче, а Славик так пришпорил свою «Альфа Ромео», что на сером асфальте остались густые черные следы ни в чем не повинных шин.
19
У Полины Лепестковой случился выкидыш.
Разговаривать с Валентином Полина отказалась. Ярилин шел по городу, забыв выбросить ненужный теперь букет хризантем и не отдавая себе отчета, куда он идет и зачем, словно Раскольников, и очнулся только тогда, когда остановился напротив памятника Пушкину, что на берегу Свислочи. Это недалеко от гостиницы «Космос». Рядом Троицкое предместье. Напротив – станция метро «Немига». Сориентировались?
Он сел на краешек свободной скамьи и окинул взглядом до боли любимый город. Что он увидел?
Сейчас это неважно. Гораздо важнее, что думал в этот пиковый момент своей жизни ошеломленный писатель. Не ручаемся за точность дословную, но ход его мыслей в тот час нам хорошо известен. Писатель думал о том, что он до сих пор боится признаться себе, что же является главным в его жизни. Без Полины ему не хотелось жить. Это так. Но не это главное. «А что же?» – тоскливо вопрошал Ярилин, боясь ответа и отвлекаясь на тревожное зрелище романтического заката. Неумолимо прожигавшее условную горизонтальную линию, обозначенную зелеными кронами деревьев, солнце цвета раскаленного металла медленно исчезало неизвестно куда. Незаметно сгущались сумерки. Ярилин растворился в созерцании выхваченного из тьмы усердными фонарями города, ставшего таинственным и каким-то романным, богатым на непредвиденные сюжеты. В таком месте может происходить все, что угодно, – все то, что происходило в Москве, Париже и Петербурге. Какой сказочный город!
– Что же главное?
– А главное то, – сказал себе Ярилин как на духу, – что в жизни ты более всего ценишь возможность превращать жизнь в литературу. В красивые картинки. Ты игрок, игрец или игрун. Ты красотой убиваешь жизнь – вот чем ты занимаешься. Для тебя есть что-то выше жизни. Не ври себе, Ярилин, не ври. Вот Спартак умел ценить жизнь и не предавал ее. Так ведь, Спартак? Или я не прав? А я, а ты, Ярилин, – предатель. Сукин сын. Ты ведь не Полину предал. Дело не в Полине. Для тебя нет ничего святого, ты на все смотришь как на материал. Не так ли?
– Так, разрази меня гром, именно так, тысяча чертей мне в мошонку!
– Хорошо это или плохо? – вот в чем вопрос. Нет, не так. «Хорошо» и «плохо» не зависит от того, писатель ты или не писатель. Ишь ты: что позволено Юпитеру Сократовичу, то не позволено Валентину Ярилину. Неплохо устроился. Двойная мораль. Стыдно.
Дело в том, что за такой подход к жизни приходится по честному расплачиваться. Оказывается, для Ярилина есть нечто более важное, чем Полина – такого я от себя не ожидал. Так, так, не спорь. Можно, конечно, возразить: такой я человек, таковы мы, писатели, ничего тут не поделаешь. Одинокие, страдающие души… Так заведено испокон веков…
– Позвольте. Тьфу вам в морду! Это ложь. Только урод может предать Полину. Именно так стоит вопрос. Наплевать на литературу. Любовь важнее.
Но какой-то гадкий голос шептал: «А знаешь, почему любовь важнее? Не будет любви – не будет литературы». «Вот скотина, – подытожил внутренние распри прозаик, покачивая головой, – вот скотина.» Что имел в виду писатель на сей раз нам, увы, в точности неизвестно. Нельзя же уж совсем заглядывать в душу. Неприлично. Так, слегка, в щелочку.
Ярилин не мог оторвать глаз от картины ночного города. Он всей душой чувствовал и впитывал испепеляющую прелесть красоты. Ради красоты – в самом широком смысле – обманешь, даже самого себя, предашь, даже себя, убьешь, даже себя. Даже другого. Красивое пахнет смертью и подталкивает к разрушению. Валентину вспомнилось, как он едва не погиб в Афгане, чуть не сорвался в пропасть, потянувшись за золотым диском эдельвейса, сиявшем на сочном зеленом стебле. Его спас Саидов Алим («с помощью Аллаха, брат!»), вовремя протянув руку. Тоже, кстати, рисковал. Сам Алим погиб через два дня, нарвавшись на засаду. Эдельвейс, маленький подсолнух, очень напоминает цветок одуванчика, только пахнет шоколадом, поэтому эти цветы, растущие, как на зло, в самых недоступных местах, русские называли «шоколадками». Это от Ирины он узнал про эдельвейс. Может быть, эти цветы называются вовсе не так, но Валентину хотелось думать, что он едва не лишился жизни из-за цветка с таким звучным и экзотическим названием. Из-за эдельвейса можно и погибнуть, а вот из-за ромашки – как-то глупо и не романтично. Хотя ромашка, если разобраться, ничем не хуже «шоколадки». «Вот я чувствую, как из кокона моего мерзкого умонастроения может появиться бабочка роскошной прозы. Может и не появиться, конечно. Можно остаться ни с чем, при своих червях. Но если что-то появится, то непременно из такого перегноя. В чем-то права была Ирина. Если стихи честные – прыгай из окна. Если роман чего-то стоит – Полина может уйти от меня. А мы стремимся к красоте, бегаем за ее призраком-убийцей. Призрак красоты витает над миром, чарует нас, лишает воли и манит к гибели. Бабочка летит на свечу. Рука тянется за эдельвейсом. Перо – к бумаге.»
– Виноват, – произнес плотный коренастый мужчина низким голосом, – свободно ли место рядом с вами?
В руках у него была свернутая в трубочку газета.
– Пожалуйста, – кивнул Ярилин, не отрываясь от огней, будораживших его воображение. «Какой сказочный город!»
И ни с того ни с сего из глубин памяти всплыл эпизод из афганского прошлого. Ярилин никогда не вспоминал Афган специально, но, наверное, никогда не забывал его. В их полку было подразделение, которое занималось обеспечением боевой техники горюче-смазочными материалами. Солдатики отчаянно крутили баранки бензовозов, каждую минуту рискуя превратиться в пылающий факел: более соблазнительную мишень для душманских гранатометов трудно было придумать. И вот один из шоферов с аристократической фамилией Мормышкин-Смык, а по кличке Ванька-Встанька (судя по всему, из-за чрезмерной сексуальной озабоченности, которую он не считал нужным скрывать), добыл себе обезьянку, неизвестно как очутившуюся в рощице рядом с расположением гарнизона. Впрочем, говорили, что обезьян там было штук семь, но остальных смеха ради перестреляли солдаты.
Бойцы быстро обучили шуструю обезьянку всему, что знали в этой жизни сами, в том числе и метанию боевых гранат по условным боевым целям. Ванька-Встанька брал шимпанзе с собой в рейсы, чтобы не было смертельно тоскливо от ожидания душманского снаряда. Может, это был и не шимпанзе, но, во-первых, других обезьяньих пород никто не мог вспомнить (кто-то робко предложил считать его «макакой», но все дружно восприняли это как оскорбление благородного животного), а во-вторых, всем было известно, что человек произошел от шимпанзе. Глядя на обезьяну, никто в этом и не сомневался. Простые парни под дружный гогот и свист дали всеобщему любимцу незатейливое имя Пидарас, которое любовно выстригли в густой шерсти на груди славянской вязью.
И вот однажды на утренней поверке раздался истошный крик часового: «Атас! Сюда Пидарас с гранатой валит!» Вооруженные мужики не оставили ни единого шанса смышленой обезьяне, которая неслась к людям, чтобы порадовать их, продемонстрировать то, чему ее так терпеливо обучали. Гвардейцы уложили ее тремя очередями, изрешетив «татуировку» на груди. Стреляли в полку изрядно.
Это случилось в день рождения рядового Валентина Ярилина. Пидараса долго потом вспоминали, и только хорошим словом, как боевого товарища.
– Великолепная панорама! – сочным баском доложил коренастый. Валентин обернулся к нему: мохнатая шерсть на сложенных на груди руках чем-то напоминала конечности Пидараса.
20
Наш роман закончится зимой, когда Свислочь будет закована льдом. Однако еще осенью произошли события, умолчать о которых было бы преступлением перед читателем. Нам это ни к чему. По нашим достоверным и важнейшим сведениям Валентин Сократович, оказывается, имел встречу с одной из тех дам, которые были свидетелями последних часов пребывания Астрогова на планете Земля. Как принято говорить в подобных случаях, Спартак умер у нее на руках. Вы, конечно, сразу подумали, что это была Антонида. Если это так, то вы ошиблись, а если вы подумали, что девица Либо вообще больше не появится в романе, то вы ошиблись еще больше.
Это была симпатичная женщина одних лет с Астроговым. Валентин тотчас узнал в ней даму, которая положила к ногам Астрогова желтые хризантемы. Главное, что бросалось в глаза при первом знакомстве, было чувство собственного достоинства, написанное у нее на лице. «Я уверен, что Полина в ее годы будет выглядеть так же», – подумал Ярилин. Она еще не раскрыла рта, а Валентин Сократович уже верил ей. Дама представилась. Ее звали…
Приходилось ли вам, читатель, обращать внимание на то, что иные имена и фамилии сразу же исчерпывают суть человека. Я знавал одного полковника, которого фамилия была Угрюмов. Более угрюмого человека я не встречал в жизни. С другой стороны, у меня в приятелях числился вполне приличный человек, хирург, фамилия которого была, однако, Навозный. Что, признаться, несколько вводило в заблуждение. В подобных случаях становится даже как-то неловко за литературность жизни. Складывается такое впечатление, что жизнь нескладно подражает литературе. Если у вас есть другое объяснение, изложите его в своем собственном романе. А я настаиваю: жизнь часто использует законы литературы. Не потому ли, что литература учится у жизни?
Так или иначе, даму звали Элеонора Поднебеснова. Ни больше, ни меньше. Как говорится, никаких комментариев. Комментарии будут другого рода. Читателю следует знать, что она была первой женой Астрогова. Спартак, победоносный Спартак увел ее от мужа, и они жили в счастливом чаду целых два года. Потом счастья должно было прибавиться: они ожидали ребенка. И ребенок родился – симпатичная и здоровая детка Светланка. Но потом случились события… Впрочем, и до рождения Светки произошли события. Первый муж Элеоноры, Борис Неврединов, изнасиловал ее, но она, боясь потерять Спартака, ничего никому не сказала. А когда родилась дочь, Неврединов стал предъявлять на ребенка все права. Суды, адвокаты, ушаты грязи, дикие интимные подробности – все это надломило Спартака. И он раз и навсегда отказался от Элеоноры и ее ребенка.
– А Светлана родилась от Астрогова, – сдержанно повествовала Элеонора Адамовна. – Я уже была беременна, когда Борис… подло использовал меня в день своего рождения. А все получилось так, будто я сама к нему пришла, отдалась по доброй воле. Явилась по доброте душевной, дура. Только он умел быть таким безнадежно и гнусно правым, что в ответ на его правоту, к которой не придерешься, хотелось врезать ему по морде. Астрогов же был не прав. Но я любила его всю свою жизнь. А дочь его ненавидит…
«Для того, чтобы понять женщин, надо много с ними общаться, и если тебе повезет, ты поймешь, что все они твари продажные, только каждая на свой манер.» Теперь понятно, почему Астрогов был так категоричен. Потому что он был не прав. «Полноценному мужчине, – любил развивать эту тему Спартак, – общаться следует не с одной женщиной, а с миром женщин. И отношения с этим миром надо выстраивать самые разные: долгосрочные (в идеале – супружество), среднесрочные, краткосрочные и, само собой, мимолетные. Чем больше мимолетных – тем больше тянет к долгосрочным. И наоборот. И если тебе повезет, то тебе станет ясно, что пороки женщин практически ничем не отличаются от их достоинств. У нас достоинства переходят в пороки, а у них – не отличаются. Ты понял? Вот и вся разница между мужчиной и женщиной. Понял? А если понял, то никому этого не говори… Во-первых, не поверят, а во-вторых, скажут, что ты не знаешь жизни и не понимаешь женщин. Только комплименты, только по шерсти. Восхищение, cher ami, восторг, словно видишь перед собой молнию анаконды.»
«Как же ты мог упустить такую женщину, Астрогов? – недоумевал Валентин. – Что-то здесь не так…»
– А теперь я расскажу вам, как он умер. Светлана ушла сразу, она не скрывала своей враждебности. Посмотрела на папашу – и удалилась. Да, я же не сказала вам, как мы оказались у него в квартире… Он нас сам пригласил. Позвонил – и пригласил. Из Москвы в Минск – ночь пути на поезде. Рукой подать. А казалось, что Астрогов живет на краю света… Позвольте, я закурю?
Они долго молчали. Ярилину отчего-то было легко с ней молчать. «Вот дослушаю про смерть Астрогова, и расскажу ей про нас с Полиной. Интересно, что она скажет… Если скажет, что не все потеряно…»
– Ах, какой был Астрогов в свой последний вечер! Этот человек не постарел, нет. Он просто искрился, за ним хотелось записывать каждую строчку. Я смеялась и плакала – оттого, что мы всю жизнь могли быть вместе. А он, дурак… Извините.
Поднебеснова опять погрузилась в грустные воспоминания.
– Знаете, что он сказал о старости? «Старость неромантична, словно сексуальные судороги старого козла.» Вот дурак, правда?
– Спартак Евдокимович был умным человеком…
– Да я не о том. Конечно, умным. Был. Между прочим, он очень ценил вас и, я бы сказала, любил. Так же, как Эмку.
– Или Тима. Спасибо, я очень тронут.
– Это Спартак попросил меня, чтобы я встретилась с вами. И я с удовольствием выполняю его просьбу. Уже одно то, что Спартак дружил с вами, говорит о том, что я в нем не ошибалась.
– Вам удаются комплименты не хуже, чем Спартаку. Не удивлюсь, если этому искусству он обучился у вас.
– А комплименты и надо говорить при жизни, и любить надо. Только философы этого не понимают…
– Понимают. Ему не хватало любви.
Элеонора Адамовна заплакала, и Ярилин, к его чести, даже не пытался утешать ее.
– Мы долго говорили со Спартаком, много вспоминали. Поверьте, нам было что вспомнить… «Я только в сорок лет начал замечать стариков, – говорил Спартак, – я стал видеть облик своего скукоженного будущего, заботливо уготованного мне всемогущим Господином прохладной вселенной. Тогда-то и началась моя мудрая молодость. И знаешь, кого мне не хватало? Тебя, Элеонора». Так говорил Астрогов… А потом пришла какая-то девица, похожая на хорька.
– Может, на белочку?
– Нет, на хорька. Принесла какую-то рукопись. Спартак выставил ее, сказал что-то резкое. А потом внезапно напился. И тут, Валентин Сократович, с ним стало твориться что-то невероятное. Он перестал узнавать меня, кричал, что я вошла сквозь стену, что последний год я обнаглела, являюсь чуть не каждый день. Потом схватил молоток и стал меня выгонять. Я ушла… А на следующий день…
– Понятно, – сказал Валентин и подумал: «Нет, я не буду спрашивать у нее, как мне поступить с Полиной. Я знаю, как мне поступить.» – Я вам сейчас все объясню, Элеонора Адамовна. Дело в том, что…
– Неясно только одно, – закончил свое объяснение Ярилин, – ключ в двери с внешней стороны… Это ведь не вы его оставили?
– Конечно, не я. – Элеонора вытирала слезы.
– Ну да, само собой. Откуда у вас ключи. Значит, это была белочка, похожая на хорька. Это она увела Тимку.
Уже попрощавшись, Поднебеснова сказала:
– У меня к вам одна просьба, Валентин Сократович, первая и последняя. Я бы хотела, чтобы на могиле Астрогова стоял крест.
– Но он не был религиозным человеком, Элеонора Адамовна.
– Это не имеет значения. Я хочу встретиться с ним на том свете. Ярилин не нашелся, что на это ответить и только в недоумении развел руками.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.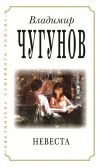










![Книга Сладостное заблуждение [Сладостное отступление] автора Джессика Харт](/books_files/covers/thumbs_100/sladostnoe-zabluzhdenie-sladostnoe-otstuplenie-38300.jpg)





























