Текст книги "Для кого восходит солнце"
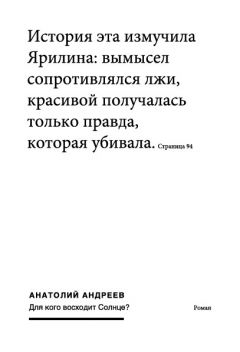
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Между историей и психологией он выбрал все-таки историю, хотя его интересовала литература. А что такое литература? Это история «психэ», души человеческой. Его тогда маниакально занимали вопросы: почему войну поэтизируют души мелкие и боящиеся жизни? Почему эти бойцы, не страшащиеся смерти, малодушно прячутся от жизни? Почему так легко сила превращается в слабость?
И почему-то самый главный вопрос звучал небесным колоколом: для кого восходит солнце?
Около подъезда, к которому направлялся Ярилин, стояла сияющая «Альфа Ромео энд Джулия», а возле машины рисовалась Мария. Валентин, внутренне дивясь тесноте мира, подошел и сдержанно поздоровался: «Добрый вечер». Хозяин «Ромео», он же Полбанана, бдительно и отрывисто выказал недружелюбность: «С кем имею честь?»
– С Ярилиным, – сказала тоже удивленная Машенька. – Валентином Сократовичем. Рекомендую, Граф: писатель с большими, гм-гм, достоинствами.
– Так это вы пришли забирать мою жену? – без иронии и без вызова, с хорошим человеческим любопытством произнес Граф, снимая свои дурацкие черные очки. Ярилин многое простил ему за эту естественную интонацию. Человек он был, судя по всему, пустой, а интонация говорила об уважении к Полине. – Вас-то я и жду. Хотел посмотреть на вас. Я – Владислав.
– Смотрите.
Они крепко пожали друг другу руки и заглянули в глаза.
– Любишь ее? – спросил Владислав.
– Да, – ответил Ярилин.
– А как поживает Татьяна? – как ни в чем ни бывало невинно полюбопытствовала Маша.
– Благодарю. Я передам, что ты о ней справлялась. А как чувствует себя наш святой отец?
– Отвратительно. Он ужасно любит одну красивую, но легкомысленную женщину, а она ушла от него.
– Отчего же она ушла?
– Встретила более молодого и перспективного. Естественный отбор. Сла-ик, зажигалочку предложи даме.
– Канэшна, хачу, – с бездарным грузинским акцентом хохмил Владислав, чутко прислушиваясь к диалогу, – куры на здоровье, май, понымаеш, лав.
– Дурачок, Слаик, чуть брови не опалил.
Ярилин чувствовал, как между ним и Машенькой протянулась и трепетала видимая только им ниточка. Рвать ее при Графе было невозможно, а не замечать – глупо. Маша не сводила с него глаз.
– Так это вы, Валентин Сократович, тот загадочный Дон Гуан, который влюбился в жену Слаика? Наши поздравления, командор. Мы забираем свои подержанные вещи, а вы – чужую жену и квартиру. Где справедливость?
– Какая справедливость, когда идет естественный отбор?
Лиса сузила глаза до размеров щелей-бойниц:
– Ой, если вы сейчас заговорите о высокой морали, то мы специально задержимся. На семь минут.
– Очень просто, – барабанил по панели Славик, уже забравшийся в автомобиль. – Однако, гуд, как говорится, бай.
– Очень… как это? Смешно. Вот. Желаю счастья.
– До встречи, – перебирала пальчиками в воздухе Машенька, пуская дым из сложенных в кокетливую трубочку губ.
– Ты встретил его? Ну, как? – спросила Полина с порога.
– Ему бы надо коротко постричься. Была бы своего рода эстетическая завершенность. Говорю это как писатель. Сейчас он – сплошные противоречия. Впрочем, тоже законченный образ, если разобраться.
– Он неплохой человек, только очень слабый, – сказала Полина, пытаясь прочесть на лице возбужденного Ярилина больше, чем тот говорил.
Ярилин распахнул желтый халат и стал любоваться ее грудью, литые овалы которой трепетали перед его лицом.
– Здравствуй, прелесть моя, – сказал он, целуя соски.
– Ты беззастенчиво пользуешься моей слабостью…
– А ты полагаешь, к слабости следует относиться как-нибудь иначе?
– Даже наглость твоя элегантна…
– Тогда это уже больше, чем наглость: это честная реакция на твою слабость. Ведь своей слабостью ты просишь меня проявить наглость. Смею думать, я не разочарую тебя, – бормотал Ярилин, сбрасывая с нее халат.
– Что же это, если не наглость?
– Любовь, полагаю.
– Никогда не думала, что любовь – это беспредельная наглость.
Последние слова были выдохнуты нежным шепотом, и слабость была должным образом вознаграждена силой: поцелуем, долгим, как счастливое мгновение.
12
От Астрогова не было известий уже три дня. Валентин блаженствовал со своей Полиной в Малиновке и эгоистически избегал любого общения, чреватого хоть какими-то проблемами. Счастье – продукт тонкий, мимолетный и замешанный на эгоизме. В сущности, грубый продукт.
Евдокимыч же вступил в ту полосу жизни, которую, по трезвом размышлении, следовало бы прямо назвать финишной прямой, упирающейся в никуда. Но думать на эту тему счастливому Валентину не хотелось. Однако Спартак давненько не звонил. С одной стороны, это могло свидетельствовать о его деликатности: он очень тонко чувствовал ритмы каждой фазы жизни, объявляясь и исчезая весьма кстати, словно кудесник, любимец богов. Между прочим, достоинство, которое определить трудно, которого как бы нет. Это вам не мужество, смелость или трусость. Или великодушие. Все это называется тонкое понимание жизни и человека.
С другой стороны, возможно, ему самому необходима была помощь, о которой он, конечно, никогда бы не попросил. Он слишком уважал собственную свободу, чтобы беспокоить по личному поводу других.
Так или иначе, телефон Астрогова молчал. Никто не поднимал трубку. Такое тоже случалось. Не часто, но бывало. Иногда Спартак застревал у каких-нибудь подруг на сутки, другие, третьи. Правда, последний раз подобное случалось давненько.
Интуиция Валентина Сократовича, прошедшего школу Афгана, не то, чтобы молчала, но не желала громко шептать, словно щадя хозяина. Порой ему казалось, что она у него вообще отсутствовала, хотя замолкала она именно тогда, когда в ней возникала надобность. Вот голос здравого смысла он слышал отчетливо, и он заставлял его беспокоиться. Интуиция же могильно молчала. Чтобы из рук все валилось, сон какой-нибудь вещий приснился, мрак душевный наползал ни с того ни с сего – этим Ярилин похвастаться не мог. В общем, на интуицию положиться было невозможно.
Следовательно, необходимо было ехать к Спартаку. Как выяснилось, Валентин и день для этого наметил, и даже час. Он, повторим, ничего особенного не чувствовал, но давно уже знал, что в понедельник около одиннадцати он будет у Спартака.
Апрельский день выдался солнечным и по-настоящему теплым. Воздух был прогрет до духоты, распустившаяся нежная зелень отдавала чем-то новорожденным. Весь мир сиял. К весне уже все привыкли, но к тому, что весна скоро обернется летом, надо было привыкать. На разбушевавшееся солнце смотреть было невозможно. «На солнце, как и на смерть, нельзя смотреть в упор», – вспомнилось отчего-то Ярилину. Он решил отвлечься от сути афоризма и стал вспоминать, кто его сочинил. Но лучше всего, он знал по опыту, отвлекают звуки. Протяжным иглистым писком постанывала какая-то пичуга, легким клекотом захлебывалась синица в небе (может, и не синица, но уж точно не воробей; других же птиц не очень крупного калибра Валентин не знал). «А стонет, наверное, малиновка», – решил Ярилин. Приятно было думать, что это малиновка. Потом отрывистыми тактами взревел трактор. Добавьте к этому детский гомон на площадках детских садов – и вы получите жизнеутверждающую симфонию большого города. «Симфония – тяжелый жанр. Чересчур серьезный», – подумалось Ярилину.
Солнце ослепительным магниево-белым шаром застыло высоко над городом (чтобы увидеть его, надо было задрать голову). Нет, смотреть на него было невозможно. Все хорошо, но что-то было не так.
Валентин Сократович запретил себе произносить слово смерть, но готовился к самому худшему, как будто могло произойти что-то хуже смерти. «Чудно», – улыбнулся он про себя.
Ключ торчал снаружи, вставленный в замочную скважину. Валентин нажал на кнопку звонка. Никто не открывал. И главное – не было слышно Тима. Дверь была закрыта на полных два оборота. Валентин вошел в квартиру и сразу подался на кухню. Дверь туалета была открыта, горел свет. Обнаженное тело Спартака было зажато между стенкой и унитазом. Он неловко завалился и застрял. Руки скрючились и закоченели, закрывая лицо. В правой руке намертво зажат молоток. Повреждений и ушибов не было видно. Валентин осмотрел кухню: там царил тот беспорядок, который заводится на второй-третий день пьянки.
В большой комнате был выставлен гостевой стол-книга, накрытый на три персоны. К сервировке стола явно была приложена женская рука.
Все было просто, как в Афгане. В принципе ясно, что произошло, хотя много неясности в деталях. Попробуй, разберись с этими философами, попробуй, отличи естественный уход из жизни в мир иной от самоубийства или даже убийства. Кто виноват?
Валентин знал, что в этой смерти винить некого. И все же…
Он стащил покрывало с кровати (попрочнее, простыня может не выдержать), разложил его на полу, вытащил тело Спартака, положил его на покрывало. Руку от лица отводить не стал, но молоток вынул. Прикрыл наготу.
Потом его рвало, выворачивая до ряби в глазах. Потом он тщательно вымыл руки с мылом. Телефон милиции он, конечно же, спутал с телефоном скорой помощи. Старший лейтенант Дондурей сказал, что прибудет часа через полтора.
После этого Валентин Сократович внимательно прошелся по квартире. На рабочем столе в спальне обнаружил рукопись «Онтологии разума». Кроме того, на столе лежало множество бумаг, приведенных в относительный порядок. На большом конверте из плотной бумаги было наискось начертано карандашом: Ярилину В.С. И дата, проставленная семь дней тому назад. «Мы виделись с ним, а конверт уже ждал меня», – механически соображал Ярилин. Он нашел пластиковый пакет, сгреб в него все бумаги. Проверил все ящики стола, достал кучу фотографий, бегло перебрал их и отобрал несколько себе на память.
Снимки были исключительно любительские, их было очень много, и все они были перемешаны. Заинтересовать этот архив мог только родственников или случайных людей, которые были объединены групповыми снимками. Но вот фотографии, которая хоть как-нибудь могла сгодиться на случай, гм-гм, чрезвычайный (Валентин Сократович все еще даже в мыслях избегал слово смерть: «Чудно!»), не было вовсе. В конце концов Ярилин отобрал одну фотографию, где Спартак стоял со своей матерью возле новогодней елки. У Спартака было пронзительно грустное лицо. Одной рукой он обнимал мать, другой держал праздничный бокал шампанского. Ярилин решил, что с помощью компьютера Астрогову запросто подгонят приличный костюм с галстуком (в оригинале на нем была продольно-полосатая рубашка), а вот моложавое лицо, исполненное мягкой скорби, как нельзя лучше соответствовало моменту. Мог ли Спартак Евдокимович подумать тогда, под елкой, что Валентин удружит ему и сделает тот момент его жизни моментом прощания?
Потом Ярилин стал рассматривать отобранные фотографии, на которых были запечатлены миги бытия. Вот темный от загара Спартак держит на весу огромную, добытую острогой щуку и щерится, как абориген. Вот Астрогов сидит на диване с мамой и бережно держит ее за плечи (каждый свой отпуск он неизменно проводил у матери, которая жила под Великим Новгородом, недалеко от Ильмень-озера). Вот Спартак расплылся в улыбке так, что и глаз не видно, обнимая необъятный живот беременной Жанны. Вот он, чумазый, со студентами на уборке картошки: наравне со всеми таскает доверху наполненные ведра. Вот он беседует с известным академиком, молодая жена которого вскоре станет любовницей Астрогова. Может быть, даже в тот самый день, когда сделан был любительский снимок. Может быть, его и делала все та же любвеобильная жена.
К черновикам Ярилин решил пока не прикасаться: он подумал, что будет лучше перебрать их позже с позволения тех, кто будет хозяйничать в квартире. Да сейчас и настроение было не то.
Как-то особенно многозначительно зазвонил телефон. Незнакомый женский голос спрашивал Астрогова, Спартака Евдокимовича.
– Он умер, – вежливо ответил Ярилин. – А кто его спрашивает?
Незнакомка быстро бросила трубку. «Да, умер, – спокойно произнес Ярилин. – Что тут такого?»
Он сообразил, что следует оповестить коллег. Смерть имеет и социальный облик, ничего не поделаешь. Он позвонил на кафедру, представился и сообщил о безвременной кончине, о скоропостижном уходе из жизни их многоуважаемого коллеги. Реакция какой-то доцентши была искренне-сентиментальной и суетливой. Охи и ахи. На вопрос, как это случилось, как, как, Ярилин подробно доложил, что Спартак Евдокимович принял смерть за рабочим столом, доводя до совершенства свою последнюю – так распорядилась судьба – статью о Хайдеггере. Астрогов не щадил себя и, можно сказать, сгорел на работе. Отечественная наука понесла ощутимую и невосполнимую утрату. Аминь.
После этого он набрал телефон Миломедова. Дома никого не оказалось, как и предполагал Ярилин.
Вдруг ему сделалось так жутко, что он с трудом заставил себя не рвануться к входной двери. Показалось, что на кухне кто-то бродит. Сверхъестественным усилием воли он заставил себя подойти к покойнику и вновь убедиться, что чудес не бывает. Спартак лежал, то ли защищаясь, то ли загораживаясь от мира, в форточку (Валентин не выносил трупный запах и сразу же распахнул форточку) доносился детский гомон, наверху пьяный сосед воспитывал жену.
«Вот ситуация, располагающая к философии», – решил Ярилин и достал из пакета работу о Хайдеггере. Прочитал название и вслух сказал: «Ну, ты, Евдокимыч, даешь». Вот текст этого «жалящего эссе», которое Ярилин читал, мало что понимая, до тех пор, пока не приехал Дондурей с санитарами.
Хайдеггер, или мышление через ж…
Философская увертюра
Ну, что ж, уважаемый читатель, давайте постараемся прибрать паранджу с чела мыслителя, который мыслил не «о» чем-то (какая банальность – обозначать предмет познания), а «мыслил что-то», который предпочитал петлистые «лесные тропы» мысли, ведущие в никуда (которое, возможно, и есть самое главное «куда»?). Тропа есть – а пути нет, мысль есть – а познания нет, чистая мысль есть – а философии нет (есть «конец философии»). Откройте личико, Herr (гм, гм: что немцу хорошо, у русского иногда вызывает улыбку) Хайдеггер. Если ты «помысливаешь» и при этом не знаешь, о чем ты, собственно, мыслишь, то это наводит на размышления. Мысль как таковая, как некая самостийная субстанция, сама-для-себя-рожденная-и-сама-себя-порождающая-и-пожирающая, стала «феноменом». Вот помыслите сами: то была просто мысль и надо было думать, а то стал феномен, к которому неизвестно с какого боку подступиться, и с какого ни подступайся – все будешь в дураках. Не феномен для человека, а человек для феномена, и человек есть ничто, да святится имя твое.
Другими словами, Хайдеггер удивился самой возможности мыслить, как гоголевский Петрушка поражался странной способности знаков складываться в некое подобие смыслов. Это делает честь ему (Хайдеггеру), конечно, однако на этом его философия началась и кончилась. Он так всю жизнь и удивлялся, что вот-де, начинаешь мыслить – а оно и мыслится, а зачем, к чему, с какой целью – просто не знаешь, и даже за тысячу марок не сказал бы, какой в этом смысл. Так как-то все.
Настоящая заслуга Хайдеггера перед культурой состоит в том, что он скромно указал на глупость философии, чем избавил от необходимости думать полчища тех, кто хотел бы быть философом, и при этом презирать «понимание»; быть этакими чингачгуками-пионэрами, шастающими «лесными тропами». А «тропы-с» ото всех сокрыты, и-никому-не-покажу-где. Проторил, аки тать в нощи, и забыл. Заросло. Может, мнилось, может, грезилось, приснилось, но что-то было. Как бы. Гулял сам по себе.
Истинная актуальность Хайдеггера в том, что он (не первый и не последний) мысль, инструмент познания, представил как психический акт. Его «другое мышление» – это банальный полухудожественный не регламентированный, то бишь свободный, бред, обслуживающий потребности души. Теологический архетип подобного мышления – более чем очевиден. Вот. И проблема, по большому счету, не в Хайдеггере и его пресловутых загадках, а в том, почему именно сегодня акцент на психической составляющей сознания имеет такой бурно-истерический (как бы гносеологический) резонанс. Хайдеггер не феномен, а симптом некоего феномена. Какого?
Страха, жуткого страха перед тем, что нормальная здравая мысль, во-первых, не уберегает человека от смерти, а во-вторых, мало облегчает жизнь, только все усложняя и запутывая. Чем больше мысли – тем больше проблем: нет ли здесь некоей загадки-вот? То ли дело тропы: чем больше плутаешь – тем больше понимания. Гуляй, душа.
Хайдеггер если и феномен, то разве что для немцев и прочих шведов с их нездоровым пристрастием к рациональности. Этакий швабский альбинос. Для русского Хайдеггер (после Достоевского и всей последующей мистической дури в области мышления) – семечки. Наш человек: умом не понять.
Европеец Хайдеггер одним местом почуял (так сказать, догадался), что надо в очередной раз скомпрометировать мышление как таковое – но сделать это традиционным, иррациональным способом. Смотрите: вы объявляете другое мышление. Вроде бы пустячок. Одну секундочку: вы как бы не против мышления, вы за другое мышление. Устраняя мышление, вы выступаете не против мышления (Боже упаси!), а именно за него, драгоценное, за новое, другое, супермышление. Старое мышление могло только объяснить вам, отчего мы вынуждены питать иллюзии, в чем суть вожделенных фантомов и проч. Но оно не порождало иллюзий! Оно наивно полагало, что это не его дело. Строгое концептуальное мышление не обещало вам изменить мир по вашему хотению, оно только честно познавало его по мере научных сил и возможностей.
Но от такого познания никому не легче, а человек – это именно тот, для кого прогресс означает: «чтобы было хорошо и легко, приятно и прилично». Новое мышление оставляет лазейку в неизведанное (прямо сказать – к Богу), оставляет «просвет» как надежду на радикальные перемены к лучшему, как веру в чудо. Скажите после этого, что возможности мышления не возросли!
Новое мышление по старому рецепту: сотрите границу между познанием и приспособлением, верой и методологией – и вы получите Новый Иерусалим и все, что хотите в придачу. Продуктивное мышление.
Хайдеггер сыграл (боюсь, что бессознательно) на потребности людей иррационально (бессознательно же) тянуться к чуду, ибо старое (в-смысле-устаревшее) мышление чудо и тайну давно объявило формами невежества. И тут явился Herr из Фрайбурга. Религиозно озабоченное мыслящее человечество узнало долгожданного мессию, призванного избавить от бремени знания сверхнаучным способом.
Проще говоря, никакого другого мышления нет и никогда не было; «другое мышление» (то есть откат от научного мировоззрения) – это знак (знамение?) и символ наступления антиразумной реакции, подлинно антигуманного процесса под знаком нового гуманизма. Хайдеггер – философ ноль, zero. Он есть, повторим, знак, вектор, тенденция. Разгадывание его «картин мира» – это идеологическая промывка мозгов в религиозно-мистическом направлении, это светская поповщина. Новое культурное, просвещенное невежество. Спрос родил предложение, только и всего.
Маятник в философии отчетливо качнулся в сторону образно-модельного постижения, иррационально-интуитивных прозрений (почему – это отдельный вопрос). Разумеется, иррациональная составляющая в мысли есть, существует, реально присутствует, и в этом смысле Хайдеггер тонко почувствовал коварную природу человеческой мысли. Мысли как таковой – просто нет в реальности, мысль может существовать только как человеческая мысль: акт познания, обремененный бессознательными коррективами приспособления. Мысль становится живой, шевелится и лазает по тропам. На этом основании Хайдеггер сотворил культ мысли, парадоксально доведя его до мистики мысли. Вот ход его мысли. Мысленно отраженный человек – утрачивает целостность, а вот единомоментно объятый не мыслью уже, а чувствующей мыслью, внутренним взором – приближается к самому себе.
Следовательно, адекватный способ постижения – не мысль, которая ложь, а мысль, синтетически заряженная ощущениями, мысль с чувственной прокладкой. Двуприродная, амбивалентная, текучая стихия. Убери чувство – лишишься мысли.
Все так. Но разве отменяет это рациональный способ познания, если само понятие целостности есть результат деятельности мысли?
Наличие некой «голой», условной рациональности, противостоящей целостности, было заменено психической мыслью, больше-чем-мыслью, – мыслью, переживающей целостность и стремящейся к просвету. Все это понятно и более, чем естественно. Все это версия вечного сюжета культуры: любви-ненависти (притяжения-отталкивания) натуры и культуры, психики и сознания, иррационального и рационального, образно-художественного и научно-теоретического освоения мира, – «литературы» и «философии», в конечном счете.
Есть древний, время от времени легкомысленно забываемый (благо на каждое время найдется свой Хайдеггер) рецепт: смешать два языка культуры, языки психики и сознания, и выдать при этом желаемое за действительное. Что это за зелье? Идеология называется. Преподнесите чашу сию публике. Это верный и быстродействующий способ снискать лавры, которые в таких случаях сочтет за честь поднести вам благодарное и взволнованное человечество. Здесь и сейчас. Тут. Вот. Хайдеггер вовремя подсуетился. Ситуация сама по себе философская, но Хайдеггер здесь ни при чем.
Он вообще имеет косвенное отношение к философии, а потому в перспективе развития мышления место знаменитого господина из Фрайбурга видится весьма скромным. «Открытый» им тип нового мышления – это иррационально-психологическое приспособление к трудности познания и самопознания, к мысли. Мыслию мысль поправ. Легче живописать словом, нежели пользоваться им как инструментом познания. Эту новость активно переживали еще в Древней Греции. Впрочем, не так уж и давно, если вдуматься.
Строго говоря, Хайдеггер продемонстрировал нам тип женского, теологического, или, что едино суть, мифопоэтического мышления. Отсюда – «темный», загадочный язык, странная грамматика (по ушам узнаю осла, по шокирующим чудачествам – мессию) и неизбежные образы и метафоры, дающие возможность бесконечного толкования. Вся эта роскошная паранджа, сотканная из метафор вперемежку с пророческим мычанием, скрывает растерянную физиономию честного швабского бюргера, который отважился сказать, что он ничего не понимает, но чувствует, что его священное непонимание выходит за рамки простого непонимания, что родилось непонимание в результате интенсивного мышления. Он понял, что ничего не понимает. И вот не мыслю – но «помышляю», не существую – но бытийствую.
Его неправильно поняли. Ему не поверили. Гром аплодисментов был несколько неожиданным, но это легко объяснимо: те, кто отбивают ладошки, бессознательно отождествляют себя с Хайдеггером, а раз так, то ему уготована судьба большого мыслителя. Его величина – комплимент себе. Хочешь не хочешь – ты у нас будешь умным, философ Хайдеггер. Они, «те, кто», чувствовали то же самое, но стеснялись или не умели этого сказать. А вот он взял и стал переводчиком в философскую ипостась общественных настроений, рупором недумающего сознания, бесконечно пережевывающего мысли, так сказать, питающегося мыслями и на этом основании решившего, что оно думает. На самом деле мы имеем мысль как форму безмысленного существования, полубессознательную психическую эйфорию, акт саморастворения во времени и бытии. Для такого перетекания мысли из пустого в порожнее и вечности не хватит.
Мы имеем классику попсовой философии, которая тут же начинает рядиться в модные прикиды элитарности. Все это лишний раз доказывает, что лучше учиться диалектически мыслить, нежели по-новому уходить от старой беды: нежелания думать.
Санитары деловито забрали бренное тело Евдокимыча и повезли его в морг. Инспектор Дондурей выписал справку о смерти Астрогова С.Е. Ярилин поехал к Полине.
Мрачно замкнувшись, Валентин почти ничего не рассказал Полине; он ограничился кратким сообщением, похожим на дежурный некролог. Он вышел на балкон, взглянул на солнце и вдруг почувствовал, что оно не желает разговаривать с ним на простом и понятном человеческом языке. Оно высокомерно заговорило, и не с ним, на астрономическом языке вечности. Ярилин ощутил себя заброшенным и забытым силами небесными в одном из отсеков вселенной, его бытие показалось ему мизерным и ничтожным. Солнце надменно дистанцировалось от жалкого homo sapiens`a, и даже не наслаждалось его ничтожеством. Оно брезгливо и вместе недосягаемо сияло из другой реальности.
– Сволочь, однако, – небодро вымолвил Ярилин и замер, ожидая грома небесного.
Прогретый воздух, состоящий из ионов азота и кислорода, прикоснулся к его небритой щеке, то есть произвел нечто вроде предусмотренной каким-то законом трения, выполняя свою паршивую космическую функцию, и Ярилин, словно поганый язычник, послал ветр-ветрило на три человеческие буквы.
Полина вышла на балкон вслед за взволнованным любимым и нежно обвила его голову руками, даря драгоценное тепло. И этот альтернативный источник тепла показался Ярилину родником жизни, гораздо более важным, чем жалкие протуберанцы дряхлой звезды.
– Я тебе не Икарус, – бессмысленно ерепенился писатель, задирая голову и отзываясь на ласку возлюбленной сердечными толчками.
– Ты дурачок, – тихо смеялась Полина, обнимая жаркое тело Валентина.
И мужчина бессильно заплакал от душившей его нежности и горечи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.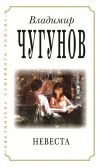










![Книга Сладостное заблуждение [Сладостное отступление] автора Джессика Харт](/books_files/covers/thumbs_100/sladostnoe-zabluzhdenie-sladostnoe-otstuplenie-38300.jpg)





























