Текст книги "Для кого восходит солнце"
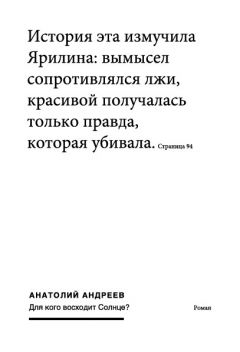
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
16
До поездки на «Остров любви» Ярилин планировал два мероприятия: навестить Мефодия и съездить на девятый день к Спартаку с Эмкой. От острова у него сохранилось чувство покоя и тишины, которая подчеркивалась сухим скрипом сосновых шишек о ладони. Он вспомнил свои одинокие прогулки в разную погоду. Ранняя весна. Серая гладь озера идеально гармонировала с низким пепельным небом, плотно набитым пухлыми тучками. Шел дождь и восхитительно шуршал каплями по воде. И – никого вокруг. Поздняя весна. Взбитые клубы облаков сияли ослепительной белизной на нежнейшей бледно-голубой лазури. День торжественно умирал, заставляя толпы влюбленных любоваться своей кончиной. Многих тянуло на остров.
Бородка Мефодия, поражавшая своей мушкетерской ухоженностью, на сей раз была подзапущена, сам он выглядел как-то помято.
– Что-то невесел ты, отче. Грустен.
– Я не грустен. Я трезв.
– Понимаю. Ценю юмор, знак душевного здоровья. Я встретил Машу на проспекте. Случайно.
– И что она сказала?
– Что-то неопределенное. Из чего, впрочем, ясно следовало, что вы больше не живете вместе.
– Мне она сказала, что у ее нового хахаля и рубль длиннее, и член. Сука, прости Господи.
– Пьешь?
– Уже нет.
– Тогда выпьем?
– Пожалуй.
Они запросто, без церемоний, расположились на кухне. Перед ними стояла бутылка водки «Новый век», за которой слетал Ярилин в тот же отдел того же магазина. Краем глаза он заметил, что ящики за магазином громоздились в ином порядке. Все течет, все меняется, верно подметили древние греки.
Никаких испанских персиков и никакого винограда на сей раз не было. Норвежская сельдь слабого посола и полкаравая пышного черного хлеба – вот и вся трапеза. Скудная закусь словно подчеркивала смену образа жизни, а возможно, и жизненной ориентации. Греховное изобилие отошло в прошлое, как искус и наваждение.
– Праздник, который всегда с тобой, незаметно превращается в поминки. Это мысль Спартака. Он умер неделю назад. Давай помянем.
– Как! Не может быть! – оживился Мефодий. – Вот беда. Мне очень надо было с ним встретиться и потолковать. Ай-ай-ай. Беда, беда. Упокой, Господи, его грешную душу.
– Зачем тебе нужен был Астрогов, отец Кирилл? Он ведь был, гм-гм, не по твоей части.
– У него недавно вышла одна работенка в философском журнале. Называется просто: «Христианство как культурная ценность». Но смысл в название вложен подлый. В ней он ссылается на мою книгу «Путь разума в поисках истины». Он меня зацепил, очень меня взволновал. Господь не допустил нашей встречи. Наверное, большой был грешник Астрогов, упокой, Господи душу раба твоего.
– Как тебе сказать, Мефодий. Едва ли больше твоего грешил, и уж точно меньше моего.
– Не суди, Валентин, не суди. Не призван. Господи, какие вы все слепые, аки котята. Ну, не дал Бог религиозного опыта, умом обнес, обделил. Вот ты, Валентин, что ты за роман написал, Господи, спаси и помилуй! Прости недостойного раба твоего! Стыд и срам! Эх, Валька, словно на разных континентах живем. Опыта религиозного откровения нет, опыта веры нет – вот где беда. Накажет Господь грешников, не попустит, изведет блуд и ересь!
– Погоди, Мефодий, не кипятись.
– Нет, Валентин, давай уж начистоту: дьяволу служите вы все, скудоумцы: ты и Астрогов, упокой, Господи, душу раба твоего недостойного, и Машка-блудница… Господи, спаси и помилуй! Тело и разум – инструменты дьявола. Душой, одной душой спасемся. За душу и душой молиться надо. Слепцы! Э-эх, пропадете! Недостойно ведете себя!
– Ладно, Мефодий. Помянули – и будет. Ты мне лучше дай статью Спартака прочитать. Когда он только успевал строчить…
– На, читай. А я помолюсь. Что-то меня разобрало. Не введи в искушение, избави нас от лукавого…
Мефодий вышел в соседнюю комнату, встал на колени перед образами, где теплились лампады, и стал негромко, но истово молиться.
Под его бубнящий речитатив Ярилин вдумчиво читал.
Христианство как культурная ценность
Существует два языка культуры: язык психологического приспособления, язык образов, порождаемый и воспринимаемый чувствами (мысль или сгустки мыслей, организованные в определенном семантическом ключе, смутно, на вторых ролях присутствуют в образах, сообщая им символическое качество; образы словно обременены идейной глубиной и значимостью); язык познания, язык научного анализа, который в науке гуманитарной призван именно расщеплять бессознательный язык образов, разъяснять, почему желаемое в акте приспособления выдается за действительное, прояснять механизм такого претворения, собственно, механизм чудес. Вряд ли необходимо доказывать, что христианство не является наукой, но оно само есть объект науки, будучи формой приспособления человека к самому себе, иначе сказать, формой идеологии. В идеологии, вопреки мифам, идеи служат всего только дополнительным логическим воздействием, придавая культурные лоск и легитимность «непосредственным» (без посредничества сознания) душевным прозрениям и откровениям. Функция идей в данном симбиозе – ширма, декорация, аранжировка. Мировоззренческая стратегия остается в ведении иррационального. Итак, меня интересует простая сущность христианства как идеологического феномена. Я условно (наука может себе позволить такое) абстрагируюсь от политического и геополитического аспекта христианства, от цивилизационной парадигмы, от эффективности социальной или индивидуальной регуляции, истории, морали, воспитания – словом, от всех уровней и форм общественного сознания, где христианство незримо присутствует в качестве связующего структурного ингредиента. Современную жизнь невозможно представить себе без христианства – и точка. Сам по себе христианский космос – тема неисчерпаемая и безграничная. Но меня интересует христианство не как некая данность, не как фактическая доктрина, из которой неизбежно вытекает масса жизненно важных следствий, с которыми нельзя не считаться; меня интересует культурная родословная христианства, его культурная функциональность. Прошу не считать такой «академический» аспект пренебрежением реальной значимостью христианства, его выхолащиванием или чем-либо подобным. Я буду говорить на одном языке культуры о функциях и возможностях другого языка, я собираюсь не оппонировать или противоборствовать, или поучать; только анализировать. Кстати сказать, сама уместность подобного предуведомления свидетельствует о деликатности темы. Все дело в том, что христианство стало языком души. С душой нельзя иначе: она алчет реверансов и комплиментов. Но ведь душа – потемки. Мне представляется, что в серьезном разговоре о христианстве совершенно невозможно обойтись без психоанализа. Все это вероучение слишком иррационально, чтобы воспринимать его буквально. За тем, что говорит христианство, нужно искать скрытое содержание, за скрытым смыслом притч – другой скрытый смысл. Проблема не в интерпретации «темных» мест, а в том, что подобная потаенность содержания, конечно, является психологическим содержанием, слова и образы (модели, знаки) – маскируют суть, а не обнажают ее. Христианство не называет вещи своими именами, а дает другие имена… Чему? Вот это, в сущности, и является темой заметок. Моделирующий язык христианства дан ему не для того, чтобы скрывать свои мысли, а может, и отсутствие оных. Он дан, чтобы скрыть, прикрыть, завуалировать свою зависимость от витальной базы, чтобы облагородить грубость основных инстинктов, чтобы иллюзорно преодолеть свою фатальную зависимость от природы и прописаться в некоем автономном культурном круге с его жесткой иерархией и регламентом. Природа допускается в этот круг исключительно в культурном обличье, в варианте сублимированном и препарированном. Таким образом человек очищается от «натуральных» родовых пятен. Духовные усилия и деяния вообще переносятся в своеобразное метафизическое, принципиально культурное измерение: грех, покаяние, бес, ангелы, святые… Христианство предстает как феномен культуроцентризма. Все это порождает россыпи бесконечных духовных конфликтов, а значит, и сюжетов, счастливо отраженных в художественной культуре. Но даже не это делает христианство ценным в культурном смысле и отношении. Ограничиться сказанным – значило бы оставить за христианством, так сказать, художественные заслуги, бессознательное идеологическое служение жизни и человеку. Тем самым вопрос о том, насколько христианские ценности являются ценностями культуры – деликатно (и, думается, не в интересах христианства) снимается. Художественный потенциал христианства – несомненен, и в значительной степени большинство из существующих ныне идеологий так или иначе соотносят себя с христианством. Идеологии – это прежде всего три великих «гибрида» (искусство, религия, мораль) – потому гибрида, что они в совершенстве владеют языком приспособления, но тянутся к языку сознания, я бы сказал, претендуют на него. Гносеологические корни христианства – в сфере психологического управления и воздействия на ментальность личности и общества. Однако в данном случае необходимо подчеркнуть, что христианство строго придерживается священного культа порядка, предписания, императивов долженствования, которые могут быть по природе своей только продуктом сознания. Я сейчас не о том, насколько и в каком отношении плох или хорош, верен или неверен порядок. Я о том, что «духовное производство» изначально и по определению ориентировано на идею порядка. Порядок – детище концепции, плод усилий ума более, нежели воображения, сознания более, нежели психики. Опираясь на «порядочные» идеи, христианство своей практикой, в сущности, убедило человека в том, что он вполне может перестать быть скотом, «белокурой бестией» и превратиться в божью тварь, в носителя ценностей, выработанных культурой. Если угодно, христианство доказало, что жить в храме и «режиме» культуры, в режиме сознательного контроля над потреблением – цель вполне реальная и задача выполнимая. Не достойная, благородная – все это из разряда культурных утопий, созданных фантазией и щедрым воображением, – а именно реальная и выполнимая. Вновь считаю необходимым прибегнуть к риторическому политесу. Хочу быть правильно понят: без христианства был бы невозможен коммунизм, который и стал некой проекцией христианства, усилив и выделив в нем начало рациональное, научно-теоретическое, концептуальное. Я не хочу сказать, что христианство «виновато» в сотворении монстра, который с момента рождения стал заклятым врагом творца. Я хочу сказать, что христианство как идеология тоже не особенно ведало, что творило. Коммунизм задумывался как наука, как альтернатива собственно идеологии, а на деле стал всего лишь религией или идеологией атеизма. Поделом: за что боролся… Но это уже отдельный культурный сюжет. Хорошо известны три источника, три составных части марксизма. О четвертой говорят редко и неохотно. Будем и это трактовать как своего рода деликатность. Христианство и атеизм – тоже особый и, конечно, деликатный поворот темы. Христианство постоянно стремится если не перехватить научную инициативу, традиционно закрепленную за атеизмом, то продемонстрировать свою нечуждость и, так сказать, родственность разуму. Вот замечательный в своем роде пример – книга К. А. Присных «Путь разума в поисках истины». Характерно не только название книги, имеющей подзаголовок «Основное богословие», но также составляющих ее глав и параграфов. «Нерелигиозные системы мысли», «Доказательство», «Понятие о доказательстве», «Доказательство и истинность», «Правильная мысль», «Познай самого себя» и т. д. Таким образом, христианство, на первый и просвещенный взгляд, покоится отнюдь не только на иррациональном плацдарме, но на основаниях разумности. Сам разум обосновывает неизбежность и естественность христианства как системы мысли. Христианство смело предстает в обличье науки – науки, как нам тут же деликатно, но твердо напоминают, богословской, особой. Уже в начале первой главы находим предписание, развеивающее культурные мифы о «разумности» христианстве и ставящее все на свои места. Во-первых, Основное богословие «исходит из догматических и нравственных предпосылок христианской веры», во-вторых, «обращено к тем, у которых нет еще твердой веры, у которых немало сомнений» и которые «нуждаются в рациональном обосновании основ веры, истинности христианства». Разум помогает твердо встать на ноги, то есть укрепляет веру, помогает сделать первые шаги начинающему христианину, выполняет функции посоха или помочей. «И хотя на первых шагах таковые часто допускают ошибку, думая найти Истину, познать христианскую религию на пути только рассудка, логики, религиозной философии, тем не менее те из них, которые оказываются в дальнейшем духовно способными к действительному, т. е. опытному, постижению христианства, приобретают это знание через молитву, делание заповедей и покаяние». Действительное постижение – значит опытное, душевно-эмпирическое, но не умственное. Вот теперь все стало на свои места. Опыт «переживания» Бога как был, так и остался главным и решающим, и наука здесь ни при чем. Разум недвусмысленно ставится под контроль психики. Разум может лишь заманить в иррациональную ловушку, но сам о себе он ни на что серьезное, имеющее отношение к Истине, не годен. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). Вот, собственно, все аргументы и факты. Очень точно сформулировал проблему Н.А. Бердяев: «Основа религии есть откровение. Откровение само по себе не сталкивается с познанием. Откровение есть то, что открывается мне, познание есть то, что открываю я». («Я и мир объектов. Опыт философии одиночества».) От атеизма же лукавое Основное богословие требует именно фактов, «свидетельствующих о небытии Бога». Нет таких фактов – значит Бог есть. Бесконечный мир (уже своей бесконечностью принимающий сторону Бога) не может дать исчерпывающих, конечных и окончательных аргументов. Поэтому факты всегда будут в дефиците, они всегда будут относительным свидетельством. Сама невозможность достижения Абсолюта, сама диалектика оказываются на посылках у Господа Бога, атеизм же оказывается разновидностью слепой веры, не более того. Ибо: нет «железных» фактов – появляется глупая вера. Атеизму даже милостиво предлагается повысить статус и воспользоваться методологией дешевого детектива: представить доказательства, которые заведомо не соберешь. Незавидная доля. Получается: «есть только один путь, позволяющий убедиться в бытии или небытии Бога – путь религиозный. Иного способа просто не существует». Автор Основного богословия, конечно, горячится, демонстрируя твердую веру. Иной способ – отношение познания, которое не сводится к наличию фактов, логики и даже религиозной философии. Отношение познания базируется на методологии, на принципах познания, и принципы эти свидетельствуют: технология непосредственного «узревания» вооружает ее приверженцев виртуальными аргументами, которым никакие науки и разум не страшны, ибо они здесь ни при чем. Отношение познания подменяется логическими ходами (культурой), за которыми стоит, конечно, потребность узреть Бога (слабость человеческая, обусловленная натурой). Есть потребность – будет и Бог. Логические ходы (в интерпретации богословов – «разум») обслуживают приспособление к иррациональной потребности (вот где не обойтись без психоанализа). Отношение познания подменяется отношением приспособления, один язык культуры – другим. Получается вариант неосхоластики, – и все на круги своя или, на выбор, ничто не ново под луной. Отчего же приспособление комично маскируется под познание, рядится в овечью шкуру, хитрит? Словом, демонстрирует свою слабость, бравируя силой? С одной стороны, тянемся к Богу, с другой – к безбожному познанию… Оттого что разум и культура имеют силу и авторитет, а приспособление всегда тянется к реальной силе и авторитету. Происходит бессознательное отождествление Бога, разума и культуры. Скрытая интенция христианства – познать Бога, а не узреть Его, доказать, что Он есть, сделать «медицинским фактом». Это и было бы явлением мощи разума народу, открытием божественной природы разума. Истинным предметом Основного богословия стал бы не Бог, но разум, ибо эти «вещи» едины суть. Отсюда постоянное стремление христианства сблизиться с наукой, включить ее в свой космос пока что на правах вассала. Кокетничанье и заигрывание с разумом обнаруживает виртуальную, психологическую природу христианства. Оно просто-напросто проговорилось, давая другое имя Богу, обожествляя целесообразность и преклоняясь перед «порядком вещей». Сила не в знаниях и фактах, а в качестве мышления. Между прочим, опытный путь – это не привилегия «блаженных». Опытным путем можно узреть, что никакого бога нет. Содержание интуиций всегда амбивалентно. Мы же вернемся к нашей основной мысли: акцент на человека культурного – всемирно-историческая заслуга христианства, выражаясь языком сгинувшего марксизма. Сегодня это очень важно. Мы стоим на пороге тотального кризиса – и вследствие этого на пороге неизбежного обновления культурной парадигмы, в том числе идеологической ее составляющей, на пороге сознательного отношения к себе (хотелось бы в это верить), хотя живем в реликтовую и одновременно модерновую эпоху постмодерна, который самое культуру отвергает как репрессию, регламент и насилие, как нечто противоположное свободе и демократии. Художественные начала культуры пришли в неизбежное столкновение с научными. Процесс единства и борьбы пошел. Так вот христианство, не будучи наукой, все же создало, сотворило архетип человека культурного, строящего свое поведение от головы и сердца, но не от брюха и подбрюшья, от верха, но не от низа (хотя, повторюсь, психоаналитический дискурс христианских символов выявляет наличие плоти как всему «головы»). Важно, что сознательная регуляция пусть и в варианте первичном, виртуальном обрела право на жизнь. Вектор в сторону сознания – именно то, что придает христианству культурную ценность. Ибо это не просто слепая вера (религиозный эквивалент массовой культуры), но вероучение, реально смыкающее бессознательное с философией (рефлексией сознания по поводу сознания), моделирующее сознание – с научно-теоретическим. Само наличие христианства оказалось фактором возникновения иной формы культуры, иного культурного языка. В христианстве же явлена и перспективная модель целостного человека, внимающего сразу двум языкам культуры. Во имя жизни и культуры.
Закончили они одновременно. И у того, и у другого были просветленные лица.
– Ну, как тебе это зелье? – указывая на журнал, спросил помолодевший Мефодий.
– Давай лучше выпьем. Прости, если я тебя чем-нибудь обидел, Кирилл.
– Это ты меня прости. Что-то я слегка распустил себя.
Они обнялись, исполненные самых светлых человеческих чувств.
– Что Машка? Дело не в Машке, – отстраненно рассуждал отец Кирилл. – Дьявол мутит. Там, где двое, – третий дьявол. Спаси и сохрани.
17
После смерти Астрогова Ярилин испытывал чувства, с которыми ему не с кем было поделиться, и это делало его безнадежно одиноким. Астрогов – ушел; но ведь рядом оказалась Полина, и жизнь в каком-то важном русле своем стала полнокровной и цветущей. Однако какое-то другое, не менее важное русло, пересохло, и Ярилин вместе с возрождением стал необратимо усыхать. Ему часто вспоминалось: «Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым…» Вроде бы ты и цветешь, и пахнешь – и в то же время отчетливо вянешь, засыхаешь.
Чувства и мысли, которыми он привык делиться с Астроговым, становились естественными после того, как их пристрастно рассматривали в разных системах координат, вертели пристально и так и сяк. Спартак проходился по ним своим злым язычком, его хрипловатый бас и строгий ум не щадили порывов души, но в результате всесторонних обсуждений Валентин всегда уверенно и тонко ориентировался в логике своей сердечной и умственной жизни. Он делался ясен самому себе, и умонастроения его, сколь угодно неоднозначные, приобретали естественность для человека, укорененного в культуру, обретали глубину и своеобразие. Ярилин даже не отдавал себе отчета, что он был вечным учеником, и его это вполне устраивало. Даже когда он понимал и чувствовал проблему глубже, чем Спартак, и становился его учителем, Астрогов всегда предлагал неожиданные ракурсы, чем-то обогащающие видение Ярилина. Беда в том, что это казалось Валентину естественным и нормальным. Так оно, в сущности, и было. Но теперь не стало Спартака, и Ярилину предстояло научиться быть учеником у самого себя. Теперь честные мысли стали казаться Валентину преступными, их, оказывается, невозможно было кому-нибудь высказать. Раньше в этом просто не было необходимости, а сейчас стало ясно, что Ярилин тогда жил в другом мире, в мире, где был друг. И вот это одиночество не могла скрасить даже Полина. Ярилин чувствовал себя сиротой, который счастливо обрел новую семью, но никак не мог забыть старой. Полина не могла заменить Астрогова, они могли только дополнять друг друга. Вместе с уходом Спартака омертвела часть существа Валентина Ярилина.
Но возле могилы Спартака строй мыслей Валентина удивительно менялся. У него было ощущение, что Спартак слышит его, и он сам запросто корректировал мысли в нужном направлении. Валентин мыслил точно, легко и изящно, и Спартак аплодировал ему. Эти диалоги оживляли и укрепляли дух Ярилина. И об этом никому не расскажешь: Валентин не скорбел (хотя со стороны можно было подумать всякое), а практически радовался встречам со Спартачком. Сначала эти состояния Валентин испытывал непосредственно рядом с могилой Астрогова, а потом они стали приходить к нему и в иных местах (первый раз вне кладбища это случилось в троллейбусе зимой), а потом незримое присутствие Спартака стало постоянным, ежеминутным. После этого новому Ярилину не нужен был ничей совет, и он стал окончательно одинок.
И странно: в результате всех этих загробных и околомогильных метаморфоз посещение географической точки, где поселилась душа друга, превратилось в ритуал «преклонения колен», ибо исчезла сама внутренняя потребность в непосредственном общении. Ушедший Спартак стал частью оставшегося Валентина. И об этом тоже никому не расскажешь; но к тому времени Валентину никому и ни о чем уже не хотелось рассказывать.
Однако мы забежали далеко вперед, читатель. Это произошло не вдруг, это происходило медленно, на протяжении нескольких нелегких лет. Мы расстанемся с нашим героем гораздо раньше, вот почему я, пользуясь исключительно подходящим случаем, изложил сей любопытный сюжет в это время и в этом месте.
Что касается времени, о котором мы повествуем, то Ярилин тогда был еще не так одинок, и потому нуждался в посещении кладбища примерно раз в неделю, словно молодая вдова, орошающая слезами могилу мужа и в то же время каждую минуту готовая ко встрече с жестоким Дон Гуаном. Гм, гм, куда нас понесло, однако…
На кладбище, как и положено, было тихо и спокойно. Но Ярилина на сей раз вывел из равновесия маленький факт, ничтожный и, скорее всего, случайный, а именно: напротив уже семейного, но еще не вполне склепа Астроговых (Ярилин врыл пока только скамейку, более ничего), оказалась могила некоего гражданина Высоцкого В.А. Спартак обожал песни барда Высоцкого (Мефодий, кстати, тоже любил Владимира Семеновича и знал все его песни наизусть). «Ну, и что из того?» – спросите вы. И будете правы. Я, например, тоже не вижу в этом ничего особенного. Я однажды ехал на велосипеде за алым мерседесом, номер которого был (чтоб мне провалиться!) 6660, а впереди него рассекал шоссе черный джип с бортовым номером 0666 (чтоб у меня перо отсохло!). Совпадение, не более того. Запаха серы, извините, не ощущалось. Обычные высокотоксичные выхлопные газы.
Но писателя Ярилина ничтожный штрих выбил из колеи. Образное мышление, что вы хотите, читатель. То чудится, то мнится. Он, Валентин, увидел, а может, разглядел в этом некий знак или символ. Ему стало казаться, что ничего в жизни не происходит случайно. Все вокруг исполнено смысла, а вот попытки пробиться к нему кажутся бессмысленными. Астрогов дружил со смыслами и чувствовал себя среди них, словно ловкая обезьяна в непролазных джунглях. Может быть, как раз потому, что уверенно заблуждался?
Нет, нет. Самоуверенно заблуждается, пожалуй, Мефодий, но и у того за плечами есть своя сермяжная правда: он не способен вынести правды жизни, а потому взыскует возвышающего обмана, который только унижает человека. Нет, религия – для нищих духом, а мощь и бесстрашие Астрогова не по зубам таким, как блаженный во веки веков Присных.
Спартак жил один. Одиночество рождает смыслы. «Чтобы писать для всех людей, надо быть крайне одиноким, Ярилин», – обронил как-то не слишком трезвый Спартак. Что он имел в виду? Что ты имел в виду, Евдокимыч?
Теперь уже никогда этого не узнать. «Вы летите, в звезды врезываясь… Трезвость…» Вас, Спартак Евдокимович, поглотила вечность. А так хочется порой когтем человеческим ободрать лакированный бок вечности. Испортить отношения с небом. Ярилин повернул свое пылающее гневом лицо в сторону прячущегося бледнеющего солнца. Солярные мифы, солярные мифы… Солнце было прежде, Солнце пребудет всегда. Пусть всегда будет Солнце. Ну и что? Солнце, и даже сто тысяч солнц, не стоят разума человеческого. Подтверди, Астрогов! Разум горит ярче Солнца. «Тысяча чертей в пасть этому светилу!» – взбунтовался Ярилин, сидя в окружении могил. «Чтоб тебе закатиться в черную дыру, малиновый мухомор!» Его натурально трясло. От яростного бессилия текли слезы, и он почувствовал, что запросто может сойти с ума. «Не дождешься, гнусная иконная лампада, лупоглазый урод», – мгновенно успокоившись и деловито смахивая остатки соленой влаги, бормотал Ярилин новую мантру. «Не дождешься… Хватит с тебя Сапера.»
Рыжее солнце безропотно провалилось за горизонт, и солнцеподобные цветы одуванчиков, пахнущие медом, свернули свои желтые кружева в зеленые трубочки. Без солнца стало еще хуже. «Это и называется жизнь человека?» – вяло иронизировал неизвестно над кем Ярилин. «Не густо, однако, господа.»
Никто ему не отвечал.
Итак, мы с вами не заметили бы странного соседства могил, читатель, а Ярилин заметил. Астрогов любил Высоцкого. Их могилы оказались рядом, хотя это был совсем не тот Высоцкий, не Владимир Семенович. И никаких песен он не писал, как выяснил потом Ярилин. И это факт жизни, который плохо влазит в роман именно потому, что он случаен. Вы чувствуете, как он плохо влазит? То, что в жизни случайно, в романе спланировано. Улавливаете?
Ладно, мы возьмем этот штрих, спасибо, как говорится, жизни за подсказку. Но никогда не смешивайте жизнь и литературу, читатель. Не то вы разделите судьбу Ярилина…
Боже мой, что я наделал! Я выдал секрет, я бездарно открыл главную проблему моего героя. По секрету – всему свету. Дальше можно не читать. Я загубил роман.
Черт бы побрал мой не в меру длинный язык (а между прочим, для писателя длинный язык, что выносливые ноги для ахалтекинца)! «Разделите судьбу Ярилина», – сказал я. Lapsus lingva. Lingva latina. Это неслыханно. Горе мне.
Позвольте. Ну, и что, что я так сказал. Вы думаете, каждому дано смешивать жизнь и литературу? Вот так вот взять – и смешать? Как бы не так. Не питайте иллюзий, как выразился гладкостриженый отрок в переполненном троллейбусе. Это-то хоть вы помните? Попробуйте смешать, и вы увидите, что из этого получится. Не жизнь, а слезы и любовь. Ах, вы уже пробовали? Мои поздравления, тем хуже для вас. Ах, вы бы и сами догадались, не будь моей подсказки?
Не уверен. С точки зрения писательского разума, душа среднего читателя читается, как настольный календарь: если сегодня 28 февраля, можете быть уверены, что завтра наступит 1 марта. Раз в четыре года прогнозируется непредвиденный сбой. А если бы вы и сами, без моей подсказки догадались…
Что ж, вот так всегда чуткие, как нос шакала, читатели губят хороший роман своей паршивой интуицией.
Остается одно: писать назло читателю.
И назло всем, и даже себе, я не отступлю от правды жизни. А она состояла в том, что Ярилин, возвращаясь от Астрогова к Полине, неизвестно по какой причине, скорее всего, случайно, вспомнил беглый диалог, который они со Спартаком вели на берегу озера, бдительно наблюдая за тем, как Эмка блаженствовал на земле, нагретой солнцем.
– Западный человек, Вэлэнтайн, как только перестал быть коллективным человеком и стал индивидуалистом, прототипом личности, сразу же превратился в лидера цивилизации и аутсайдера жизни. Технологически он лидер, а вот по части выживания и размножения – в заднице. Натура всегда бьет культуру, поверь мне, писатель, защитник культуры. Ум делает человека беззащитным. В одиночку выжить нельзя, но если ты стал умным, ты не можешь жить в стаде. Это, если угодно, приговор в симпатичной и совершенной диалектической форме. А вот черные люди, гроздьями свисающие с пальм своими элегантными телами, желтые люди, а также смуглые люди всех оттенков кайфуют от сборищ и тусовок, от массовых намазов. Глупые вытесняют шибко умных. Съедят, как и положено в джунглях.
– Это пророчество?
– Ноу, сэр. Это логика. Наиболее вероятный сценарий. После того, как съедят невкусное белое мясо, интеллектуальный и духовный баланс придет в соответствие с запросами и потребностями серо-буро-малинового человечества. А затем снова понадобится не одна сотня тысяч лет, чтобы вновь войти в разумную колею. Черные вновь родят белых. Это называется аки пес на блевотины своя. И так далее. Человек разумный, светлый вечно будет человеком будущего, недосягаемым, заметь, человеком будущего. Да будет так.
– В тот день, когда Дендид создал все,
Он создал солнце;
И солнце встает, заходит и приходит вновь…
– Именно, именно. Дендид знал, что делал.
Почему Ярилину вспомнился именно этот сумбурный монолог философа?
Ответ: не знаю. Может быть, вы знаете, читатель?
Полина встречала Валентина на выходе из метро.
– Тебе не холодно? – спросил он, забывая с ней обо всем на свете.
– На мне шерстяная кофта.
– Шерсть – это шерсть, а холодно – это холодно, – грустно улыбаясь, заметил Ярилин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.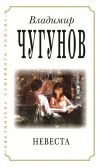










![Книга Сладостное заблуждение [Сладостное отступление] автора Джессика Харт](/books_files/covers/thumbs_100/sladostnoe-zabluzhdenie-sladostnoe-otstuplenie-38300.jpg)





























