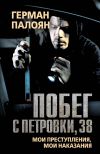Текст книги "Преступный сюжет в русской литературе"

Автор книги: Анатолий Наумов
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Лесков Н. С. (1831–1895) – известнейший русский писатель, по своему значению для отечественной литературы достойный того, чтобы отнести его к нашим самым великим (Л. Толстой, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Гончаров), но по определенным причинам в этом «разряде» все-таки не упоминаемый. Хотя, например, Лев Толстой говорил о нем как о «самом русском из наших писателей», а Чехов считал его одним из главных своих учителей (и это наряду с самим Тургеневым!). Эти оценки наших по-настоящему великих литераторов вполне адекватны восприятию читающей публикой шедевров лесковской прозы, как широко известные его произведения «Левша», «Очарованный странник», «Железная воля», «Белый орел», «Тупейный художник», «Соборяне» и др.
Уголовно-правовая «материя» занимает в творчестве писателя значительное место и так или иначе проходит через многие произведения (следует отметить, что судопроизводство по уголовным делам было знакомо писателю не по книжкам: он в молодости служил в Орловской палате уголовного суда). При этом можно выделить три варианта интерпретации данной темы, к которым Лесков неоднократно возвращался. Это, во-первых, преступление, вызванное любовной страстью как ее атрибутом и следствием (и в этом смысле Лесков вполне сопоставим и с Л. Толстым, и с И. Буниным). Во-вторых, преступление как определенный «фон» российской истории (ее быта и нравов). И, в-третьих, преступление как противозаконная деятельность народников-«нигилистов», направленная к революционному преобразованию общества (в этом значении Лесков явился продолжателем Тургенева («Отцы и дети», «Новь») и в какой-то мере предтечей Достоевского (журнальный вариант романа «Бесы» был опубликован позже антинигилистических романов Лескова)).
Начнем с преступления «по страсти». Оно проходит не через одно произведение Лескова, но первое место среди них, бесспорно, принадлежит повести «Леди Макбет Мценского уезда» (1865), в самом названии которой уже объявляется об изображении в ней шекспировских страстей. Об этом автор считал необходимым уведомить читателя с самых первых строк:
«Иной раз в наших местах задаются также характеры, что как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали называть ее леди Макбет Мценского уезда».
Драма на самом деле жутковатая даже по «меркам» уголовной хроники, но, разумеется, выходящая за ее пределы по глубине и накалу отраженных в повести чувств и переживаний героев, подталкивающих их для достижения своих желаний к самым страшным и жестоким преступлениям.
Изображенные автором события произошли в обычной купеческой семье, в которой очутилась героиня – молодая красивая женщина, выданная за нелюбимого вдовца старше пятидесяти лет (по бедности той выбирать было не из чего). Кроме нее с мужем с ними проживал и ее свекр – «человек лет под восемьдесят», тоже давно вдовый. Несмотря на прожитые с мужем почти пять лет, «детей у них не было», и Катерина Львовна «заскучала»:
«Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания».
Но к указанному времени скука эта вдруг исчезла. В доме (муж Катерины находился по своим торговым делам в длительной поездке) появился новый работник, красивый молодец Сергей с репутацией ловкого соблазнителя женщин, как об этом сказала Катерине, отвечая на ее расспросы о нем, кухарка: «У Копгоновых допреж служил, так прогнал его хозяин… Сказывают, с самой хозяйкой в любви был…» Свой «имидж» новый работник подтвердил, и молодая хозяйка, подготовленная уже пятью с лишним годами выпавшей на ее долю супружеской скуки с нелюбимым мужем, отдалась ему буквально с первого же «захода»:
«– Ты чего? Чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, – говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносную властью неописуемого страха, и схватилась рукой за подоконницу.
– Жизнь ты моя несравненная! На что тебе бросаться? – развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.
– Ох! Ох! Пусти, – тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.
Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол…»
Любовное счастье молодых продолжалось в связи с отъездом мужа с неделю, но было прервано ввиду разоблачения этой «преступной» связи бдительным свекром. В отношении работника, посягнувшего на «семейные» ценности купеческого жития-бытия, он учинил расправу собственноручно:
«Повел… Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей же стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел. Бросил Борис Тимофеевич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном. А невестке пригрозил более поздней расправой: “так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими же руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю”.
Но вышло совсем по-другому:
«Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком».
«Медовый месяц» у молодых вновь продолжился, но накал страстей уже начал снижаться. Нет, для Катерины он даже повышался, но при этом она (как женщина) чувствовала, что ее любимый как-то стал менее страстным, и даже, зная его любвеобильное прошлое, сочла возможным сообщить ему, чтобы он об измене ей и не помышлял.
«Как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько же и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, – живая не расстанусь».
Что ж, ее любовник, как опытный «ловелас», сумел не только снять с себя подозрение, но и заставил свою избранницу еще сильнее влюбить в себя. Это удалось ему вполне, объяснив свою «сухость» ревностью, связанную с тем, что он вынужден делить ее с законным мужем, а вот если бы он стал именно им, то страсть его была бы «безразмерная». Сердце любимой отреагировало вполне определенно:
«Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Они обезумели от своего счастья; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать…
Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану…
И опять пошли поцелуи да ласки».
Но, как всегда, появляется препятствие. В этот раз им оказался неожиданный приезд мужа, сразу же объявившего о том, что он наслышан о ее поведении. И что было делать влюбленным? Только одно – убить нелюбимого супруга, что ими и было сделано, после чего Сергей закопал покойника:
«Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения».
Розыски пропавшего мужа ничего не дали. И Сергей стал уже для работников Сергеем Филипычем (к тому же Катерина Львовна обрадовала его, что ожидает наследника). То есть все само собой шло к осуществлению мечты Сергея. Но стала известна новая неприятность. Выяснилось, что не одна Катерина со своим будущим ребенком является наследницей семейного имущества. Объявился еще один – ее малолетний племянник Федя. Сама Катерина это перенесла легко, уверяя любимого, что и при таком раскладе всем хватит. По-другому расценил случившееся Сергей. Он ни при каких условиях не был намерен делиться теперь уж его, Сергея, капиталами, ни с какими племянниками, и открыто объявил, что счастья прежнего у них с Катериной уже не будет. Выход, как и раньше, нашелся. Ребенок был обречен на смерть и удушен (любовник держал его за ноги и руки, а Катерина «закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью»).
Разоблачение пришло тут же. Любопытствующая публика решила подсмотреть в «щелку» между ставнями, чем занимаются молодая хозяйка с любовником. Сергей на допросе все откровенно рассказал, а также показал место, где был закопан пропавший муж Катерины. Всю ответственность за содеянное он возложил на Катерину. Та поначалу отпиралась, но Сергей уличил ее на очной ставке, хотя показала, что оба убийства совершила «для него» (т. е. своего любовника). Обоих по приговору суда сослали в каторжные работы, но предварительно любовники были «наказаны плетьми на торговой площади города», а «на плечах Сергея и его красивом лице» палач «заштемпелевал» три «каторжных знака».
По этапу их отправили в одной партии. И там любовная драма разыгралась по-новой и с иным завершением. Сергей как мог вымогал у Катерины находящиеся при ней деньги, но отношения между ними разладились. Катерина не скрывала радости от их редких (за деньги охранникам) встреч, а Сергей, напротив, был холоден, по сути дела, проклиная судьбу за их встречу, которая и привела его на каторгу. Более того, любвеобильность Сергея и его способности к этому скрасили, казалось бы, унылое каторжное состояние. Он быстро покорил вначале одну находившуюся в партии красавицу (Фиону), а затем и вторую (Сонетку). При этом Сергей вел такую игру: когда ему что-либо было надо, он снисходил до своей бывшей пассии, клялся ей в вечной любви, а та, расчувствовавшись и опять поверив в клятвы, готова была выполнить все его просьбы. Исполнение последней показалось Катерине уж очень невыносимо. Ее любимый жаловался, что у него замерзают и болят ноги и им, наверное, придется расстаться, так как его оставят в лазарете. Этого Катерина вынести не могла и отдала ему свои шерстяные чулки, которые он у нее и просил. И через два дня она увидела их на ногах Сонетки. «На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала “подлец” и неожиданно плюнула ему прямо в глаза». Он же за это сумел отомстить ей сразу же ночью. С помощью нанятых каторжников он осуществил экзекуцию, наказав бывшую возлюбленную пятьюдесятью ударами по спине «толстым концом свитой веревки» (при этом она отчетливо слышала, как ее «благоверный» с наслаждением отсчитывал количество отпускаемых ей плетей). Все это происходило под звонкий хохот Сонетки. Сергей же наслаждался позором Катерины и с особым старанием пытался унизить ее, предлагал купить у Сонетки ее же шерстяные чулки и демонстративно оказывал той свои ласки.
Развязка наступила быстро. Катерина «схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с ней за борт парома». Попытки охраны спасти обоих были тщетны: «почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показывались».
Конечно же, дело было не в Сонетке. Она была лишь поводом к завершению любовной драмы. Сила чувства Катерины к Сергею была такова, что и каторга не была ей помехой тому, чтобы любить и, как она полагала, быть любимой. И самым страшным для нее было именно разочарование в этом, осознание того, что Сергей на самом деле и не любил ее никогда, а только преследовал свою от связи с ней выгоду. Разочарование и было главным мотивом ее последнего поступка.
Следует отметить, что драма Катерины (так вероломно и цинично преданной искренне любимым ею Сергеем), изложенная в повести Лескова, подвигла на отражение ее в музыке гениальным композитором Дмитрием Шостаковичем (опера «Катерина Измайлова» 1934 г.) и в киноискусстве великим польским кинорежиссером Анджеем Вайдой (фильм «Сибирская леди Макбет» 1962 г.).
Литературные «экскурсы» автора в историю преступления в России делятся на описание таковых при крепостном праве и после его отмены. Что касается первого временного плана, то, казалось бы, что же тут можно нового сообщить читателю (после, например, Радищева с его «Путешествием из Петербурга в Москву», пушкинской «Истории Пугачевского бунта» с их описанием жестоких расправ помещиков с крепостными и не менее жестоких случаев сопротивления последних)? И тем не менее писателю «удалось» напомнить читателю о необычных даже для «крепостнических» нравов сохранившихся в народной памяти историях проявления жестокости. И дело здесь не в ознакомлении с какими-то необычными «казнями», придуманными помещиками-крепостниками. Вовсе нет. Новизна такого вроде «отработанного» в литературе материала заключалась в привлечении внимания автора к высшей степени аморальности поведения владельцев крепостных рабов, для которых ни Бог, ни религия не были препятствием для осуществления своих низменных побуждений.
Ярким примером этому служит рассказ «Тупейный художник (рассказ на могиле)», опубликованный в 1883 г. Описываемые в нем события касались нравов братьев (графов) Каменских, которых молва нарекла «немыслимыми тиранами», а их отца «фельдмаршала Михаилу Федотовича крепостные убили за жестокость». Один из его сыновей – театрал, содержавший из крепостных артисток театральную труппу, служившую владельцу одновременно гаремом, «сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил». Согласитесь, что ни у Радищева, ни у Пушкина таких историй не описывалось. Этот случай был известен писателю от бабушки и «от известного непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привезти и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал». К вопросу об исполнении наказания за любые провинности крепостных Каменские относились со всей серьезностью. Вот как об этом вспоминала героиня рассказа бывшая крепостная актриса:
«А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скручивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь». Был, однако, предел терпения и у крепостных рабов. «Старого графа наши люди зарезали… никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть».
Эта же тема (чудовищного морального разложения крепостников-помещиков) отчетливо «прозвучала» и в рассказе «Русское тайнобрачие» (1878). В этом плане заслуживают внимания две истории, и обе они связаны с тайнобрачием, т. е. совершением церковного обряда венчания в тайне ввиду его противоправности и несовместимости с канонами церкви.
«В старину, например, тайнобрачие часто по страху делалось. Мне мой дед рассказывал, как он в царствование Екатерины одного помещика с насильно увезенной барышней венчал. Взяли дедушку обманом, из дому вызвали, да первое дело, благослови господи, веревочную петлю ему на шею накинули и повели в церковь. Дедушка думал, разбойники, – грабить храм хотят, и ключи им выставляет: “Берите дескать, все, что хотите – последнюю ризу с царицы небесной снимайте, только мою грешную душу пощадите”. Но видит: помещик и его люди стоят в церкви и пучки розог держат. “Венчай, говорят, сию минуту, а то запорем или на колокольне повесим”…
– Так он и венчал их в петле?
– Так и венчал: впереди вокруг налою гайдук идет и деда ведет на обрывке, а он молодых ведет за руки».
Второй случай был еще более одиозный, связанный с тем, что один помещик решил жениться на своей внебрачной дочери.
«Отец Алексий… знал, что тут незаконного: девочка приходилась дочь жениху, – и как дело дошло до отца Алексея, он и уперся.
– Нет, – говорит, не только не могу вас венчать, но обличаю вас. Бога убойтесь, сами ведь во грехе каялись, и мать ее каялась: эта девица есть ваша дочь.
Помещик рассвирепел и пошел к архиерею, а архиерей… умный был человек, но любил пожить, а жить было не на что, и потому он не всегда себе господином выходил: попросту – взятки любил. Тут архиерей… вытребовал к себе… отца Алексия и спрашивает:
– Почему ты такого-то помещика на такой-то девице не венчаешь? Какие к тому препятствия?
А отец Алексей отвечает:
– Так и так, ваше преосвященство, вот что мне, как духовному отцу, известно, и вот мои причины и основания не венчать.
Архиерей задумался, покряхтел и говорит:
– Ишь ты, как ты очень много знаешь! И отослал дядю домой, а однако и помещику, должно быть, разрешение не дал, потому что тот в соседней епархии венчался».
В рассказе «Юдоль» (1892) Лесков затрагивает страшную тему голода в николаевской России 1840 г. и той степени вызванных страданий народа и «спровоцированных» им поступков голодающих, пытавшихся спастись от неминуемой смерти. Писатель обсуждает даже зафиксированные в народной памяти предания о возможных случаях людоедства, но относит их все-таки к мифологии (тем не менее объясняя конкретные причины и источники возникновения). Большое место занимают в рассказе картины падения в голодное время нравственных устоев народной жизни, в особенности в понимании женской чести и целомудрия. Связано это было с продажей женщинами изготовленных ими изделий (тканый холст, пряжа и т. д.). Цена на них была ничтожная.
«Покупали все это грабительским образом торгаши, которых называют “кошатниками” или “кошкодралами”. Они покупают кошек и тут же их убивают о колесную шину телеги или о головешку саней… Этим же кошкодралам бабы и девки тогда продавали “свою девичью красу”, то есть свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложений, пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, “в придачу к кошке”. Если кошатник не хотел брать драную кошку, то продавщица стонала: “купи, дяденька, хороший мой: а я к тебе в сумерки к колодцу выйду”. Но кошатники были этим добром изобилены и не на всякую “придачу” льстились: они цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что “кошка стоит грош вместе с хозяйкою”. Кошачья шкура был товар, а хозяйка – придачею. И этот взгляд на женщину уже не обижал ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишком страшны. С этим же взглядом осваивались и подростки-девочки, которые отдавали себя в таком возрасте, когда не переставали быть детьми… Вообще крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города…»
Особое место в творчестве Лескова занимают его романы «Некуда» (1864) и «На ножах» (1870), оцененные литературной критикой того времени как антинигилистические с вполне подразумеваемым синонимом последнего определения как антидемократического, т. е. реакционного (в советские времена такое «клеймо» уточнялось как антиреволюционное). Были ли у критиков основания для таких упреков в адрес автора? Ответ на вопрос может быть дан лишь в контексте исторических событий, относящихся ко времени написания этих романов и тогдашней литературной жизни (по современному – литературного процесса), как их отражения.
Начнем с романа «Некуда». Он создавался уже после реализации самой главной реформы Александра II – отмены крепостного права. «Неблагодарные» крестьяне, освобожденные от крепостной неволи, не подкрепленной получением земельных наделов, необходимых для нормального существования, не поняли такого «милосердия» верховной власти и реформу не приняли. По всей стране прокатились крестьянские волнения (по подсчетам историков, лишь в 1861 г. произошло более 1800 волнений крестьян). Все они, чаще всего с привлечением армии, были жестоко подавлены. Во внутренней политике основным стал своеобразный «поединок» между властью и радикально настроенной либеральной интеллигенцией, недовольной половинчатостью реформ и озабоченной проблемой освобождения крестьян от самодержавия и помещиков. Они проповедовали «хождение в народ», политическое просвещение его и подготовку крестьянской революции. Движение это окончилось провалом. С одной стороны, «народники» (с легкой руки И. С. Тургенева – «нигилисты», как единомышленники героя «Отцов и детей» Базарова) оказались непонятыми этим самым народом. С другой – власть, сурово расправлявшаяся с малейшими попытками любой политической агитации. Полицейские и судебные репрессии в отношении них заставили «народников-нигилистов» изменить тактику своей революционной борьбы и перейти к терроризму как ее основному инструменту поединку с самодержавием за народное «счастье» (что в 1881 г. и закончилось убийством Александра II). Лесков хорошо представлял себе всю бесперспективность подобной тактики, считая, что «России теперь революции не надо». И в контексте проблематики нашей книги любая революционная деятельность – это, по мнению автора, противоправное посягательство на государственные устои, т. е. преступление.
В центре внимания автора в романе «Некуда» – судьбы людей, втянутых именно в нигилистическую среду. Одна из главных героинь романа Лиза Бахарева попадает в круг людей, образовавших коммуну и живущих в ней. Подобная коммуна (известная современникам как Знаменская, возглавлявшаяся писателем В. А. Слепцовым) действительно существовала. Ее жители исповедовали атеизм и пытались создать общежитие, но закономерно проявившееся несходство характеров привело к распаду коммуны. Своеобразный и удачный по-своему опыт, описанный в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», проверку жизнью не выдержал. Лиза, не обретя личного счастья, разочаровалась в своих идеалах, ушла из коммуны и в конце концов сильно простудилась, заболела и умерла от воспаления легких. Другие персонажи, идейно разделявшие взгляды радикалов, постепенно разочаровываются в этом. Так, например, врач Розанов, отвечая на заверения «нигилистов» в близости крестьянской революции, заявляет: «Я знаю одно, что такой революции не будет. Утверждаю, что она невозможна в России». На «баррикады» пошли лишь двое наиболее выдержанные в нравственном отношении – Райнер и Помада, уехавшие в Польшу сражаться в отряде восставших за ее свободу. Правда, Райнер уточнил, что умирать он приехал «за землю и свободу крестьян», «не за национальную Польшу, а за Польшу, кающуюся перед народом». Помада умер от полученных в бою ран, а Райнер, захваченный в плен русскими солдатами, был расстрелян по приговору суда. Но это все персонажи, которых автор наделил многими положительными чертами и к ним он испытывал обычное человеческое сочувствие, несмотря на резкое неприятие их идейных помыслов. В романе, однако, были представлены и другие представители нигилизма, нарисованные автором в явно сатирическом виде. Это маркиза де Бараль и «углекислые феи чистых прудов». В салоне маркизы собирались (молодые и не совсем) нигилисты и занимались переливанием «из пустого в порожнее», будто бы всерьез обсуждая проблемы, стоящие перед Россией, а на самом деле исходя из своих химерических представлений о жизни, и лишь на словах способные якобы к решительным, т. е. революционным, мерам. Название романа «Некуда» свидетельствует об авторском «приговоре» судьбе народническо-нигилистического движения. Оно есть тупик, отсутствие каких-либо позитивных перспектив для России и ее будущего.
Разумеется, демократически настроенные читатели и таковая же печать отрицательно оценили этот роман. Общество больше сочувствовало героям Чернышевского, и не только сочувствовало, но и было готово подражать им. Кстати говоря, автор был недоволен этим произведением и считал его «худшим» своим романом.
Еще более трудная судьба была у другого нигилистического романа Лескова «На ножах» (и более, на наш взгляд, несправедливая, в особенности в оценке его художественных достоинств). Это произведение – настоящий авантюрный роман, детектив со сложнейшими психологическими перипетиями, со множеством ярких и запоминающихся образов (по занимательности и «градусу» читательского «напряга» роман дает сто очков «бестселлерам» нынешних продолжателей Агаты Кристи (чья широко издаваемая продукция заполнила прилавки книжных магазинов). И действительно, чего только (в детективном плане) нет в романе. Центральное место – убийство с помощью любовника старого, слишком уж «зажившегося» на этом свете мужа с целью получения наследства. Попутные сюжетные линии также впечатляюще криминальны. Это и женитьба одного из героев по принуждению. И поджог квартиры с целью уничтожения компрометирующих «пироманов» документов, и ростовщичество, и кражи, и мошенничество, и преступное «двоеженство» и «двоемужество», и покушение на убийство под видом дуэли… и эффектное по исполнению самоубийство одной из героинь, и спиритические сеансы, и сильнейшие любовные страсти и такие же коллизии, и т. д. и т. п. Что же тут удивительного? Жанр есть жанр, детектив требует таких «загадок-отгадок», способных держать читателя в напряжении.
Авторская же «изюминка» заключается в том, что все детективное, упомянутое выше, есть и фон, и само содержание бытия достаточно широкого круга народников-нигилистов. В таком неприглядном криминальном виде революционеров еще никто не изображал. Ведь даже в «Бесах» теоретики и практики терроризма (тот же Верховенский) руководствуются своими бесспорно преступными, но все-таки идеями революционного преобразования общества. Поэтому вполне понятна и реакция демократически настроенных литераторов на появление такого романа. Так, например, А. М. Горький писал, что это произведение – «книга злого отчаяния, книга личной мести, где все герои шантажисты, воры, убийцы…» Оценка эта явно несправедливая, и следует согласиться с мнением, высказанным на этот счет современным исследователем творчества Лескова: «Лесков разоблачает не революционеров, а “накипь”, что сопровождает революционное движение, а в семидесятые годы отошла от него, опустившись на самое дно русской жизни»[120]120
Шелаева А. Забытый роман // Лесков Н. С. На ножах. М., 1994. С. 4–5.
[Закрыть]. Именно так объяснял свой замысел и сам автор, отвергая предъявленные ему обвинения в очернительстве революционного движения:
«Я не думаю, что мошенничество “непосредственно вытекало из нигилизма”, и этого нет и не будет в моих романах. Я думаю и убежден, что мошенничество примкнуло к нигилизму, и именно в той самой мере, как оно примкнуло и примыкает “к идеализму, к богословию” и к патриотизму. Я имею в виду одно: преследование поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и паскудить все, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и “идеализм”, как и “богословие”.
Вместе с тем роман «На ножах» (как и «Бесы» Достоевского) был серьезным предупреждением автора о грядущей опасности для общества и государства: превращение заслуживающего сатирической оценки нигилизма в откровенно террористическую деятельность. И хотя до 1 марта 1881 г. (т. е. до убийства «новыми народовольцами» Александра II) было еще далеко (хотя покушения на его жизнь уже совершались), один из главных героев романа на допросе по обвинению его в убийстве заявил, что он является «предтечей других сильнейших и грозных новаторов, которые, воспитываясь на ножах, скоро придут с ножами же водворять свою новую вселенскую правду». Увы, мы, дожившие почти что до столетия Октябрьской революции, вынуждены признать, что «пророчество» писателя сбылось в точности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?