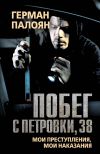Текст книги "Преступный сюжет в русской литературе"

Автор книги: Анатолий Наумов
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Дм. Быков однозначно отвечает на этот вопрос: «”Пиковая дама“ – первый русский триллер. И это очень не простое сочинение, относительно которого у самого Пушкина не было определенного мнения. Он высказывается об этой вещи как о безделке – и вместе с тем чрезвычайно гордился ее успехом. В разговоре с ближайшим своим другом Павлом Воиновичем Нащекиным называл ее самой большой своей прозаической удачей…»[53]53
Быков Дм. Русская литература: страсть и власть. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. С. 87.
[Закрыть]. Но что такое триллер? Если взять современные энциклопедическо-словарные или интернетовские толкования понятия «триллер», то оно означает детективно-приключенческий фильм (чаще всего) или книгу, держащие (зрителя, читателя) в напряженности, страхе, ужасе[54]54
См., например: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2 т. М.: Русский язык, 2000; Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999.
[Закрыть]. И тем не менее мы думаем, что, несмотря на остросюжетность пушкинской повести, все-таки «ужасов» (к которым мы привыкли в современном кино) в ней недостает. Элементов загадочности, нереальности, фантастики немало. Для современного бестселлера такого вполне хватает. А вот насчет ужаса и доведения читателя до состояния страха – как-то с этим слабовато. Хотя «преступно-сюжетная», т. е. уголовно-правовая, оценка действий героя повести совсем не проста. Поняв, что старуха-графиня не откроет ему желанную тайну «трех карт» (т. е. сделает его богатым), он поступает следующим образом:
«– Старая ведьма! – сказал он, стиснув зубы, – так я ж заставлю тебя отвечать…
С этим словом он вынул из кармана пистолет.
При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслонялась от выстрела… Потом покатилась навзничь… и осталась недвижима.
– Перестаньте ребячиться, – сказал Германн, взяв ее руку. – Спрашиваю последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? Да или нет?
Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла».
Лизавете Ивановне Германн так объяснил случившееся:
«– Я не хотел ее смерти… Пистолет мой не заряжен».
Но вот что чувствовал он, когда «решил явиться на похороны, чтоб испросить у ней (умершей графини. – А. Н.) прощение»:
«Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи!»
И в этом самооценка его действий была вполне адекватна их уголовно-правовой оценке. Да, пистолет Германна не был заряжен. Но он и не хотел смерти старухи. Последнее не входило в его планы. Ему нужна была живая старуха, способная «осчастливить» его сообщением карточной тайны – набором карт («тройка», «семерка», «туз»), которые должны были принести ему и выигрыш, и богатство. Но именно его действия стали причиной смерти обладательницы этой карточной тайны. И он (с позиции как сегодняшнего уголовного закона, так и пушкинских времен) виновен в неосторожном причинении смерти человеку. Дело в том, что и Соборное уложение 1649 г., и Воинский артикул Петра I (1715 г.), как источники уголовного права, т. е. входящие в Полное собрание законов Российской Империи (опубликованное в 1830 г. и действовавшее до 1 января 1835 г. – до вступления в силу Свода законов уголовных как составной части Свода законов Российской Империи), а «Пиковая дама» была написана в 1833 г., предусматривали уголовную ответственность не только за умышленные преступления, но и неосторожные, и исключали ее только за случай, т. е., выражаясь по-современному, – за невиновное причинение вреда.
В литературоведении иногда убийство Германном старухи-графини называют определенным совпадением с убийством старухи-процентщицы и ее сестры, совершенным Раскольниковым в «Преступлении и наказании». Однако последний, в отличие от Германна, хотел убить и действительно осуществил свое намерение. Другое дело, что в самой «Пиковой даме» один из ее персонажей, Томский, дает Германну следующую характеристику: «У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». И в этом плане сравнение пушкинского героя с Наполеоном напрашивается само собой. Дм. Быков в пользу этого приводит два заслуживающих внимания довода. Во-первых, то, что «он легко перешагивает через Лизу», и, во-вторых, то, что «смерть графини не вызывает у него ни малейших угрызений совести».
Немало любопытного криминалист найдет, например, в «Евгении Онегине». Перечитывая роман, он в силу своих профессиональных представлений не может не обратить внимания на два следующих момента – дуэль Онегина и Ленского[55]55
События дуэли были отражены поэтом в VI и VII главах романа. Шестая глава написана в 1826 г., а вышла в свет в 1827 г., седьмая окончена в 1828 г. и вышла в свет в 1830 г. В связи с этим взгляды поэта на эти события, как имеющие отношение к уголовному праву, рассматриваются применительно к николаевской эпохе.
[Закрыть] и мотив клеветы. В отношении дуэли неюрист может при этом спросить: что же здесь криминального? Были дворянские представления о чести и способах ее защиты. В соответствии с этим противники и стрелялись. Все честно и по правилам. Однако у криминалиста есть свое специфическое профессиональное видение вопроса, где событие предстает в ином свете. Онегин убил Ленского на дуэли. В сущности, совершилось одно из самых тяжких уголовных преступлений. Оба дуэлянта, если они оставались в живых, должны были быть повешены по приговору суда. Тогда же, когда они оба убиты на дуэли (или один из них), то их предполагалось «и по смерти за ноги повесить» по действовавшим тогда уголовным законам (в первую очередь по Воинским артикулам Петра I). При этом можно вспомнить, что военно-судная комиссия, рассмотрев дело о дуэли самого Пушкина и Дантеса, вынесла приговор о повешении как Дантеса, так и секунданта поэта – Данзаса, особо оговорив, что такому же «наказанию подлежал бы и… Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить…» Правда, ревизионная инстанция по делу о трагической дуэли отменила смертную казнь Дантесу и Данзасу, но тем не менее приговорила Дантеса к суровому для того времени наказанию – разжалованию в солдаты (но царь спас его и от данного наказания).
Конечно же, реальная (обычная) судебная практика вовсе не соответствовала жестокому законодательству об ответственности за дуэль. Обычно дуэлянты присуждались к мягким мерам наказания.
Как бы то ни было, но в соответствии с российским законодательством убийство Онегиным Ленского на дуэли рассматривалось как тяжкое преступление. В связи с этим в действительности было два возможных варианта развития последуэльных событий. Первый – судебный процесс по делу о дуэли. Второй – его отсутствие при удачном для главных действующих лиц сокрытии следов преступления. Последний вариант достоверно описан Лермонтовым в «Герое нашего времени». Друг Печорина доктор Вернер в своей записке ему свидетельствовал: «Все устроено как можно лучше; тело привезено обезображенным, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиной его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, если сможете…»[56]56
Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 139.
[Закрыть].
Пушкин в «Евгении Онегине» выбрал именно второй вариант. А это означает, что дуэль и истинные причины смерти Ленского удалось скрыть от полиции и правосудия. Правда, в отличие от лермонтовской версии, пушкинская, мягко говоря, менее обоснована самим автором (по крайней мере не так тщательно и, думается, вполне намеренно). И сам поэт это, конечно, понимал. Дело в том, что в случае, если бы Онегину и секунданту Ленского Зарецкому, друзьям погибшего на дуэли – семейству Лариных и удалось бы представить смерть юного поэта в виде какого-то несчастного случая, то последний должен был быть похоронен, как и все православные, умершие естественной смертью, – на кладбище. Пушкин же похоронил его в другом месте:
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приносят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.
В седьмой главе романа автор возвращается к теме места погребения Ленского:
Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек,
Виясь, бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый песок…
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых,
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»
Место захоронения Ленского есть свидетельство того, что, по мнению автора «Евгения Онегина», следы этой дуэли полностью скрыть не удалось (в отличие от печоринской), и причины смерти Ленского, видимо, стали известны местному священнику[57]57
См.: Наумов А. В. Дуэль // Онегинская энциклопедия; под общ. ред. Н. И. Михайловой. Т. I. М.: Русский путь, 1999. С. 383–384.
[Закрыть]. И тот отказался исполнить над убитым христианский обряд отпевания. Дело в том, что по церковным канонам того времени убитые на дуэли приравнивались к самоубийцам. В России до царствования Петра I правовые последствия самоубийства регулировались только церковными законами, а начиная с Петра – и светскими. Так, например, в наставлении старостам поповским и благочинным смотрителям от святого патриарха московского Адриана в 1697 г. говорилось: «Который человек… какую смерть над собою своими руками учинит или на разбое и на воровстве убит будет: тем умерших тел у церкви Божией не погребает, и над ними отпевать не велит, а велит их класть в лесу или на поле, кроме кладбища…»[58]58
Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Ст. 1612.
[Закрыть] В дальнейшем эта санкция превратилась в уголовно-правовую и применялась в России до октября 1917 г. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г., также действовавшей до октября 1917 г.) самоубийство признавалось преступлением, и «если самоубийца принадлежал к одному из христианских вероисповеданий», он наказывался лишением христианского погребения (ст. 1472).
Такие же посмертные последствия ожидали и погибших на дуэли: «Так, например, еще в Требнике митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы (1596–1647) между лицами, не подлежащими христианскому погребению, указывались наряду с самоубийцами и “на поединках умирающие”»[59]59
См.: Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. СПб., 1871. Т. 2. С. 408–409.
[Закрыть].
Несмотря на абсолютный церковный и уголовно-правовой запрет дуэлей существовали особые «нормативные» (разумеется, неофициальные) правила таких поединков. Конечно же, эти правила были неписаные, так как, по справедливому замечанию Ю. М. Лотмана, «никаких дуэльных кодексов в русской печати, в условиях официального запрета дуэлей, появиться не могло, не было и юридического органа, который мог бы принять на себя полномочия упорядочения правил поединка… Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиций и арбитров в вопросах чести»[60]60
Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. 2-е изд. Л., 1963. Это утверждение относится к пушкинскому времени. Позднее, в конце XIX – начале XX в., когда обычай дуэлей перестал носить массовый характер даже в среде военных и он фактически был узаконен, такие дуэльные кодексы издавались (см.: Дурасов. Дуэльный кодекс. Град Св. Петра, 1908).
[Закрыть].
В «Евгении Онегине» знатоком таких дуэльных традиций выступает Зарецкий («старый дуэлист»):
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял – ни как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства…
При этом автор романа психологически убедительно обосновал и поведение Онегина, согласившегося на жесткие условия дуэли, выработанные Зарецким, и на допущение кровавой развязки. Конечно же, внутренне он не только не хотел убивать юного поэта, но и, сознавая небезупречность своего поведения на балу у Лариных, вообще не предполагал драться на дуэли:
…Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.
И все-таки он вышел на поединок и убил своего друга. И Пушкин убедительно обосновал причины:
К тому ж – он мыслит – в это дело
Вмешался старый дуэлянт;
Он зол, он сплетник, он речист…
Конечно быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шопот, хохотня глупцов…
И вот общественное мненье!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир.
Именно в этом коренится психологическое обоснование «невольной» жестокости Онегина. Как справедливо отмечал Ю. М. Лотман, «поведение Онегина определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами, которые он испытывал по отношению к Ленскому, и боязнью показаться смешным и трусливым, нарушившим условные нормы поведения, барьера»[61]61
Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 104.
[Закрыть]. Онегин был человеком своего времени, своего круга, носителем определенных предрассудков и нравственных представлений о чести. Иная линия поведения сделала бы его не только смешным, но и жалким во мнении окружающих, на что он, конечно, согласиться не мог.
Внимание криминалиста не может не привлечь в поэме «Евгений Онегин» и мотив клеветы. В современном мире клевета – одно из самых гнусных преступлений, порой не только морально, но и физически убивающих человека. В уголовном законе она определяется как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 1281 УК РФ). По нашим подсчетам, мотив клеветы встречается в «Евгении Онегине» девять раз (согласимся, что для одного произведения это, пожалуй, слишком):
(1) Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Смягчая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет.
(2) И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника.
(3) Я только в скобках замечаю,
Что нет презренней клеветы
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной…
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторит сто крат ошибкой.
(4) Кто клеветы про вас не сеет?
(5) И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут.
Обжора, взяточник и шут…
(6) К тому ж – он мыслит – в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист…
(7) Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
(8) Все в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно…
(9) То видит врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых.
О клевете либо о клеветнике автор не упоминает лишь в единственной – третьей – главе, зато в четвертой и седьмой возвращается дважды.
Представляется, что такое внимание к клевете и клеветникам для автора «Евгения Онегина» не было случайным. Дело в том, что клевета преследовала поэта с «младых» лет и стала одной из причин его безвременной кончины. Первое потрясение от клеветы он испытал в ранней молодости в 1820 г. за несколько месяцев до отъезда в свою первую ссылку. В «Летописи» М. А. Цявловский январем 1820 г. датирует следующее событие: «Пушкин “последним” узнает от Катенина о слухе, позорящем его (Пушкина) и пущенном гр. Ф. И. Толстым (чего Пушкин не знает), будто бы он был отвезен в тайную канцелярию и высечен. Пушкин дрался по этому поводу с кем-то неизвестным на дуэли, у него появляются мысли о самоубийстве, но Чаадаев доказывает ему всю несообразность этого намерения»[62]62
Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина (1799–1837). 2-е изд. Л., 1991. С. 197.
[Закрыть].
Это клеветническое событие подтверждается и самим поэтом в его переписке (например, письмо к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1822 г.), и в особенности его неотправленным письмом Александру I. Последнее датируется началом июля – сентябрем 1825 г. В нем, в частности, содержится следующее: «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен. До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние; дрался на дуэли – мне было 20 лет в 1820 г. – я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить – В.».
Письмо было написано во время работы над четвертой главой «Евгения Онегина», и именно в данной главе мотив клеветы звучит особенно обостренно. Все это свидетельствует, что мотив клеветы в романе вовсе не случаен, что он отражает тогдашнее острое переживание поэтом гнусной сплетни, распространенной вокруг его имени. Разумеется, что «Евгений Онегин» был не единственным произведением, где поэт затрагивает и развивает мотив клеветы. Эти настроения поэта отразились и в его эпиграмме «В жизни мрачной и презренной» (1820), и в послании Чаадаеву (1821) и в ряде других произведений.
После южной ссылки у Пушкина наблюдается определенный отход от революционных настроений. Известия об усилении политической реакции в России, выразившемся, например, в репрессиях, связанных с волнениями в Семеновском полку, в жестоком усмирении крестьянских восстаний, аресте В. Ф. Раевского, в удушении революций в Неаполе, Пьемонте, Испании, привели к разочарованию поэта в революционных средствах переустройства общества. Это не могло не отразиться и на его творчестве, например, в стихотворениях 1821–1823 гг. «Свободы сеятель пустынный», «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг…»), «Мое беспечное незнанье» и др.
Так, в «Послании к В. Ф. Раевскому» (1822) поэт писал:
Я говорил пред хладною толпой
Языком истины свободной,
Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный.
А в стихотворении «Свободы сеятель пустынный» (1823) те же настроения поэта прозвучали еще сильнее и более сатирически:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Государственно-правовой анализ неограниченного абсолютизма был выполнен Пушкиным в кишиневский период его жизни на материалах русской истории. В статье «О русской истории XVIII века» он дал очень точную характеристику государственно-правового механизма России эпохи Екатерины II. Поэт отмечает незаконность восшествия императрицы на престол («Взведение на престол заговором нескольких мятежников») и пытается снять «хрестоматийный» глянец с этой правительницы, выглядевшей в глазах Европы также весьма просвещенной. В этом смысле она ввела в заблуждение, например, даже Вольтера. Пушкин же предъявляет к ней как к императрице целый реестр промахов на государственной ниве. Это и доведение народа до крайней нищеты, и расхищение государственной казны ее любовниками, и «важные ошибки ее в политической экономии», и «ничтожность в законодательстве». Один из главных упреков ей – то, что «развратная государыня развратила и свое государство». Но Пушкина меньше всего занимали многочисленные романы императрицы. Под развращением государства он понимал отсутствие малой толики нравственности и честности как у приближенных к императрице, так и у чиновников среднего и низшего звена. Главной чертой характера императрицы поэт считает лицемерие, называет ее «Тартюфом в юбке» и приходит к выводу, что ее память достойна «проклятия России».
В Михайловской ссылке Пушкин вновь и вновь возвращается к вопросам государственного устройства. Например, к вопросам о пределах насилия при революционных переворотах (о «цареубийственном кинжале» Якушкина). При этом, как и при написании оды «Вольность», он обращается к опыту Великой французской революции. Особенно ярко это проявилось в элегии «Андрей Шенье», написанной за несколько месяцев до декабрьских событий. Андрей Шенье – французский поэт. Вначале он принимал самое решительное участие в революции, но при этом оставался в рядах умеренных, примкнув к жирондистам, а перед арестом выступил в защиту короля. Это послужило поводом к его аресту и обвинению в участии в монархическом заговоре, в результате чего он в 1794 г. был казнен накануне падения диктатуры Робеспьера. Как и в оде «Вольность», Пушкин признает, что свержение Людовика XVI было законным, так как он попрал права народа. Но его свержение и казнь привели опять к диктатуре, казням и, следовательно, к новым беззакониям:
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
После восстания декабристов эти строки вполне можно было понять как откровенный намек на недавние события на Сенатской площади. Более того, как отмечалось, стихи так многими читателями и понимались и поэтому распространялись в рукописных списках под заглавием «На 14 декабря», что и послужило поводом к жандармскому расследованию и военно-судному делу об их распространении.
Однако при рассмотрении поэтом проблемы государственной власти на протяжении михайловской ссылки наряду с уже традиционным для него выяснением соотношения власти и закона на первый план выступает проблема власти и народа, роли народа в историческом процессе, в борьбе монарха за власть, в дворцовых переворотах. Думается, что все эти вопросы волновали поэта не только в чисто практическом плане, но и в историко-теоретическом. Осмысливание причин поражения революционных сил в Западной Европе неумолимо возвращало его к спору о стратегии и тактике дворянских революционеров своего времени – членов тайных обществ. Наиболее отчетливо эти государственно-политические взгляды и раздумья поэта нашли свое отражение в художественной форме в трагедии «Борис Годунов». Написана она была в Михайловском в период с декабря 1824-го по ноябрь 1825 г. Историческим фоном трагедии поэт избрал сложнейший период российской истории – события так называемого Смутного времени (начало XVII в.). Этот короткий исторический период царствования в России Бориса Годунова объединяет и смену царей, и нашествие на Русь иноземных захватчиков, и народные бунты, и восстания, и, что особенно повлияло на дальнейшее развитие Российского государства, введение крепостного права. Все это казалось Пушкину не далеким, а очень близким к жизни современной ему России. Так, прочитав X и XI тома «Истории государства Российского» Карамзина, в которых шла речь об этом времени, поэт писал Н. Раевскому и В. Жуковскому: «Это злободневно, как свежая газета».
Центральная идея трагедии – взаимосвязь народа и царской власти. По мнению царей, и Бориса в том числе, единственным средством удержания в узде народных масс, противостоящих царской власти, является их жестокое устрашение:
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже.
Вместе с тем Борис понимает, что в отношении народа нельзя ограничиться только «грабежом и казнями». Это опасно, народ обязательно взбунтуется – и тогда горе самодержцу. Поэтому на смертном одре он дает советы сыну проявлять благоразумие и время от времени ослаблять «державные бразды», но ненадолго:
Я ныне должен был
Восстановить опалы,
казни – можешь
Их отменить; тебя благословят…
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды…
Однако Пушкин вносит определенный порядок в такое понимание прочности царской власти. Осмысливание хода исторического процесса и современных ему событий приводит его к мысли о том, что ни Борис, ни другой самодержец не способны удержаться у власти без поддержки народа. Годунов пал не в результате интриг бояр или поддержки самозванца польскими вооруженными отрядами. Решающей причиной его поражения было мнение народное. Народ не только не поддержал Бориса, но и выступил против, видя в нем того царя, который, отменив Юрьев день, отнял у крестьян остатки свободы. Эти мысли поэт вложил в уста своего предка боярина Пушкина, перешедшего на сторону самозванца и уговаривающего встать на этот путь боярина Басманова:
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.
Та же мысль явно просматривается в диалоге между Шуйским и Пушкиным.
Шуйский
Сомненья нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! И если до народа
Она дойдет, то быть грозе великой.
Пушкин (предок поэта)
Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове.
Пушкин закончил трагедию в ноябре 1825 г., но опубликована она была лишь в 1831 г. Самодержавный цензор Пушкина инстинктивно чувствовал, что такие трагедии не способствуют укреплению царской власти, и долго сопротивлялся ее напечатанию. В первом издании трагедии после слов: «Народ! Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» – была добавлена авторская ремарка: «Народ безмолвствует». Этой ремарке в пушкиноведении посвящена многочисленная литература, в которой исследователями высказаны самые противоречивые суждения. Еще в 1839 г. в журнале «Галатея» неизвестный критик обратил внимание на значение этой ремарки и попытался дать ей свое толкование:
«Как много заключается в этом “народ безмолвствует”… В этом… таится глубокая историческая и нравственная мысль: при всяком великом общественном перевороте народ служит ступенью для властолюбцев-аристократов: он сам по себе ни добр, ни зол, или, лучше сказать, он добр и зол, смотря по тому, как заправляют им высшие; нравственность его может быть и самою чистою и самою испорченной, – все зависит от примера: он слепо доверяется тем, которые выше его и в умственном и в политическом отношении; но увидевши, что доверенность его употребляют во зло, он безмолвствует от ужаса, от сознания зла, которому прежде бессознательно содействовал; безмолвствует, потому что голос его заглушается внутренним голосом проснувшейся, громко заговорившей совести…»[63]63
Галатея. 1839. Ч. IV. № 27. С. 55.
[Закрыть].
Думается, что такая трактовка сужает пушкинскую мысль об исторической миссии народа. Правители всегда использовали народ как средство завоевания или удержания власти, но это лишь часть правды, которая заключается в том, что народ становится при этом решающей силой. Власть и существует до той поры, пока народ согласен с ней, несогласие с властью влечет ее падение и изменение.
Очень близко к разгадке авторского содержания ремарки подошел Белинский. В своей десятой статье из цикла статей о Пушкине он писал: «Превосходно окончание трагедии. Когда Мосальский объявил народу о смерти детей Годунова, – народ в ужасе молчит… Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибели годуновского рода, разве не сам он кричал: “Вязать Борисова щенка“?.. Мосальский продолжает: “Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!” – Народ безмолвствует… Это – последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира… В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою жертвою – над тем, кто погубил род Годуновых…»[64]64
Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1948. Т. 3. С. 596.
[Закрыть] Безмолвствие народа означает, по Белинскому, что самозванец, возведенный народом на трон, им же и будет низвержен. Именно так и понял ремарку Д. Д. Благой, который, приведя цитату Белинского, поясняет: «В этом “безмолвствует” заключается, по Пушкину, вся дальнейшая судьба самозванца, поскольку народ от него отвернулся; его, достигшего высшего могущества и власти, ждет близкое свержение и бесславная гибель. Сегодня – народ безмолвствует, а завтра – он заговорит, и горе тому, против кого он обратит свой голос, – таков смысл этого единственного в своем роде, потрясающего пушкинского финала…»[65]65
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. С. 472.
[Закрыть]
Соглашаясь с такой трактовкой содержания пушкинской ремарки, вместе с тем представляется, что в идейном плане не следует преувеличивать различия между первоначальной редакцией трагедии (без конечной ремарки) и опубликованным поэтом вариантом трагедии с указанной ремаркой и вкладывать в отсутствие или наличие этой ремарки принципиальное содержание. Так, Д. Д. Благой усматривает в «Борисе Годунове» «сплав» противоречивых воззрений на народ, что будто бы было характерно для декабристов и что, по его мнению, «борьба в самом Пушкине между этим двойным отношением к народу сказывается с особенной отчетливостью в двух вариантах конца пьесы»[66]66
Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. М., 1931. С. 69.
[Закрыть]. По нашему мнению, в идейном плане наличие или отсутствие этой ремарки ничего не меняло. Допустим, что народ не безмолвствовал, а кричал «да здравствует царь Димитрий Иванович!» Это означало лишь художественное выражение окончания одного витка отечественной истории. Годунов, не поддержанный народом, был свергнут самозванцем, которого поддерживали народные массы. Наличие реплики означало начало нового исторического витка – самозванец, не поддержанный народом, обречен на свержение и гибель. В художественном плане ремарка усиливает авторскую концепцию, так как дает историческую перспективу, вероятный дальнейший ход событий, но вовсе не противоречит первому варианту без ремарки.
Далее. Колебания в пушкинских воззрениях на народ соответствуют колебаниям декабристов в этом вопросе. Трагедия была написана накануне восстания декабристов. Следовательно, в последний год своей жизни в Михайловском Пушкин не раз возвращался к оценке, обдумыванию позиции своих друзей-заговорщиков. Позиции, хорошо известной ему как по Петербургу, так и по Кишиневу и Каменке: в их программе борьбы за власть не отводилось места народу. Поражение революций в Западной Европе ничего не изменило в революционной стратегии декабристов. Пушкин, напротив, совсем по-другому оценил и поражение революционных сил на Западе, и роль народных масс в историческом процессе. И примерно через месяц «безмолвие» народа на Сенатской площади подтвердило его правоту. Разумеется, это не значит, что поэт, поняв силу народных масс, отказался от своего государственно-правового мировоззрения, от ограничения монархии конституцией и перешел на позиции самого народа. Вовсе нет. Однако в успех декабристов, среди которых, как известно, было немало его друзей и товарищей, он уже не верил. Думается, что Пушкин мог бы согласиться со словами Грибоедова, которого считал человеком государственным и очень умным, относительно перспектив декабрьского переворота: «Сто прапорщиков хотят перевернуть весь государственный быт России».
Можно предположить, что у поэта ко времени работы над «Борисом Годуновым» даже снизилась острота интереса к тайным обществам. В какой-то мере подтверждением этому, на наш взгляд, может служить совсем иное его отношение к разговору о тайном обществе с Пущиным в Михайловском в январе 1825 г. по сравнению с тем, который состоялся между ними до ссылки Пушкина на юг. Мемуарный источник, на который мы собираемся сослаться, один и тот же – записки самого И. И. Пущина. Во время первого разговора о тайном обществе Пушкин, как отмечалось, относительно этого предмета проявлял инициативу и обижался на то, что лицейский друг не ввел его в курс дел общества. При встрече в Михайловском, несмотря на то что на этот раз Пущин открылся другу, поэт уже не проявлял былой настойчивости[67]67
См.: Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1988. С. 67.
[Закрыть]. Эти рассуждения могут противоречить известным мемуарным свидетельствам, в соответствии с которыми Пушкин признавался Николаю I, что, будь он во время восстания в Петербурге, он был бы с восставшими. Сомневаться в искренности Пушкина здесь не приходится. Но одно дело, что Пушкин далеко не полностью соглашался с программой практических действий восставших и их планами государственного переустройства общества и что у него не было веры в успех. Другое – он не мог не разделить участь своих друзей, не мог не участвовать в их едва ли не с самого начала обреченной на неудачу попытке завоевать для России политическую свободу, отменить крепостное рабство. Восстание было поднято декабристами против ненавистной ему тирании, не ограниченного ничем самодержавия, против всего того, что он заклеймил в своих вольнолюбивых стихах, и против чего он сам призывал бороться. Самоустранение от участия в восстании выглядело бы для него самого предательством по отношению к своим друзьям и товарищам. Сомнение же в успехе дела было присуще не только Пушкину, но и многим декабристам. Даже К. Ф. Рылеев в написанной незадолго до восстания поэме «Наливайко» признавался:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?