Текст книги "Flamma"
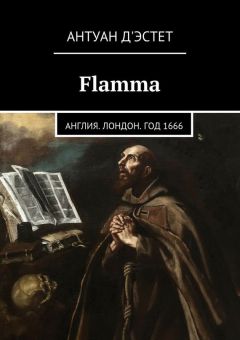
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Flamma
Англия. Лондон. Год 1666
Антуан д'Эстет
© Антуан д'Эстет, 2017
ISBN 978-5-4474-2768-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
1665 год. Непростой год для Англии. Взаиморасположение Марса и Сатурна, которое можно было наблюдать 12 ноября 1664 года, по мнению астролога Джона Гэдбери было предзнаменованием больших несчастий, а две кометы, – в конце 1664 года и еще одна в начале 1665, – указанием на их количество.
***
Война всегда большое несчастье. Она требует денег и уносит жизни тысяч людей. 14 марта 1665 года Карл II Стюарт – король Англии, Шотландии и Ирландии, официально объявил войну Голландии.
***
Тем временем в церкви Сент-Джайлс, расположенной в одном из портовых пригородов Лондона, один за другим погибали люди. Пока умирали нищие работники порта, массовые смерти не вызывали опасений правительства: их просто не замечали; но уже скоро чума коснулась и обеспеченных слоев населения.
***
29 июня 1665 года Карл II со своим семейством был вынужден покинуть Лондон. Вслед за королем в Оксфорд переселился почти весь королевский двор. Все, кто имел возможность покинуть город, спешили ею воспользоваться: знать покидала свои дома, купцы заколачивали лавки. Один из крупнейших городов Европы замер.
***
Сотни домов приговоренных, отмеченные кроваво красным крестом и надписью «Да поможет нам Господь», безжизненными окнами глядели, как по затихшим и опустевшим улицам Лондона, в черных плащах и устрашающего вида бронзовых масках с длинными носами, бродили, похожие на ужасных птиц, священники, врачи и аптекари. Склоняясь над жертвами эпидемии, в отблесках пламени горевших повсюду костров, они производили гнетущее впечатление, вселяя тоску и страх в тех, кто еще не был заражен.
Почти во всех газетах Англии приводились неутешительные сводки смертности: каждую неделю в одном только Лондоне погибало до двух тысяч человек. Месяцами люди засыпали под доносящийся с улицы призыв: «Выносите ваших мертвецов», и грохот колес тяжело нагруженной телами умерших телеги.
Повсюду жгли перец, ладан, благовония; курили табак, стараясь хоть как-то заглушить смрад разложения, окутавший Лондон. Печатались и распространялись брошюры с советами и указаниями, направленными на предотвращение заражения. Свозились в чумные ямы уже умершие, но все было бесполезно. К осени 1665 года смертность достигла семи тысяч человек в неделю. Черные язвы продолжали пожирать жизни людей. Ничто не могло совладать с «Черной Смертью».
***
Отчаявшись в людях и лекарствах, жители Лондона обратились к Богу и религии. Однако и здесь все оказалось не так просто: около десяти лет церковь Англии была лишена официального статуса. Приход Карла II к власти в 1660 году изменил ситуацию и ознаменовался возрождением Англиканской церкви. Однако не прошло и трех лет, как появились слухи о переходе в католичество. И не без оснований: среди придворных короля было немало католиков; а в 1662 году женой Карла стала португальская принцесса Екатерина Браганца – тоже католичка. Скоро в симпатиях к католической вере стали подозревать и самого короля. Эти подозрения некстати вспомнились во время чумы 1665 года.
Религиозная нестабильность была решена весьма необычным способом: в Лондоне появились секты.
***
Облегчение жителям Лондона принесло лишь наступление зимы: уровень смертности заметно снизился; в город постепенно стали возвращаться те, кому в свое время посчастливилось его покинуть; возобновилась торговля, открылись банки, начала работу биржа. Лондон ожил. Казалось, что Великая Чума 1665 года, унесшая десятки тысяч жизней, закончилась. Но бедствие, предвещаемое третьей кометой, было еще впереди, а значит, припорошенные снегом чумные ямы – это еще не конец… это всего-навсего передышка.
***
1666 год. Весь христианский мир пребывает в тревожном ожидании. Вся Европа устремляется в церкви и Лондон не становится исключением. Его жители уверены: если в этом году произойдет что-то страшное – это произойдет здесь.
Часть первая: Падение
Глава I. Дневник
Собор святого Павла – один из самых величественных храмов в Англии. Его каменная громада гордо высится над окрестными постройками, ничтожество которых неоспоримо в сравнении с его великолепием. Трижды этот храм повергался во прах; и неважно огонь или викинги были тому причиной, потому что Собор святого Павла трижды же восставал из небытия, с каждым разом становясь все более прекрасным и могучим творением людей и Бога. Даже сегодня, 13 февраля 1666 года, мощные стены собора, хоть и нуждаются в небольшой реставрации, выглядят столь твердо и непоколебимо, что трудно представить себе силу, кроме времени, способную их разрушить.
Внешнее величие Собора святого Павла, бесспорно, впечатляет. Однако не менее поразительно его внутреннее убранство. Массивные дубовые двери и скамьи; украшенные алым бархатом исповедальни; косые лучи света, проникающие сквозь высокие витражные окна и, дополняющий их, мягкий свет множества свечей вселяют в прихожан благоговейный трепет и ясно дают понять, что это место – святыня. И чувство благости лишь усиливается, когда во время христианских празднеств, под проникающее в самую душу пение церковного хора и снисходящую откуда-то сверху музыку органа, священники, сияющие в парадных одеяниях, проводят торжественное богослужение, являя прихожанам всю славу церкви.
Но помимо всего этого блеска и величия, доступных взору каждого, в соборе есть помещения, которые не дано увидеть простому прихожанину – священнические кельи. Одна из них – келья архидьякона Собора святого Павла, представляет собой весьма любопытное место. Это маленькая комнатушка расположенная неподалеку от ложи с органом, и, на первый взгляд, она мало чем отличается от подобных же помещений, занимаемых священнослужителями менее высокого сана. Однако, кроме обычных для непритязательных клириков предметов мебели (как например кровать) в келье архидьякона примостился резной письменный стол, на котором, в ночь с 13 на 14 февраля 1666 года, лежал весьма странный набор вещей: две жемчужины, – черная и белая, – выкатившиеся из небольшого кошелька; распечатанное письмо с обломками траурной печати и тяжелый золотой крест с пятнышком еще свежей крови на блестящей поверхности.
Впрочем, есть здесь еще кое-что необычное: за отодвинутым чуть в сторону шкафом с дюжиной толстых книг по богословию и медицине виднеется щель потайного проема. Там сокрыта от излишне любопытных взглядов узкая винтовая лестница, ведущая в каморку, меблировка которой чем-то напоминает саму келью, разве только здесь нет кровати (ее место занимает тяжелый обитый железом сундук) да книги в шкафу выглядят чуть более мрачными и ветхими.
В этой комнатке, за столом, грубо сколоченным из досок недорогих пород дерева, с пером в трясущейся руке, сидит, склонившись над толстой тетрадью, человек в черной сутане. При тусклом свете одной-единственной свечи в изящном серебряном подсвечнике он что-то сосредоточенно пишет. Опускает перо в чернильницу, заносит его над бумагой и торопится вставить в неразборчивый текст новую, такую же неразборчивую, фразу. Это нервная дрожь руки и порывистая резкость движений так плохо сказываются на его почерке. И все же, несмотря на чернильные пятна, размазанные буквы и неровный почерк, написанное, с трудом, но можно прочесть.
«Не знаю с чего начать…» – жирно выведено в самом верху листа желтоватой бумаги. – «Никогда раньше не вел дневник. Но теперь… мне это просто необходимо. Необходимо поделиться с чем-то своими мыслями. Не с кем-то, а именно с чем-то (ибо доверится, я могу лишь бездушию) и даже не мыслями, а переживаниями и страхами, иначе… я просто сойду с ума.
Начну, пожалуй, с того, что расскажу немного о себе. Мое имя Люциус, мне 33 года и я – священник. Думаю этого достаточно, чтобы тот, кто когда-нибудь прочтет мой дневник смог осудить меня за то, о чем я собираюсь здесь поведать. Сан архидьякона и служба в одном из крупнейших соборов Европы лишь отягчают мою вину. Но довольно! Пора снять частичку бремени с оскверненной души и хоть я не горю желанием заново переживать события этого страшного вечера, я знаю: бумага стерпит больше, чем живое сердце».
Глава II. Сон. Начало
Дневник.Запись от 13 февраля 1666 года.
Все началось еще ночью. Мне привиделся весьма странный сон:
Я стою где-то высоко-высоко, на краю обрыва, и смотрю ввысь, на затянутое облаками бескрайнее серое небо. Сквозь облака пробиваются узкие лучи мягкого белого света. Я слышу музыку и пение, на душе становится радостней и чище. Небо зовет меня! Зовет туда, куда с детства были устремлены мои взоры и помыслы. Я расправляю крылья и ощущаю в них приятное сопротивление ветра. Чувства уверенности и легкости переполняют меня. Кажется, еще мгновение и я взлечу…
…Но за этот короткий миг все меняется. Недавно белоснежное облако, прямо на моих глазах, теряет белизну и, стягиваясь к своему центру, начинает бешено вращаться, все больше и больше уподобляясь огромной воронке. Усилившийся ветер, остервенело, бьет по крылам, небесная музыка становится тяжелее, а пение громче и угрожающей. А потом… я вижу, как разгневанное небо низвергает из своего вращающегося чрева крылатый призрак женщины – тень, объятую ярким пламенем и стремительно падающую вниз…
…Заканчивается все еще скорее, чем начиналось. В мгновение ока исчезла с небес воронка и стих ветер. Небо очистилось и вновь стало таким тихим, спокойным, манящим… Все, что произошло несколько секунд назад, кажется всего лишь коротким неприятным сном и быстро стирается из памяти, как нечто такое, о чем не хочется даже задумываться, но… я все еще вижу ее…
…Падающая тень… Она так прекрасна! Она завораживает! Она – свидетельство обманчивости небес и напоминание о том, что им не чужда ярость. В сравнении с ней небо теряет свою притягательность, и я понимаю, что мой взор больше не поднимется до былых высот. Отныне я не смогу относится к небесам так, как раньше…
…Отрекшись от небес, я опускаю взгляд и вижу не имеющую края пропасть. Окутанная густым туманом, она так похожа, и в то же время не похожа, на простирающееся где-то далеко над нею небо. Кажется там, нашло свое место темное отражение небес и оно, как бы в насмешку переменчивому небу, не скрывает своего постоянства тьмы, а клубы красноватого тумана будто передразнивают зависшие в поднебесье облака…
…Я чувствую, как во мне зарождается невольная симпатия к этому доселе неведомому мне миру. И все мои прежние представления переворачиваются. У меня кружится голова. Я смотрю на крылатую тень и не понимаю: падает она или же взлетает. Впрочем, какая разница?! Давно ль я жаждал вознестись на небеса? А сейчас… я с той же страстью делаю шаг в пропасть… вслед за чудесной тенью покорившей все мое существо. И мне не важно, взлет это или падение, потому что это – мой выбор!..
…Я быстро приближаюсь к желанной тени, но чем меньше расстояние между нами, тем тяжелее становятся мои крылья. Огонь яркими синими языками лишает их былой покоряющей небо силы. Еще мгновение и я понимаю, что уже не лечу, а просто падаю…
…Мы погружаемся в багровый туман. Я настиг ее! Мои руки обхватывают невесомую тень, но я больше не чувствую за спиною крыльев. Могучий удар и…
…Я открываю глаза, лежа в грязи. Сверху, медленно кружась, на меня падают обуглившиеся перья. Какие-то жалкие существа нерешительно обступают меня. Это люди! Одетые в рубище, с горящими злобой и страхом взорами, они жадно тянут ко мне руки…
…Скрюченные пальцы безумной толпы больно сжимают мои плечи. Я стараюсь подняться, но ноги не слушаются меня; пытаюсь вырваться, но разбитая при падении спина пресекает все попытки к сопротивлению: любое движение причиняет мне невыносимую боль. К тому же, оглядываясь по сторонам, я нигде не нахожу очаровавшее меня виденье. И боль уже иного рода пламенным перстом пронзает душу: «Неужели это был всего лишь мираж? Простой обман, испытание веры?.. И я не справился… или она все-таки на самом деле есть!? Где-то здесь, где-то рядом? Тогда ей, как и мне, грозят нечистые руки погрязшего во злобе и зависти человечества, а я… я ничего не могу сделать»…
…Перед этими ничтожествами я вынужден почувствовать свое бессилие. Весь мой гнев, вся моя боль и унижение изливаются в одном невероятной силы яростном вопле.
Глава III. Пробуждение
Дневник.Продолжение записей от 13 февраля 1666 года.
Я проснулся от звенящего в ушах отголоска этого ужасающего крика и больше не мог уснуть. Пред моим мысленным взором, то и дело, возникали образы сна, упрямо не желая забываться. По телу разливались волны слабости, левая нога онемела, а спина болела так, словно мне действительно довелось упасть с большой высоты.
Пробуждение казалось не прекращением сна, а его продолжением. С самого утра этот день обещал быть необычным. Даже мрачным. Дурные предчувствия – предчувствия чего-то плохого, если не сказать ужасного, одолевали меня. И самое неприятное в том, что они незамедлительно стали сбываться.
На столе лежало письмо – обычный лист бумаги, сложенный вчетверо и скрепленный печатью на черном воске. Я не помнил, как оно попало в мою келью, но почему-то не был удивлен этому. Однако прочесть письмо долго не решался. Знаки траура заставили меня задуматься: «А стоит ли вообще читать это письмо, если заранее известно, что ничего приятного прочесть все равно не удастся?». Кажется, в такие минуты у нас есть выбор, но воспользовался ли им хоть кто ни будь? Не сделал этого и я. Я сломал печать и, сознательно причиняя себе боль, погрузился в чтение.
Письмо оказалось для меня ударом (как, впрочем, и все события этого забытого богом дня). Именно поэтому я приведу здесь его содержание полностью:
Дербишир, 11 февраля
Дорогой Люциус Флам! Не сочтите за дерзость и простите за то, что я осмеливаюсь писать вам, но я не могу поступить иначе. Я знаю, что вы не любили барона Анкепа. Вам всегда был глубоко ненавистен тот образ жизни кутилы и волокиты, который вел ваш дядя, и вы, надо полагать справедливо, презирали его за это. Но вы – единственный оставшийся у него родственник и именно вам я вынуждена сообщить, что 10 числа сего месяца, ваш дядя – Алджернон Пичер барон Анкеп – скончался. Мне известно о том, что не так давно вам довелось потерять обоих своих братьев, а посему, я думаю, эта новая утрата не станет для вас трагедией. И все же, примите мои искренние соболезнования.
Скорблю вместе с вами.Всегда ваша,экономка покойного барона Анкепа,Мери Сертэйн.
Дядя Алджернон… Мы действительно не ладили, но почему-то сильно защемило сердце, когда я читал эти строки. Будто какие-то предчувствия, или быть может воспоминания, не давали ему покоя. Как бы то ни было, предположение написавшей это послание особы не оправдалось: потеря родного человека – это трагедия… трагедия тем большая, что этот человек был моим последним родственником.
Не подумайте, что я рассказываю все это для того, чтобы оправдать то, чему нет оправдания. Нет! Просто я хочу, чтобы мой будущий судия, кто бы он ни был, мог проследить мое состояние, мои эмоций, мои чувства в этот несчастный день. Чтобы поставив себя на мое место, не в ущерб справедливости, он мог все же проявить ко мне хотя бы чуточку снисходительности. А эта новость… она тоской и болью омрачила и без того не радостное утро. Впрочем, то было лишь утро, и я, еще надеясь развеять сковавшие меня путы грусти, слегка прихрамывая на левую сторону, отправился выполнять свои обязанности настоятеля собора.
Из всех храмов Лондона, Собор святого Павла традиционно самый посещаемый. Ежедневно сотни прихожан спешат присутствовать на отправляемых здесь богослужениях, множество заблудших являются на здешние проповеди, десятки смущенных душ приходят сюда исповедоваться. Здесь всегда можно видеть молодую пару клянущуюся друг другу в вечной любви и верности или стоящего в сторонке человека, в гордом одиночестве воссылающего богу свою молитву. Редкий день обходится здесь без молебна, свадьбы или крещения. Атмосфера света, надежды, любви и благости царит в этих стенах, будто каждый из этих людей приносит сюда частичку своего внутреннего, духовного света, заставляя и сам храм сиять изнутри.
Но в этот день все было иначе. Полное отсутствие прихожан, явилось для меня неожиданностью и удивительным образом сказалось на всем соборе. Не знаю, сон и письмо ли так повлияли на мое восприятие, или так оно и было на самом деле, но я чувствовал, как гнетущая пустота поглощает его. Казалось, без людей, без их надежд, чувств, веры, храм покидает некий дух света, он теряет тепло и, уступая мраку и унынию, божья обитель превращается в простое строение из холодного камня, способное защитить от ветра и дождя, но не от огня внутренних тревог и терзаний.
Весь день я ждал и надеялся, что вот сейчас появятся люди, хотя бы один человек, который своей верой возвратит собору то его неуловимое свойство даровать спокойствие и изгонять горести, которое было мне так необходимо. Но время шло, а ощущение того, что священность храма также обманчива, как манящее спокойствие небес из моего сна, все возрастало. Скоро это место, ранее вызывавшее во мне лишь благоговение и восторг, стало мне отвратительно. Немногочисленные причетники (в своих темных длиннополых одеяниях похожие на привидений), снующие между тонущими в тенях арками собора, и слабо блестящие в полумраке кресты святых распятий напоминали больше гигантский склеп, нежели храм, и уже трудно было поверить, что это место, оставленное теплом, светом и самой жизнью, может посетить, что-то чистое.
Наверно поэтому появление под аркой главного портала собора мальчика лет 12 произвело на меня такое тягостное впечатление. Чувства бесконечной тоски и грусти непонятным образом смешались в моей мятущейся душе с ощущением некоторой радости, и я ни как не мог понять, что из этого истинно, а что ложно. Он направился прямо ко мне, а я не знал, что мне делать, как вести себя, словно во мне боролись два существа – вчерашний священник и нечто совсем иное, проснувшееся лишь этим утром и научившее меня видеть плохое там, где ранее я был склонен видеть лишь хорошее. Один из причетников, молодой Павел, выступил навстречу мальчику, подарив мне лишнюю минутку на то чтобы хоть немного разобраться в себе, но я встретил их все с той же растерянностью.
Оказалось, что жена, жившего здесь неподалеку, через реку, кожевника, прислала в собор одного из мужниных подмастерьев с тем, чтобы просить меня приехать и осмотреть ее захворавшего супруга. Ко мне довольно часто обращаются с подобными просьбами, и обычно я не упускаю случая помочь нуждающимся во мне людям, но сегодня, первым моим побуждением было отказаться. Не знаю почему. И возможно, откажись я тогда, не было бы всего остального, но…
– Вы лучший лекарь в Сити! – с восторгом глядя на меня, воскликнул мальчик. – Вы были Чумным врачом! Вы ведь поможете нам, правда?
…наивность этого вопроса, и осуждающий за промедление взгляд Павла, убедили меня согласиться выехать к больному.
Глава IV. Изгнание
Дневник.Продолжение записей от 13 февраля 1666 года.
Кожевник Скин жил на другом берегу реки Флит и, несмотря на явное намерение моего юного провожатого пройти весь путь пешком, я, принимая во внимание свою хромоту, настоял на том, чтобы найти извозчика. Благо на соборной площади они есть всегда, это не заняло много времени, однако сама поездка затянулась. Копыта извозчичьей лошади вязли в рыхлом снегу, и мы двигались очень медленно.
Скука почти всегда наводит тоску, а тоска навевает мрачные мысли. Всего этого я уже достаточно испытал сегодня в храме и, не желая возвращаться к этому вновь, я попытался завести беседу с сопровождавшим меня мальчиком. Он был светловолос, голубоглаз и, даже для своего возраста, немного низковат. К тому же он оказался крайне неразговорчивым: все, что мне удалось из него вытянуть так это то, что его зовут Том и он, скорее приемыш семейства Скин, нежели просто подмастерье. Как бы то ни было, поддержать разговор не получилось и мне оставалось только смотреть на пустынные, несмотря на непоздний час, улицы и темные дома, которые медленно оставлял позади себя наш экипаж, провожаемый угрюмыми взглядами их окон.
Погода так же была не самой приятной: мягкий туман окутывал крыши высоких домов, дворцов и церквей, бледной пеленой скрывая от глаз и без того не яркое в это время года солнце. Было довольно холодно, а в воздухе ощущалась сырость, и я порадовался тому, что, отправляясь в эту поездку, накинул поверх сутаны длинный подбитый мехом плащ.
Всматриваясь в очертания города, я почему-то ловил себя на мысли о том, что из-за тумана не было видно крестов на куполах храмов и часовен. Но мы миновали мост Флит, и я немного отвлекся от этой мысли, развлекая себя тем, что, как ребенок, силился угадать в какой именно из домов на этой улице мы едем. Это оказалось чересчур просто, потому как все дома здесь были одинаково слепы и лишь в одном из них горели огни – туда мы и направлялись. Через минуту извозчик остановил экипаж именно у этого дома – дома, возле которого нас уже ожидала полная, розовощекая женщина лет тридцати с красными заплаканными глазами, молоденькая горничная и светивший им старичок-слуга. В свете поднятого им над головой фонаря мне были хорошо видны скорбные лица всей троицы: они выглядели так, словно метр Скин уже скончался. Я, было, решил, что опоздал, но женщина, коей оказалась сама хозяйка дома – миссис Скин, – приблизилась ко мне, пригласила в дом, и, не затрачивая лишнего времени на церемонии да приветствия, сразу же повела к больному, попутно, сквозь душившие слезы, стараясь описать мне недуг, поразивший ее несчастного супруга.
Странно, но, ни слезы миссис Скин, ни ее немного дрожащий, но в целом приятный, мягкий и необычайно звонкий голос, ни скорбь всех окружающих, почему-то нисколько не трогали меня, не вызывали к ним участия. Отчего-то мне было неуютно и в этом, казалось бы, милом домике зажиточного ремесленника, убранном рукой, казалось бы, милой и приветливой хозяйки. Всё почему-то казалось показным и фальшивым настолько, что мне хотелось поскорее закончить с осмотром и покинуть этот дом – вернуться обратно во мрак и тишину сегодняшнего собора.
Но болезнь мистера Скина оказалась куда серьезнее, чем я себе представлял. Как только передо мной открыли двери в комнату больного, я позабыл обо всех своих ощущениях и намерениях и бросился к нему. На измятой постели, чуть не вываливаясь из кровати, извивался и корчился от нестерпимой боли мистер Скин. Крепкий и сильный мужчина изгибался с таким напряжением мышц, что было слышно, как у него хрустели кости. У несчастного не оставалось сил даже на крик – только хриплые стоны вырывались у него из груди.
Я был необычайно встревожен. Собираясь к мистеру Скину, я был уверен, что ничего страшного с ним не случилось, мальчишка Том так же ничего не рассказывал мне о болезни, и я взял с собой лишь небольшой футляр с самыми простыми и необходимыми инструментами: ничего что в тот момент могло бы мне пригодиться там не было, а на моих глазах, в страшных мучениях умирал человек, которому я ничем не мог помочь.
Страшная мысль, подогреваемая к тому же стенаниями супруги больного, в тот момент пришла ко мне в голову: облегчить участь страдальца, подарить ему быструю смерть. С ужаснувшим меня самого хладнокровием я взялся за скальпель – один из тех необходимых лекарю инструментов, который таки был в моем футляре – и с молчаливого согласия домочадцев Скина приблизился к нему самому. В ту минуту я считал, что это единственно правильное решение и все же на мгновенье заколебался. В остро отточенном лезвий орудия, которым я собирался лишить жизни пусть почти безнадежного, но еще живого человека, я увидел свое отражение, свои глаза – глаза полные такого огня несвойственных мне воли, властной самоуверенности и силы, что одного только беглого взгляда на них мне хватило для того, что бы изменить своему решению и бросить вызов чуть ли не самой смерти.
Необычайный прилив сил побудил меня развить такую кипучую деятельность, что я, пожалуй, не смогу припомнить подробности всего дальнейшего: я посылал Тома за нужными мне растворами и смесями, наказывая требовать их от аптекарей со всей возможной настойчивостью; велел слугам нести как можно больше воды; приказывал подмастерьям кожевника держать своего наставника, пока сам я поил его лекарствами и отирал язвы. Сила моего влияния в тот момент была такова, что все были послушны мне и подчинялись безоговорочно. Уже через час, больному (хочется верить нашими стараниями) стало легче, а еще через полчаса он погрузился в сон.
Жизнь мистера Скина была спасена и я, наконец, смог перевести дух и поразмыслить над причиной этой страшной болезни. Все что я видел, было очень похоже на симптомы сильного отравления. «Да, кожевнику в поисках хороших шкур и кож часто приходиться посещать дубильные мастерские, где используются различные соли, известь и другие, едкие и вредные вещества» – думал я. Но причиной этого отравления было нечто иное – чей-то злой умысел. Такое отравление могло быть вызвано только ядом. И судя по тому, как он распространился по всему телу несчастного, его поили этим ядом уже давно, маленькими дозами, позволяя отраве скапливаться в организме, медленно убивая его.
Решив, что кто-то из домочадцев несчастного может оказаться его жестоким и безжалостным палачом я очнулся от раздумий и обвел взглядом комнату, в которой уже не было ни кого кроме меня и мирно спящего страдальца: «Кто же мог решиться на подобную низость?» – спрашивал я самого себя, когда случилось нечто странное.
Кожевник Скин, казавшийся надолго уснувшим, вдруг неестественно медленно приподнялся в постели, и с той же медлительностью вздымая руку, указал на меня. Пораженный и даже немного ошарашенный таким странным и неожиданным поведением больного, я взялся за золотой крест на серебряной цепочке, браслетом овивающей мою руку, и перекрестился им. Жуткий крик раздался в этот миг за моей спиной, это миссис Скин, незаметно вошедшая в комнату, увидела исказившееся страшной гримасой лицо супруга. Казалось еще немного, и она лишится чувств: c безмолвно вытянутой вперед рукой и закатившимися зрачками кожевник выглядел действительно ужасающе. Ничего не понимая, я бросился укладывать его обратно в постель, но стоило мне прикоснуться к больному, как он стал биться в судорогах, и все началось сначала: истерические крики миссис Скин и ее просьбы прекратить мучения мужа мешали мне сосредоточиться.
Я снова взялся за скальпель; но не для того о чем меня так настойчиво и слезно просили. Не зная последствия ли это отравления или что-то еще, я решил прибегнуть к универсальному средству и пустить кожевнику кровь. Однако пока я готовился к кровопусканию, с мистером Скином, так же неожиданно, произошла обратная перемена – он снова спокойно спал. Устав удивляться, и к тому же на сей раз, со всей твердостью собираясь исполнить задуманное, я быстро подошел к спящему с крепко зажатым в руке скальпелем. Увидев мою решимость, и неверно расценив мои намерения, миссис Скин со страдальческим вздохом: «Благодарю вас! Надеюсь, так будет лучше, и да простит нас Бог, если мы не правы!», без чувств опустилась в кресло. Я же, прежде чем приступить к кровопусканию, стал нащупывать у больного пульс. И вновь мое прикосновение заставило его корчиться от боли. С непроизвольно вырвавшимся у меня возгласом «бесноватый!», я отдернул руку и, заметив на ней болтающуюся цепь с крестом, остановился пораженный внезапно озарившей меня догадкой: «Он действительно одержим!».
Желая проверить правильность такого предположения, я поймал все еще дергавшуюся в болезненных судорогах руку кожевника и безжалостно приложил к ней свой крест. Несчастный кричал и дергался так, будто его клеймили каленым железом, и в довершение этого сравнения отмечу, что когда я отнял крест, на месте где он соприкасался с кожей мистера Скина остался его явственный отпечаток. Не размышляя и не колеблясь более, я отворил вену больного (или теперь правильнее будет написать – бесноватого) и, видя, что дурная кровь не спешит выходить из этого измученного тела, тут же увеличил надрез. Тщетно! Кровь будто присохла к жилам. И тогда я догадался приложить к ранке крест: крик, запах паленой кожи и струйка горячей темной крови, вытекающая из надреза с каким-то отдаленно похожим на женский шепот свистом, указывали на то, что мера возымела свое действие. Постепенно звук похожий на шепот стал стихать, а кровь становилась все чище. Вместе с кровью менялось и поведение больного: к той минуте, когда миссис Скин пришла в себя, ее супруг вновь спал крепким и теперь уже действительно мирным сном, а я мог быть уверен, что моя работа, как врача и как священника, здесь закончена.
Меня провожали все: миссис Скин, Том, подмастерья, прислуга. Они изъявляли мне свою благодарность и признательность за «все, что я для них сделал», но, как и прежде, меня ничуть не трогали их слова и чувства; в них сквозила некая фальшь, или точнее натянутость. И мне снова вспомнился давешний сон: уж больно приторным был тон хозяйки, слишком показательна учтивость слуг, а выражаемые ими подобия светлых чувств были столь неестественны и прозрачны, что сквозь них явственно проглядывала некая нотка разочарования.
Всё это напоминало мне плохой и, к тому же, дурно реализованный спектакль: дом четы Скинов со всем его убранством – декорации; слезы из покрасневших глаз – театральный трюк; а все они – далеко не самых талантливых актеров, которые, все же, играют свою роль с понятным намерением внушить зрителю, что всё происходящее на сцене – реально. Я понимал, что это только игра, но еще одна театральная уловка, вроде той, которую используют на своих представлениях фокусники, желая доказать, что их фокус – настоящее волшебство, и вызывают в качестве помощника человека из числа зрителей, втянул меня в нее. Я все еще осознавал, что это спектакль и не верил ему, но, тем не менее, был вынужден принимать в нем участие – быть может незавидное, в связи с его вынужденностью, но еще более того неприятное, из-за той роли, которая, кажется, была мне в этом спектакле уготована. И при всем этом, мое положение в разыгрываемом здесь фарсе оказалось далеко не самым худшим: несчастный страдалец, больной кожевник Скин – вот еще один вынужденный (ибо сыграть такие муки невозможно) участник представления. Он был отравлен для выполнения своей роли, двинулся умом от нестерпимой боли (так в тот момент я объяснял себе его одержимость, не до конца веруя в то, что сам же видел) и все это ради неведомой цели жестокого организатора этого страшного спектакля. Цели, которая возможно навсегда останется для нас обоих тайной, как и личность того кто все это устроил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































