Текст книги "Flamma"
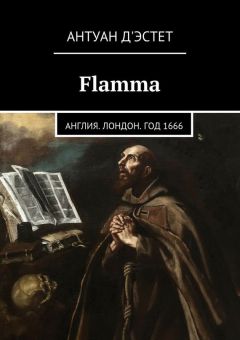
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Глава XXXI. Ритуал
Архидьякон приступил к выполнению своего обещания незамедлительно – в тот же, оказавшийся холодным и дождливым, вечер.
«Ее семья живет здесь неподалеку», – вспомнил он слова сказанные констеблем в таверне на Тайберн, и тут же отправился на эту нерадостную площадь.
«Ребекку здесь знают все», – прозвучала из уст Дэве в том разговоре еще одна фраза; и она себя оправдала: первый же встреченный Люциусом прохожий указал ему на высившийся в соседнем квартале дом, где по его словам и проживала семья Эклипс. Впрочем, жили они, как оказалось, не собственно в доме, а лишь в крохотной квартирке на верхнем этаже его, но, тем не менее, нужный адрес архидьяконом был найден весьма скоро. Однако когда перед Люциусом отворилась пронзительно заскрежетавшая хлипкая дверь, и он переступил порог этой по-настоящему жалкой квартиры, в голове его всплыли слова, так недавно сказанные маленькой Ребеккой в приюте умалишенных и оказавшиеся горькой правдой: «Дома не намного лучше».
Действительно, жилье Эклипсов явственно указывало на то, что хозяева его находятся если еще не на грани нищеты, то через край бедности уже переступили. Здесь была кое-какая мебель, но в ее удобстве и прочности возникали сомнения, здесь были заметны попытки поддержания чистоты и уюта, но они почему-то были заброшены. В этой квартире, – маленькой, холодной, неубранной, – еще не наблюдалось нужды, но словно бы поселилась… безнадежность.
– Вы живете здесь одна? – представившись и осмотревшись, тихо спросил архидьякон у, присевшей в реверансе и пропустившей его в унылое жилище, мамы Ребекки – Анны Эклипс – той самой женщины, о которой у Люциуса в театре сложилось впечатление как о не внушающей симпатий, но на самом деле оказавшейся довольно привлекательной особой. Впечатление от ее внешности, портили, пожалуй, только излишняя худощавость и никуда не годное, бросовое платье, но, то был отпечаток, наложенный на нее незавидным положением в обществе, а не природой.
– Генри ушел в Собор святого Павла, – ответила она, почему-то отворачиваясь, но по голосу Анны Люциус заметил, что его невинный вопрос чем-то сильно расстроил ее: к горлу молодой женщины словно подступил комок вот-вот долженствующий вызвать из ее глаз слезы. – Помолиться и поставить свечки… во здравие.
Архидьякона неприятно кольнуло то, что Анна произнесла слово «свечки», – во множественном числе, – но уточнить, почему она это сделала, он не успел: дверь за его спиной вновь издала неприятно скользнувший по душе звук, и в квартиру вошел мужчина.
– Отец Люциус здесь? – вопросил он, еще с порога. – Это правда?
– Да, Генри, – отозвалась, все более близким к слёзному голосом, Анна.
А архидьякон очень удивился:
– Кто вам сказал об этом?
– Некто Мортимер, – проговорил муж Анны, набожно целуя руку священника. – Этот человек уже почти неделю попрекает нас нашей жизнью, предлагает нам утешение «Отверженных» и грозит еще более несчастным будущим, а сегодня, когда я возвращался из Собора, наоборот, принёс такую радостную весть.
Люциус вздрогнул, услыхав имя главы сектантов, но вновь осмотревшись и вспомнив беседу с Ребеккой, грустно подумал:
«Может, в данном случае, Мортимер действительно прав, и небо отвергло этих людей?».
Он еще раз огляделся по сторонам: расшатавшаяся на ослабших петлях дверь и прохудившийся потолок, сквозь который капала, протекающая через гнилую крышу и чердак, вода, отчетливо напомнили Люциусу слова Маркоса Обклэра о трудной и полной изнуряющей рутины жизни. И архидьякон, разумеется о многом умалчивая, поведал Эклипсам оказавшуюся сейчас весьма кстати часть того разговора. Однако Генри в ответ на пересказанные священником взгляды Маркоса негодующе замотал головой.
– Домой, даже после тяжелого дня, я возвращаюсь с радостью, – горячо заговорил он, – потому что знаю: дверь, пусть и на расшатавшихся петлях, мне откроет любимая женщина, а на пороге, пусть хоть и сырой квартиры, встретит дорогой сердцу ребенок.
– Но ваша дочь в Доме скорби, – возразил Люциус.
– Тем сильнее боль от того, – наконец дала волю слезам Анна, – что и Теодора настигла болезнь.
– У вас есть сын? – переспросил архидьякон, не предполагавший в семье Эклипс второго ребенка и всерьез озадаченный этим поворотом.
Генри и Анна, казавшиеся олицетворение печали, кивнули. А в следующий миг священник услышал какой-то звук в соседней комнате и устремился туда, он рывком отворил дверь и, пораженный, замер на пороге. Там, в маленькой кровати, тяжело переворачиваясь на протертых и испачканных гноем простынях, лежал мальчик лет семи, кожа которого местами потемнела от набухших черных язв. Ребенок был поражен чумой.
Люциус, не в силах оторвать взгляд от так давно и хорошо знакомого, но по сию пору не переставшего быть страшным, зрелища, отступил на шаг от двери. Генри трижды перекрестился, шепча молитву, а сотрясаемая рыданиями Анна прикрыла раскрасневшееся от слез лицо руками.
– И даже теперь, – резко начал Люциус, обращаясь к отцу этого несчастного семейства, – когда одно ваше дитя находится в Доме скорби, а другое при-смерти, вы не испытываете соблазна перед верой «Отверженных» и не желаете принять от них помощи?
Генри под пронзительным взором священника опустил голову, но ответил твердо и решительно:
– Нет! Ведь для этого нужно пасть и совершить преступление, – сказал он. – А коль дети все равно обречены, к чему омрачать последние их минуты, погружаясь во зло. Может в будущем оно и облегчит нам с Анной жизнь, но точно не исправит наших ошибок и не восполнит наших потерь.
Архидьякон о чем-то напряженно задумался: сумасшествие и чума действительно считались болезнями неизлечимыми, но ведь помешательство Ребекки – притворство, а маленький Теодор…
Люциус, не отрываясь, смотрел на мальчика и словно бы колебался.
– Вы что-то хотите сказать, святой отец? – заметил его сомнения Генри.
Архидьякон вздрогнул, вырванный из своих мыслей.
– Заберите Ребекку из приюта, – почти приказал он. – Она притворяется.
Затем Люциус быстрым шагом вошел в комнату Теодора, взял обессиленного ребенка на руки и на глазах его изумленных родителей молча двинулся с ним к выходу. Однако минуя дверной проем, он остановился.
– Через три дня я приведу мальчика обратно, – твердо провозгласил архидьякон, оглянувшись через плечо.
И Анна Эклипс, перед этим открывшая было рот для возражения и протянувшая к уносимому от нее ребенку слабую руку, почти без чувств рухнула в заботливые объятия своего набожного супруга, а тот, почему-то испытывая к архидьякону большее доверие, чем она, утешительно поцеловал ее волосы и прошептал:
– Sileto et spera,77
Молчи и надейся (лат.).
[Закрыть] дорогая.
***
На улице, закутанный в вымокший под дождем плащ, Люциуса дожидался Мортимер.
– Вы обещали оставить меня в покое, – не замедляя торопливых шагов, напомнил архидьякон сектанту, когда тот двинулся вслед за ним.
– А я здесь не из-за вас, – откликнулся Мортимер, кивая в сторону мальчика на руках у священника. – Из-за них.
Архидьякон смерил сектанта полным призрения и отвращения взглядом.
– Что ж, – глухим тоном сказал он, – этих людей вы тоже не получите. Не смотря на все удары судьбы и ваши соблазны, они сделали правильный выбор и никогда не станут «Отверженными».
– Выбор?.. – неприятно засмеялся Мортимер. – По-вашему всегда есть выбор?
– Да, – ни на миг не усомнившись, ответствовал священник, уверенно глядя прямо в лицо сектанту.
– Тогда вспомните случай произошедший с Филиппом Вимером и Маркосом Обклэром, – предложил тот. – Был ли выбор у них?
– Да, у каждого, – с той же твердостью отозвался архидьякон.
– Но решение за них обоих, тем не менее, приняли вы, – резюмировал, жестоко усмехаясь, Мортимер; и, видя легкую растерянность резко остановившегося Люциуса, безжалостно добавил: – Ибо то было не их, а ваше испытание.
Священник и правда несколько опешил: подобная мысль не раз приходила ему в голову, но он всегда старался ее отогнать. Впрочем, и сейчас, догадавшись об истинной цели старавшегося его смутить сектанта, Люциус решил поступить также.
– Вам все равно не получить эту семью, – процедил он сквозь зубы и продолжил свой путь к Собору.
– А вам, так или иначе, не удастся спасти мальчика, – перекрикивая шум дождя, бросил вослед ему сектант, – также как раньше не удалось спасти и брата.
Священник вновь остановился, однако, посмотрев на умирающего мальчика в своих руках, умерил всклокотавшую внутри ярость и на сей раз даже не ответил Мортимеру. Он двинулся дальше. И пусть во время прошлогодней эпидемии архидьякон действительно не сумел спасти пораженного чумой брата, тогда он был лишь священником Люциусом и не отважился на шаг, который теперь мог оказаться вполне по силам мятежному Люсьен.
***
Архидьякон вернулся в Собор святого Павла в одиннадцатом часу вечера и с маленьким Теодором на руках, никем не замеченный, поднялся в свои покои. Он тщательно затворил за собой дверь кельи и, сдвинув шкаф, перешел в тайную комнату. Удерживая левой рукой больного, правой, священник сбросил все находившиеся на столе бумаги, чернильницу, подсвечник и другие предметы, затем аккуратно уложив на его опустошенную столешницу Теодора, а в последующие несколько минут уже принялся сосредоточенно перелистывать страницы, взятого с верхней полки книжного шкафа, внушительного тома в переплете из темной ткани. Он несколько раз прерывал чтение и вынимал из стоявшего у стены сундука флаконы со всевозможного вида мазями, жидкостями, порошками, снова и снова сверяясь с не имевшим названия мрачным фолиантом.
Но вот, наконец, священник опустил тяжелую крышку обитого железом ларца и, еще раз заглянув в книгу, приступил к последним приготовлениям для описанного в ней ритуала. Он поставил у изголовья больного подсвечник с зажженной в нем сальной свечой, расставил вокруг необходимые снадобья и положил блеснувший в неровном свете кинжал. Проделав все это, Люциус на какое-то время замер, словно бы собираясь с духом, а потом надел извлеченную все из того же сундука бронзовую маску с клювом и, распоров рубашку Теодора, обнажил его изрытую язвами грудь. Дрожащей рукой отер он тело лежавшего в полузабытьи мальчика прозрачной мазью из одного флакона, а мутновато-белой жидкостью из другого смочил его подергивающиеся губы.
Архидьякон в точности повторял все книжные инструкции, однако действовал трепетно и неуверенно, а когда пришло время взяться за кинжал, его рукоять и вовсе выскользнула из сделавшихся ватными от волнения пальцев священника. Люциус наклонился за важным для ритуала инструментом, а выпрямляясь, увидел как в лезвии кинжала, вместе с отблеском пламени свечи, отразились прекрасные рыжие локоны: за спиной священника из ниоткуда появилась Маргарита. Нежно шелестя платьем, она плавными шагами обошла стол и, склонившись над Теодором с противоположной архидьякону стороны, как всегда приятным голоском, запела:
Мы просим помощи у Бога и людей,
Но кто нам чаще помогает?
У Бога есть святой елей,
Но раны он не исцеляет,
А для души нет средства у людей,
Но снадобьями плоть они спасают.
Святой целитель, не робей
Молитвы с зельями объединяют,
Больной не плачь и будь смелей
Жизнь обреченным возвращают.
И станет на душе светлей,
Ведь Смерть порою понимает,
Что рано жертву дали ей,
И потихоньку отступает.
Присутствие Маргариты и ровный звук ее голоса подействовали на Люциуса и Теодора ободряюще: рука священника стала тверже, движения спокойнее, а взгляд уверенней. И пока девушка пела, он, нагретым над свечой острием кинжала, решительно пронзал одну за другой чумные язвины на теле расслабившегося мальчика, тут же, отирая извергавшийся из них гной тряпицами пропитанными смесью из содержимого трех разных флаконов. А покончив с этим, коснулся кинжалом пяти точек на животе больного, из коих выступили крохотные капельки темной крови. Священник необычными пасами провел пламя свечи над каждой из этих алых росинок и, как предписывал ритуал, уронил между ними каплю горячего свечного жира. Живот мальчика несколько раз судорожно сжался от щекочущего жжения, и этими движениями заставил пять кровинок, перетекая по телу больного, чудесным образом и всего лишь на какое-то мгновение слиться в ровные контуры колдовской пентаграммы – ритуал удался!
Огонек свечи, тепло собственной крови и горячее дыхание Маргариты и Люциуса бросили Теодора в жар и вместе с потом из кожи больного выступила вся оставшаяся в его теле скверна, которую архидьякон снова отер смесями своих зелий. Затем он обернул Теодора в один из своих плащей, прямо на полу сжег его старую одежду и, оставив убаюканного песней Маргариты мальчика в тайной комнате, спустился в свою келью, дабы тоже вкусить заслуженный отдых.
Рыжая девушка исчезла так же, как и появилась – таинственно и незаметно.
***
Трое суток архидьякон не покидал стен Собора святого Павла, тайно ухаживая за своим маленьким пациентом, а вечером третьего дня, как и обещал, отвел еще слабого, но абсолютно здорового ребенка домой – к семье, куда уже возвратилась и Ребекка. А покидая это жилище, в которое ему удалось вернуть детей и счастье, с удовольствием отметил, что дверь там теперь выпрямлена и не скрипит, а потолок, несмотря на не соответствующую радостному событию дождливую погоду, больше не протекает.
Глава XXXII. О войнах
Наступило 10 июня 1666 года – тот самый день, когда в таверне на Тайберн у архидьякона должна была состояться договоренная с Адамом Дэве встреча, однако прибыв в назначенное место вовремя, констебля Люциус там не застал. Впрочем, и уходить, убедившись в отсутствии собеседника, он не торопился: заведения подобные таверне на Тайберн, как известно, всегда были рассадником всевозможных слухов, и архидьякон, располагая обилием свободного времени и надеждой услышать что-нибудь важное или хотя бы просто интересное, решил остаться. И не пожалел. После нескольких минут разговоров о том, что ему было известнее, чем любому из здесь находившихся, – то есть о чудесном исцелении Ребекки и Теодора Эклипсов, – в таверне произошло событие весьма неожиданное для всех, кто в ней находился.
Эту жалкую забегаловку, дабы передохнуть и, как он выразился: «на ходу промочить горло», посетил курьер, одетый в ливрею цветов самого принца Джеймса. Весь в пыли, грязи, с окровавленными шпорами, усталый и запыхавшийся, он мог быть послан только с известиями о битве с голландцами, и потому, был тут же атакован посыпавшимися со всех сторон расспросами посетителей.
Подробностей посыльный его высочества сообщить не успел, так как очень торопился доставить доклады принца королю, пребывавшему тем временем в одной из своих загородных резиденции, – в Гемптон-корте, – но о том, что в продлившемся целых четыре дня упорном морском сражении английский флот потерпел поражение, он, все же, сказал несколько слов. Чего неприхотливой публике сего заведения оказалось вполне достаточно для того, чтобы сразу по уходу курьера громко удариться в критику правительства, адмиралтейства и даже поколения молодых солдат и моряков, которые: «ноныче идут на войну погибать, а не сражаться».
Дошло до того, что посетители постарше принялись вспоминать давно усопших (хоть и не самых великих) монархов, минувшие (а иногда и вовсе не происходившие) битвы и былые (порой сомнительные) победы. А потом, устав врать и сочинять друг другу байки, стали просить какого-то, явно авторитетного здесь по части рассказов, старичка с хитрыми глазами и густой квадратной бородкой поведать им какую-нибудь историю.
– Расскажу, расскажу, – ворчливо согласился, заставивший некоторое время себя горячо уговаривать, старик. – Куда от вас денешься? Вы ж меня без гарнира съедите, коль не стану.
И отхлебнув из высокой кружки знатный глоток пенистого напитка, начал свою повесть.
***
«Давным-давно и далеко не в наших краях, два могучих государства затеяли между собою войну. Надолго она затянулась, успех в ней сопутствовал то одной, то другой стороне, и в обеих странах, как водится, были свои герои этим успехам поболее других способствовавшие. Так вот один из таких героев, участвуя в тяжелых сражениях и рискуя своей жизнью в бессчетном множестве смертельных битв, заслужил себе множество почетных наград и великую, на всю страну, боевую славу, но… случилось так, что однажды он был ранен. Командование отправило достойного вояку на лечение в тыл, где он и провел несколько месяцев, а выздоровев, получил новую, еще более серьезную, рану: он узнал, что сын его застрелен, а жена умерла самой страшной из всех возможных смертей – от голода.
Герой, будучи абсолютно уверен, что с его семьей не могло произойти подобного несчастья, отправился в родной город, но, к сожалению, слухи оказались правдой: его сын был убит шайкой разбойников, вскоре после этого отпущенных городскими властями за деньги у его же сына украденные; а жена погибла от того, что мэр решил прекратить ей выплату ренты и пенсиона после того, как прошел слух о геройской смерти ее мужа. Тогда же был продан его дом со всеми владениями, и получилось так, что у Героя, кровью своей отстаивающего отечество, не осталось в нём уже никого и ничего.
Разбитый горем отправился он с жалобой в столицу своей страны, но на протяжении всего пути встречал лишь нищету и разруху подобную тем, что видел в родном городе.
«И ладно бы», – думал он, – «причиной этому была война, но ведь нету здесь о ней даже и намека. Повинны во всем сидящие в тылу власти, для которых война стала хорошим предлогом к грабежу того самого народа, который мы стараемся защитить, сражаясь на фронте».
И оказался прав, потому как столицу застал раздираемую теми же бедствиями, что и провинции.
Так, ни разу ни дрогнувший перед внешним врагом, Герой пошатнулся от коварного удара настигшего его изнутри собственной страны и, отчаявшись найти справедливость на родине, сделал то, чему еще до ранения предпочел бы смерть – перешел на сторону противника.
Однако воевать против своего народа Герой не стал: используя силы чужой страны, он делал лишь то, что могло открыть глаза его сограждан на творимые правительством бесчинства. Он срывал поставки оружия и боеприпасов, перехватывал обозы с провиантом и курьеров с приказами, подменял дипломатические сообщения и разведданные о дислокациях войск так, что ни одна битва не могла состояться. И наконец, его действия принесли плоды: войска, лишенные всего необходимого для продвижения вперед, стали оглядываться назад, они увидели, что их страна пришла в упадок, что семьи солдат и офицеров пребывают в нищете рядом с паразитирующими на них чиновниками… и ужаснулись.
Тогда на родине героя поднялось восстание, былое правительство свергли, а новое, отказавшись от войны, вновь направило страну к процветанию. Власти же чужого государства, обрадовавшись долгожданному миру, предложили Герою любую награду, какую он только попросит, но тот пожелал вернуться в свое отечество, а там, со всеми своими документами, дневниками и записями, сдался в руки правосудия.
– Сегодня мы должны казнить вас за предательство родины, – сказали ему, – но когда-нибудь эти документы послужат вашим оправданием в истории, перед потомками.
– Сожгите их, – ответил тогда Герой. – Ибо я молю Бога, чтобы потомкам не довелось узнать времен, когда предатели творят историю».
***
– А я говорю: ну их эти войны к черту! – проговорил кто-то после того, как рассказ был закончен. – И давайте выпьем за то, чтобы нашу с вами историю, творили простые люди.
Люциус, словно бы поддерживая этот своеобразный тост, воздел кверху руку с бокалом вина, затем выпил его содержимое, да так и не дождавшись констебля Дэве, покинул таверну.
Глава XXXIII. Кристофер
Следующие несколько дней архидьякон, возлагавший на сведения которые должен был доставить ему констебль Дэве большие надежды, и будучи если не обманутым в своих ожиданиях, то вынужденным эти ожидания продлить, как мог коротал время в Соборе святого Павла. Однако, несмотря на то, что храм повсюду внутри и со всех сторон снаружи оброс строительными лесами, и в нем с утра до вечера только и слышалось, что шум реставрационных работ да своеобразная ругань занятых в них строителей, скучно Люциусу не было. Больше того, в нередких перепалках, случавшихся между руководившим рабочими Кристофером Реном и неустанно наблюдавшим за реставрацией епископом, архидьякону удавалось извлекать кое-что для себя полезное.
– Я вижу вам не по нраву заниматься реставрацией Собора, господин Рен, – заметил однажды архитектору епископ.
И у него были поводы для недовольства: работа не спорилась, реставрация протекала очень медленно и, как ни странно, именно в тех местах, на которые епископ просил обратить возможно большее внимание, неторопливость рабочих была особенно заметной. За последние пару дней они, если и пускали в ход штабеля древесины, кирпич и мешки со штукатуркой, так разве только для того, чтобы обустроить во дворе Собора костровища и удобные для себя сиденья.
– Реставрация – это противление подгнившему строению устремиться во прах, – с некоторым раздражением проворчал в ответ епископу Рен. – И будь моя воля, я бы не мешал, а наоборот помог ему в этом. Я бы спалил храм дотла, а на пепелище возвел более грандиозное, нежели прежде, здание. Но… – он, ехидно усмехнувшись, взглянул на собеседника, – здорово, что мое решение ничего для вас не значит, верно?
– Так вот оно что! – наконец понял всё епископ. – Вы злитесь на меня за то, что я не дал вам отплыть с флотом на войну – за то, что я, возможно, спас вам жизнь!
– Нет! – опустив глаза и немного тише, чем прежде, возразил почувствовавший упрек Рен. – За то, что вы позволили себе принять решение за меня.
Епископ пожал плечами.
– Судя по результату, иногда бывает полезно предоставить выбирать за себя другим.
– И все же это неправильно, – пробормотал, несогласно мотая головой, архитектор, – несправедливо…
– Но порой к лучшему, – сурово отрезал прелат. – Вы, в отличие от тех пяти тысяч несчастных, коим удалось вступить в наш «непобедимый» флот, хотя бы живы, а в отличие от еще двух с половиной тысяч «счастливцев» попавших в плен к голландцам – свободны.
Кристофер Рен молчал и не поднимал на епископа глаз, будучи нещадно раздавлен этим аргументом, а прелат, как оказалось, еще не закончил:
– Во многом благодаря тому, что в свое время я воспротивился вашему решению пополнить собой английский флот, вы сегодня имеете возможность заниматься реставрацией Собора святого Павла, – жестко сказал он, а потом, тоном коему прекословить было невозможно, добавил: – и я буду вам премного обязан, если именно этим вы и изволите заняться.
Поставив, таким образом, на место, своенравного архитектора, епископ оставил его во дворе одного, а сам удалился вглубь Собора, где и был остановлен не упустившим ни слова из этого разговора архидьяконом.
– Ваше преосвященство, – выходя из-под арочной тени, тихим голосом обратился Люсьен к прелату. – Я слышал, как вы с господином Реном говорили о выборе… – он на мгновение замялся, как бы пребывая в нерешительности, а потом продолжил, – …точнее о чьём-то чуждом нам выборе, порой определяющем нашу дальнейшую судьбу.
Епископ удивился явному замешательству на лице и в голосе архидьякона.
– Да, – коротко подтвердил он, выжидающе глядя на собеседника, – это так.
– То же самое мне недавно говорил Мортимер, – сказал Люсьен, этим именем поясняя епископу свое смущение. – А теперь я вдруг вспомнил, что и в христианстве есть нечто подобное – крещение младенцев.
Прелат, чело которого омрачилось при упоминании о главе «Отверженных», услыхав вторую часть слов архидьякона, напротив, просветлел.
– Именно! – облегченно выдохнул он, надеясь легко справиться (как он подумал) с зароненными в архидьякона сектантом сомнениями. – И это делается для того, чтобы спасти души тех детей, которые могут погибнуть до того, как им доведется сделать свой выбор осознанно.
– Но подумайте, – возразил Люциус, – ведь этот Мортимер Култ и… неизвестный убийца – христиане! Неужели они, как и все мы, достойны прощения?
Епископ вновь нахмурился.
– Ну вот, – недовольно проговорил он, – сначала ты проявляешь неуверенность в правильности крещения младенцев, а потом ставишь под сомнение идею о христианском всепрощении…
– Так может система, коль уж в ней возможны такие ошибки, и правда не идеальна? – спросил архидьякон.
– А никто и не утверждал обратного, – улыбаясь, отозвался епископ. – Не зря, главным в религии всегда было понятие веры.
– Но во что верить, если даже выбор за нас порой делают другие? – не сдавался Люсьен.
Епископ жестом старшего друга возложил руку на плечо архидьякона и, доверительно заглянув ему в глаза, ответил:
– В то, что их выбор был к лучшему для тебя. В то, что твой выбор обернется к лучшему для них. В то, что однажды наступит такой ответственный момент, когда все получат возможность выбирать непосредственно каждый за себя и даже тогда! сделают выбор в угоду не себе, а другим.
***
Со времени несостоявшейся встречи с Адамом Дэве прошла уже целая неделя, а Люциус все не решался надолго покидать Собор святого Павла, справедливо полагая, что если констеблю нужно будет найти его, то первым делом он наведается именно сюда.
Так оно и случилось. Разве только искал священника не сам Дэве, а отправленный им курьер с адресованным Люциусу толстым конвертом, в коем оказалось без малого три письма, причем лишь одно из них от констебля. Взглянув же на имена отправителя и адресатов двух других посланий и, главное, на место их отправки, архидьякон ощутил, как на лбу у него от сильного волнения выступила испарина: отправителем был Кристофер, адресатами значились Люциус Флам и Жанна Обклэр, а местом отправки – Дувр.
Название портового города, из которого в конце мая отплыла на войну основная масса кораблей английского флота, потерпевшего в итоге поражение, сразу насторожила Люциуса. Однако, не желая поддаваться нахлынувшим на него дурным подозрениям, архидьякон отложил письма Кристофера в сторону и вскрыл печать на послании коснется.
Дувр, 15 июня
Здравствуйте, господин Флам! Прошу прощения за то, что не смог явиться на назначенную с вами встречу и даже написать удосужился лишь со столь неприличным опозданием. Однако в качестве обстоятельства меня извиняющего служит, оказавшаяся весьма неожиданной, сложность возложенного на меня вами поручения: кто бы мог подумать, что все будет так… запутанно. Впрочем, теперь я очень близок к завершению изысканий и уже через неделю надеюсь доложить вам об их окончательных результатах. А до той поры, дабы не дразнить ваше нетерпение, спешу сообщить о судьбе конюха с Пудинг-лейн – Кристофера. Вот только, если этот молодой человек был вам дорог, то чтение последующих строк моего письма дастся вам очень нелегко.
В середине мая Кристофер поступил добровольцем на один из военных кораблей английского флота, а уже в первые дни июня, стал, одной из многих тысяч, жертвой войны с Голландией, о неудачном исходе сражения с которой, вам должно быть уже известно.
Продолжаю заниматься поисками интересующих вас сведении,констебль Адам Дэве.P. S.: До скорой встречи! Там же, где и договаривались.
***
Архидьякон с задумчивой медлительностью свернул послание Дэве и перевел потускневший взгляд на отложенные в сторону письма Кристофера.
«Отчего это произошло?» – спрашивал себя Люциус. – «Влюбленный поступил бы на флот разве только с целью геройством впечатлить свою избранницу, но Кристофер… он шел не на подвиг, а на погибель. Почему?».
Архидьякон ни минуты не сомневался в правильности изложенных констеблем предположений и выводов относительно намерений Кристофера, однако понять причин, побудивших молодого человека, у которого были вполне осуществимые мечты и стремление к столь близкому счастью, на такой безрассудный шаг, он не мог.
«Почему он сделал это?» – еще раз задался вопросом Люциус; и с горьким вздохом протянув руку, взялся за адресованное ему письмо Кристофера, ибо, какую бы боль оно в себе не содержало, там был и ответ.
Дувр, 21 мая
Ваше преподобие господин Флам! Не думаю, что вы знаете меня, да и мне самому вы известны больше лишь понаслышке, но, тем не менее, однажды мы с вами встретились.
Это было 24 марта, в театре. Я очень хорошо помню тот вечер и то обсуждение моих чувств тремя совсем не знающими меня людьми, среди коих были и вы. А помню я этот вечер потому, что не прошло после него и трех дней, как слова одного из вас, – кого я счёл худшим из вас! – сбылись: я стал несчастен. Мне открылось, что Жанна, – та самая девушка, которую, не оставив мне выбора, избрало мое сердце, которую вы видели в театре и которую я никогда не смогу назвать «моей Жанной», – отдала все свои чувства другому – она отдала их вам.
Надо же! Священник, – служитель Божий, – явился причиной моего отчаяния, пусть невольно, но… как мне больно и как… завидно. Впрочем, я не имею ни права, ни желания винить или упрекать вас в чем-то, и у меня нет ни капли супротив вас злобы. Не нужно мне и сочувствия, просто… я хочу чтобы вы знали: сегодня я отплываю на войну с твердым намерением не вернуться обратно, а Жанну… бесподобную Жанну поручаю вашей любви. С надеждой на то, что вы разделите с ней счастье, на которое когда-то мог рассчитывать и я
Кристофер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































