Текст книги "Flamma"
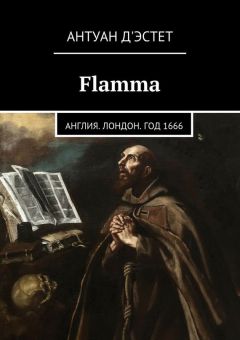
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Глава XXXIV. Поэзия несчастной любви
На следующее утро, – ни свет, ни заря, – чтобы наверняка застать Жанну дома, Люциус отправился на Пудинг-лейн – в дом пекаря Томаса Фаринера.
Тихие улицы еще только начинающего просыпаться Лондона и мягкая прохлада свежего летнего утра, сопровождавшие священника своим спокойствием, резко контрастировали с висевшим на душе тяжким грузом другим его спутником – письмом Кристофера Жанне. Люциус был почти уверен, что именно она открыла молодому человеку правду, которой тот не смог выдержать, а посему, вместо того чтобы просто передать письмо, он решил лично поговорить с девушкой и обратился к отворившему дверь слуге Фаринера с твердо изъявленным пожеланием:
– Я хочу видеть мисс Жанну Обклэр. Она, если не ошибаюсь, здесь служанка.
Молчаливый слуга низко поклонился высокому гостю и жестом пригласил архидьякона сначала войти в дом, а потом, закрыв за ним входную дверь, проследовать в помещение для служанок. В небольшом особнячке королевского пекаря в столь ранний час не спала только прислуга и, дабы не разбудить хозяев, провожатый архидьякона старался действовать, на сколь это возможно, осторожнее и соблюдать тишину, что накладывало на каждый его шаг и каждое его движение отпечаток некоторой медлительности, сильно раздражавшей Люциуса, стремившегося скорее покончить с предстоящей ему беседой. Но наконец, слуга по-прежнему мягко, почти бесшумно, отворил перед архидьяконом очередную дверь и, отступив в сторону, пропустил его в светлую горницу тихо, но весело хохочущих служанок Фаринера.
Кроме Жанны в комнате находились еще две женщины в белых чепцах горничных, но повинуясь суровому взгляду вошедшего священника, они весьма резво соскочили со своих табуретов и, прихватив с собою неразговорчивого слугу, исчезли за дверью. Жанна и Люциус остались одни.
– В прошлый раз, мисс Обклэр, – начал архидьякон, сделав по комнате несколько шагов, – мы, помниться, расстались с вами не самым лучшим образом.
– Да уж… – усмехнулась Жанна, под пристальным взором священника отводя глаза в сторону.
– И я хотел бы узнать, – продолжал Люциус, – к чему привела вас наша… разлука.
Реснички девушки удивленно взметнулись ввысь.
– Пришли полюбоваться на разбитое вами сердце? – с недоброй искоркой спросила она.
– Нет, – спокойно поправил архидьякон, – сообщить о сердце разбитом вами.
С этими словами он протянул Жанне письмо Кристофера, но пока что предназначенное не ей, а другое – адресованное ему самому.
– Не от вас ли несчастный узнал о… – Люциус не смог произнести: «о ваших чувствах ко мне», и, просто указав пальцем на письмо в руках Жанны, закончил: – …об этом?
Девушка тем временем скоро пробежалась взглядом по строчкам одного из последних посланий Кристофера.
– Ну да, от меня, – закончив чтение, подняла она глаза на архидьякона, и, пожав плечиками, добавила: – но я поступила ровно так же, как и вы – просто открыла ему правду.
Люциус закусил губу: слова Жанны были более чем справедливы, но ее бесчувственность поражала.
– Неужели вам абсолютно безразличен, тот, кто вас так любит, – не веря в то, что женщина может быть столь холодна, поинтересовался архидьякон; и тут же с грустью поправился: – точнее – любил.
– Я, кажется, уже говорила, – равнодушно заметила Жанна, – мне нет дела до тех, кто любит меня, если это не те, кого люблю я. А он, – она махнула исписанным рукою Кристофера листком, – оказался еще и слабым.
– Слабым? – переспросил Люциус. – Он поступил во флот, он отправился на войну, он пошел смерти навстречу!.. и все это от несчастной любви… Нет, он не слабый – он просто… романтик.
Жанна расхохоталась.
– Романтик…, – хмыкнула она. – Пусть так, но он добровольно расстался с жизнью: он спасовал перед неудачей и… уступил сопернику.
– Я не был ему соперником! – гневно прорычал архидьякон. – Вы это знаете, я это знаю!.. И он это знал…
Последние слова священник сопроводил указанием на одно из предложений в самом конце письма Кристофера: «С надеждой на то, что вы разделите с ней счастье, на которое когда-то мог рассчитывать и я».
– Вот разница между вами! – продолжал негодовать Люциус. – Вы бы написали: «видеть и знать что она счастлива с другим – выше моих сил», или что-либо подобное, но, так или иначе, подумали бы лишь о себе.
– А разве ваш друг епископ не сказал, будто бы любовь должна быть эгоистичной? – резко огрызнулась Жанна.
Люциус осекся: кроме его самого, припомнить эту фразу епископа мог только…
– Мортимер!? – мрачно усмехнулся собственной догадке священник, а девушка только подтвердила ее правильность, в осознании своей несдержанности и совершённой оплошности, потупив глаза. – Хм, я предполагал, что эта трагедия не обошлась без его участия.
– Почему же, в таком случае, вы не пошли со своими проповедями сразу к нему? – ехидно поинтересовалась Жанна.
– Потому что знаю: он предпочитаете рушить людские судьбы чужими руками, – отозвался священник. – Точнее, чужими решениями.
Жанна как-то странно улыбнулась.
– Верно, – подтвердила она. – И господин Култ объяснил мне, что именно ваше решение относительно меня стало судьбоносным для Кристофера: вы! виноваты во всем, что случилось с ним, – девушка снова взмахнула письмом, – и до него, – уже тише и горестнее добавила она.
– Виноват? – вслух помыслил Люциус, даже вздрогнув после жестокого (но не совсем справедливого и далеко не бесспорного) вывода Жанны. – А кто, действительно, виноват? Я ли, в самом деле, она, или же он сам, тем, что в наш равнодушный век позволил столь сильному чувству овладеть собой?
Девушка одарила священника неописуемым взглядом больших широко раскрытых глаз и в своем ответе сумела объединить сразу все варианты:
– Мы сами виноваты в том, что допустили в наши сердца чувства к тем, кто оказались их недостойны, – сказала она.
И в комнате ненадолго повисло молчание, во время которого на лице и в глазах Жанны, наконец-таки, проявились признаки изнуряющей внутренней борьбы – борьбы между зовом, требующим отмщения отвергшему ее чувства архидьякону, и глубоким сожалением о принесенной в жертву любви Кристофера. Эти, разрывающие девушку, противоречия не укрылись от внимания священника, и он открыл, было, рот, дабы словом своим склонить исход этого соперничества чувств к разрешению, с его точки зрения, правильному. Но Жанна, с поблескивающими выступившей на них влагой глазами и, кажется, даже, сглотнув подкатывающие к горлу слезы, сорвавшимся голосом потребовала:
– Уходите!
***
– Уходите! – повторила Жанна спустя какое-то время.
Но архидьякон не двигался с места и только оценивающе смотрел на прятавшую глаза девушку.
– Я уйду, – наконец тихо проговорил он, – но перед тем как покинуть вас, я должен отдать вам… это.
И, вынув из складок сутаны чуть помятое послание Кристофера, протянул его Жанне
– Это письмо предназначено вам, Жанна, – сказал Люциус, – и, я думаю, – несмотря на всё то, что мы сейчас наговорили, – вам все же будет интересно узнать, что именно написал в нем Кристофер.
Жанна, удивленная понимающим тоном священника, подняла на него увлажнившийся взор и тот, на миг, уверил архидьякона в том, что девушка вот-вот вырвется из сковывающих ее пут собственной боли, возможно, к тому же, затянутых Мортимером. Но что-то произошло… и когда взгляды Люциуса и Жанны встретились, в глазах девушки вдруг блеснула искорка гнева, она плотно сжала губы и, резко вырвав из руки архидьякона письмо, не задумываясь, швырнула его на тлеющие угли камина, со словами:
– Я ненавижу вас!.. и его.
Любовь вновь была принесена ею в жертву мести.
***
Тонкая бумага легко занялась пламенем, однако Люциус, бросившись к камину, успел-таки спасти частичку последнего послания Кристофера. И пусть его начало почти полностью сгорело, а изрядная доля уцелевших фрагментов своим содержанием очень напоминала письмо, написанное ему самому – архидьякону, в обугленных строчках все же удалось отыскать некоторые отрывки, отличные от уже знакомых Люциусу и рассказывающие о переживаниях их автора на всех стадиях его любви к Жанне.
Как с девушкою той мне объясниться?
И угораздило ж меня в нее влюбиться.
Эти строки архидьякону удалось прочесть на потемневшей от близко подобравшегося к ней огня части листа. И он сразу же принялся искать им продолжение.
О, девушка чудесной красоты!
Ты грезы мои, мысли и о счастье мечты,
Ты яркий света луч во мгле моей души!
Смиренно я молю тебя красавица скажи,
Как мне заслужить от тебя хоть слово любви.
Утешь мою грусть бальзамом надежды,
Дабы не истекло в отчаянья крови
Сердце, над коим безраздельно властвуешь ты!
Несколько строк ниже было невозможно прочесть: на это место стек с расплавившейся печати воск. Люциус попытался очистить его с бумаги, но вместе с воском удалялись и чернила, поэтому чтение пришлось продолжить с последующего отрывка.
Любовь как цель, любовь как средство,
Любовь – награда, любовь – месть,
Ужель сумеет нежное ее сердечко
Такую ношу вечно несть?
Ужели искреннее чувство
В ее душе свой отклик не найдет?
Любовь ведь даром пропадет,
И сердце тверже камня станет, —
Стрелой Амура не пробьешь, —
Оно влюбляться перестанет,
К нему ключа вовек не подберешь.
Очевидно, эти слова были написаны Кристофером уже после того, как он узнал о чувствах своей избранницы к архидьякону, и, тем не менее, молодой человек закончил свое письмо Жанне так:
За нежные волос прикосновенья
И сладостные сердца биенья,
За мечтаний красивых волненья
И те счастливые мгновенья,
Что привнесла ты в жизнь мою:
За все тебя благодарю,
А вместо подписи…
Люблю!!!
***
Все время пока Люциус читал оставшиеся в письме строки, Жанна искоса посматривала на него, но молчала.
– Что там написано? – наконец не удержалась полюбопытствовать девушка.
– Ничего из того, чего вы были бы достойны, – ответил, не глядя на нее, священник и, со вздохом бросив письмо обратно в камин, молча, вышел из комнаты.
Глава XXXV. Притча о праздности и забвении
Прошло еще несколько дней и 24-ого июня, руководствуясь выраженной констеблем в своем письме надеждой встретиться через неделю, Люциус вновь отправился в трактир на Тайберн. Впрочем, и в этот раз Дэве среди посетителей сего заведения не оказалось. Зато там, как и прежде, присутствовал лукавого вида старичок с квадратной бороденкой, и он только-только начал рассказ новой истории, к коему архидьякон, с большим удовольствием и непритворным интересом, прислушался.
***
«Давным-давно и далеко не в наших краях, жили по соседству друг с другом два очень богатых помещика. Были у них семьи, множество слуг, крестьяне и само собой обширные земельные владения. Вели помещики праздный образ жизни, не знали невзгод и не ведали никаких забот. Всё было у них под рукой: достаточно не то, что пальцем, бровью, шевельнуть, как тут же получали они желаемое.
Привычной стала для помещиков такая жизнь, и любые даже самые незначительные хлопоты стали им в тягость. Бывало, придут к ним слуги, с письмом или приглашением от других помещиков, а они нос воротят: «неинтересно… далеко…»; ждут крестьяне указаний перед посевами, а дожидаются лишь: «без меня управитесь»; обращаются к ним родственники, – на прогулку зовут, совета-помощи просят, – а они снова: «ну вас… позже… глупости…”. Так и жили в своих усадьбах оба помещика и не замечали, как вдруг перестали приходить к ним приглашения и письма, сделались незаметными их слуги, куда-то подевались все крестьяне и даже ранее шумные семьи однажды совсем не стали им докучать.
Тихо стало в обеих усадьбах, глухо; и вскоре оба помещика заскучали, да в кой-то веки захотели объехать каждый свои владения. Стали звать слуг – нет ответа. Что делать? Покричали, покричали, да все ж таки пришлось им поднять свои грузные телеса с давно насиженных кресел и самостоятельно отправиться на поиски тех, кому бы можно было что-нибудь приказать.
Долго искали; но в поместьях у них не оказалось ни одной живой души: куда ни глянь – всё пусто. Вышли тогда помещики на улицу, повстречали там друг друга, да и принялись сразу один другому распоряжения всякие отдавать. Однако, ни тот, ни другой, сами ничего, как следует, не умели и договорились, наконец, вместе себе слугу искать.
Скоро застали они в конюшне лениво дремавшего на копне сена кучера и, не сговариваясь, в один голос гаркнули:
– Ну-ка, разгильдяй, запрягай карету!
И вот экипаж готов, лошади запряжены: отправились помещики в путь. Проезжают мимо полей и прудов, рек и лугов, озер и лесов им принадлежащих, несколько миль уж едут, а ни людей, ни птиц, ни животных, ни скотины домашней всё нигде не наблюдают. Тишина вокруг. Только в их же упряжке еще слышно пыхтение лошадей да щелканье хлыста кучера. Но вдруг и помещичья карета затихла и остановилась. Выглянули помещики в окна экипажа: посмотреть «отчего так?», и увидали впереди туман, да такой густой и плотный, будто стена; и странный, словно нет за ним ничего – пустота.
Испугались помещики, и в то же время интересно им стало: «что за диво такое?». Стали кучера спрашивать, куда это он их завез, а кучера-то и нету – пропал. Ну да помещикам до него уж и дела нет: исчез так исчез – пусть его; им туман любопытней. Только вот ближе подойти боязно. И стали они спорить между собой: «кто пойдет смотреть туман такой – необычный?». Долго спорили, а в итоге решили кучера послать, да вдруг вспомнили, что нет его.
Так и сидели в карете: ни туман посмотреть, ни назад вернуться. Уже вечер наступил, а они все сидят. Страшно, голодно, холодно, да поделать-то ничего и не могут. Смотрят недовольно на лошадей в упряжке, а сами ни «тпру», ни «но» – не привыкли они к такому. Но вот, на их счастье, лошади тоже проголодались и к дому повернули.
Возвратившись в свои усадьбы, помещики только о том и думали, что не покинут их больше никогда, но и дома у них не все ладно было: трудно помещикам без слуг обходиться, а самим что-либо сделать – ну не благородное это дело.
Да и туман из головы у обоих никак не идет, он уже из их окон виден и все ближе и ближе к усадьбам подкрадывается.
«Что же за этим туманом-то находится?», – подумал однажды один из помещиков и понял, что не может он того припомнить.
Огляделся он тогда по сторонам, и показалось ему, что чего-то в поместье не достает: дом большой, а он там один; вещей и утвари всяческой много, а пользоваться ею некому. И понял он, наконец, что пуста его жизнь: всё имел да в праздности ничего не замечал, от всех забот отказался и все радости потерял. Были у него друзья, но не виделся он с ними, и забылись они; были у него слуги, крестьяне, семья, но мало он им внимания уделял и тоже потерял. Он лишил себя всех привязанностей и сам ограничил свой мир, непроглядным туманом.
Тогда помещик изменил своей праздности и начал жить по новому: он стал готовить еду, восстанавливать пришедшее в упадок поместье, убираться в доме – и из ниоткуда появились в помощь слуги; он стал пахать свои луга – и на поля вернулись крестьяне; он стал уставать – и его окружили друзья и родные; ему недостаточно стало места для посевов – и туман отступил.
Обрадовался исправившийся помещик и поспешил к соседу, дабы поделиться с ним своим счастьем и научить, как туман отогнать. Но застал в соседних владениях лишь разоренные луга, обветшалую усадьбу, да одиноко сидевшего в дряхлом кресле у окна помещика. Догадался он тогда, что не осознал его приятель своих ошибок и верен остался праздному ничего не деланью. Хотел объяснить ему исправившийся помещик что к чему, помочь, но тот, услыхав голос соседа, лишь поднял на него замутненные, невидящие глаза.
– Помнишь тот любопытный туман? – кряхтя и посмеиваясь, сказал он. – Помнишь, мы с тобой спорили, кому из нас идти смотреть его? Ха-ха-ха! – Помещик вытянул руку вперед, и на лице его отразилась радость. – Видишь! Не надо было никуда ходить. – И, умирая, прошептал: – Он сам пришел…».
***
– Кстати о помещиках… – негромко раздался позади архидьякона знакомый голос, как только рассказ старика был закончен. – Я посетил поместья, когда-то принадлежавшие вашему дяде, – в Дербишире, – и там тоже нашлось место загадочным явлениям.
Люциус обернулся и увидел за своей спиной того, кого собственно и дожидался – констебля Дэве, а тот, подсаживаясь за столик к священнику, продолжал:
– Мэри Сертэйн… не существует.
Глава XXXVI. Нити
После такого вступления приветствия были бы только лишними, поэтому архидьякон, дав с виду усталому констеблю всего лишь пару минут на то чтобы пригубить вина и чуточку перевести дух после долгого (судя по изгвазданной одежде) пути, требовательно произнес:
– Говорите!
Дэве быстро проглотил вино, которое только что неторопливо и с заметным удовольствием смаковал во рту, и, прокашлявшись, приступил к своему рассказу:
– Ваше преподобие, наверное, помните, что я и раньше проявлял сомнения по поводу авторства письма, написанного якобы экономкою вашего дяди? – с напоминания начал констебль и, усмехнувшись, сказал: – Так вот мои подозрения оправдались. – Адам Дэве сделал еще один крупный глоток из своего бокала и, на миг сморщившись, продолжил: – Правда,… не совсем так, как я ожидал. Я поехал в Дербишир, думая отыскать там Мэри Сертэйн слыхом не слыхавшую об интересующем нас послании, а оказалось, что во всем графстве слыхом не слыхивали даже и о самой Мэри.
Дэве сделал небольшую паузу в повествовании, словно бы припоминая, все подробности своих розысков, а архидьякон, понимая это, старался не торопить констебля. Но по мерно постукивающим столешницу костяшкам пальцев священника было ясно: он, все же, испытывает нетерпение.
– В общем, экономки у вашего дяди не было, – наконец вернулся к своему рассказу Дэве, – а последние несколько месяцев его жизни, господина Пичера окружали только престарелый дворецкий и столь же почтенного возраста горничная, из коих добиться чего-то вразумительного мне не удалось. Однако, памятуя отзывы о вашем дорогом дядюшке, я решил наведаться туда, где всегда можно приятно провести время в компании с выпивкой и женщинами.
Стук пальцев священника по столу резко оборвался.
– Как любил ваш покойный дядя, – с лукавой улыбкой поспешил вставить констебль, заметив на себе тяжелый взгляд Люциуса. – И единственным таким местом, более-менее приличествующим лицу дворянского происхождения, в Дербишире был местный постоялый двор. Не «Стар Инн» конечно, но, в сравнений с остальными тамошними забегаловками, заведение вполне достойное. Никого по фамилии Сертэйн там само собой не знали, зато про Алджернона Пичера, коего там величали попросту «Барон», кое-что выяснить мне удалось. В том числе и то, как он проводил время 11-ого февраля.
Дэве бросил на архидьякона многозначительный взгляд, словно напоминая, что названное число – именно то, коим было помечено письмо о смерти барона Анкепа.
– Ну, – показал, что помнит это архидьякон. – Продолжайте.
Констебль усмехнулся нетерпеливому любопытству священника.
– Если коротко, – начал Дэве выполнение просьбы Люциуса, – то ваш дядя и впрямь был тот еще пройдоха по части дорогих вин да смазливых дамочек. И одной из них ничего не стоило напоить «Барона» до такой степени, что он, шутки ради, запечатал своим перстнем письмо о собственной смерти.
Архидьякон изумленно вскинул брови.
– Ему было известно его содержание? – спросил он.
Констебль кивнул.
«Странно…» – подумал Люциус нахмурившись. – «Как часто в последнее время мне доводилось слышать о судьбоносном выборе… и вот новый пример».
Эта новость почти уверила его в том, что завершающий этап судьбы барона Анкепа нёс на себе нечистый след Мортимера, но одно обстоятельство все еще смущало священника.
– А вы узнали, кто была эта дама? – поинтересовался он у Дэве.
Тот снова сделал утвердительный жест.
– Разумеется. Однако за достоверность этих сведений я не поручусь: сами понимаете, они добыты из уст таких людей, которые и о вчерашнем дне с трудом вспоминают.
– И все же, – настаивал священник.
– Женщина лет тридцати; розовощекая и полнотелая, – ответил констебль и, бросив на архидьякона, явно недовольного таким скромным описанием, смеющийся взгляд, добавил: – Мне даже повезло настолько, что один из завсегдатаев постоялого двора назвал (весьма, кстати, недружелюбным тоном) ее имя… – Дэве подался чуть вперед и, пронзив Люциуса резко посерьезневшим взором, сказал: – миссис Скин, – а затем, откинувшись на спинку стула, в свою очередь спросил: – Не удивительно ли, что и о ней вы просили меня разузнать?
Архидьякон промолчал. Его разум с судорожной быстротой стал хвататься за обрывки добытой констеблем информации и вплетать их в нить произошедших с февраля по сей день событий. Более чем четырехмесячная история явственно предстала перед мысленным взором священника во всем своем неприглядном виде, и он ужаснулся, осознав, что почти вся она писалась под диктовку одного лишь человека.
– Я просил вас узнать также… – не обращая внимания на изменившийся тон констебля, начал Люциус.
– О Мортимере? – подхватил Дэве.
Архидьякон со все еще задумчивым видом кивнул.
– Это имя… – с неудовольствием и смятением протянул констебль. – Немногим оно известно, но из тех, кто его знает, одни постоянно снедают себя внутренними терзаниями, а другие отчего-то страшно высокомерны. И те и другие считают, что искать Мортимера не нужно, ибо, если вы ему понадобитесь, он найдет вас сам. Вот только первые добавляют к этому «Не дай Бог!», а последние – «Надейся…».
Дэве поднялся из-за стола и заглянул Люциусу прямо в глаза.
– Как бы то ни было, я не хочу вмешиваться в ваши с ним дела, – сказал он, – потому как уверен: они на порядок более мерзкие, нежели даже убийства.
***
В речи и поведении констебля вновь, – как несколько месяцев назад, – появилась неприязнь и враждебность к архидьякону, словно добытые сведения не только напомнили ему о былых подозрениях, но еще и укрепили их. Поэтому, со сказанными не самым доброжелательным тоном словами…
– Позвольте откланяться.
…и действительно небрежно поклонившись, он сделал шаг в сторону выхода из таверны. Однако звон монет заставил его остановиться. Это Люциус, в своей задумчивости не заметивший произошедших с Дэве перемен, выложил на стол кошель, издавший своим содержимым столь приятный для, успевшего попривыкнуть к кабакам, констебля бряцающий звук.
– Вы выяснили все, что мне было нужно узнать. Благодарю, – сказал священник, и вновь погрузившись в размышления о влиянии Мортимера на события, о которых в Лондоне до сих пор продолжались сплетни, не усмотрел, как его собственные действия повлияли на Дэве: самолюбие констебля и алчность завсегдатая таверн схлестнулись друг с другом в глазах растерявшегося Адама.
– Откуда у вас деньги? – странным голосом спросил он, не сводя зачарованного взгляда с лежавшего на столе мешочка и, словно бы думая: взять его или оставить. – Если не ошибаюсь, все свои капиталы, земли и доходы с них вы даровали его величеству.
– Сан архидьякона – не пустой звук, – отозвался Люциус, с интересом посмотрев на колеблющегося констебля и даже отвлекшись от своих раздумий. – Здесь мое священническое жалование за последние три месяца, – указав на кошелек, добавил он.
Дэве кивнул.
– Я слышал, вы исцелили детей четы Эклипс и вернули их к родителям? – неожиданно и едва слышно поинтересовался он.
– Да, это так, – коротко подтвердил Люциус, все более увлекаясь наблюдением за своим взволновавшимся собеседником.
– И… они по-прежнему бедны? – снова спросил Дэве у священника.
– К сожалению, – ответил тот.
– К сожалению, – глухо повторил Адам, и его лицо вдруг обрело безразличную твердость. Он схватил мешок с деньгами и, еще раз невыразительно поклонившись архидьякону, быстро вышел из таверны.
«Жаль…”, – решил Люциус, глядя вслед уходившему констеблю. – «Я, было, подумал, что он попросит отдать эти деньги действительно нуждающемуся в них семейству». – Священник тоже встал из-за стола и двинулся к выходу. – «Как же жаль!».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































